автордың кітабын онлайн тегін оқу Изобретение добра и зла. Всемирная история морали
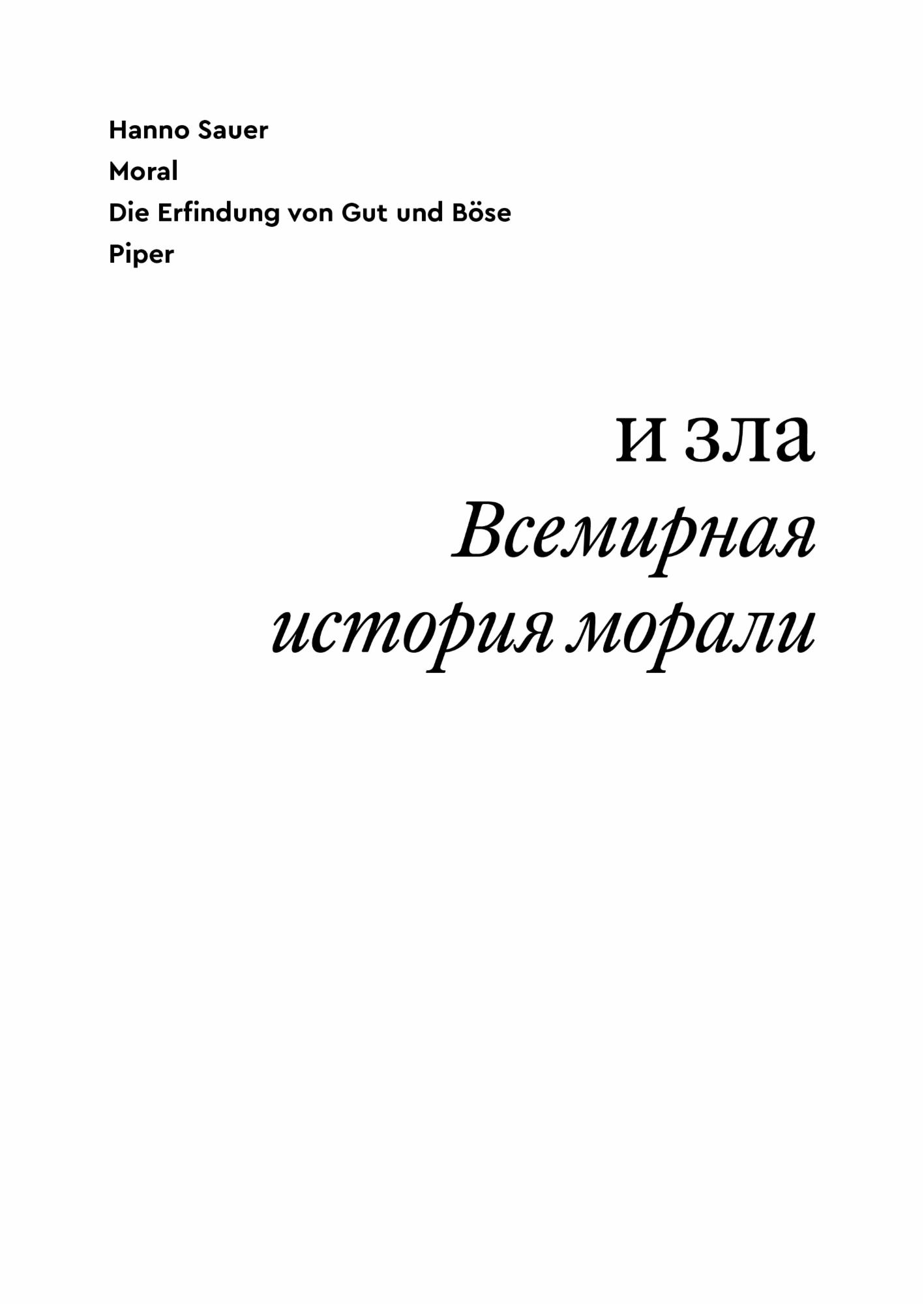
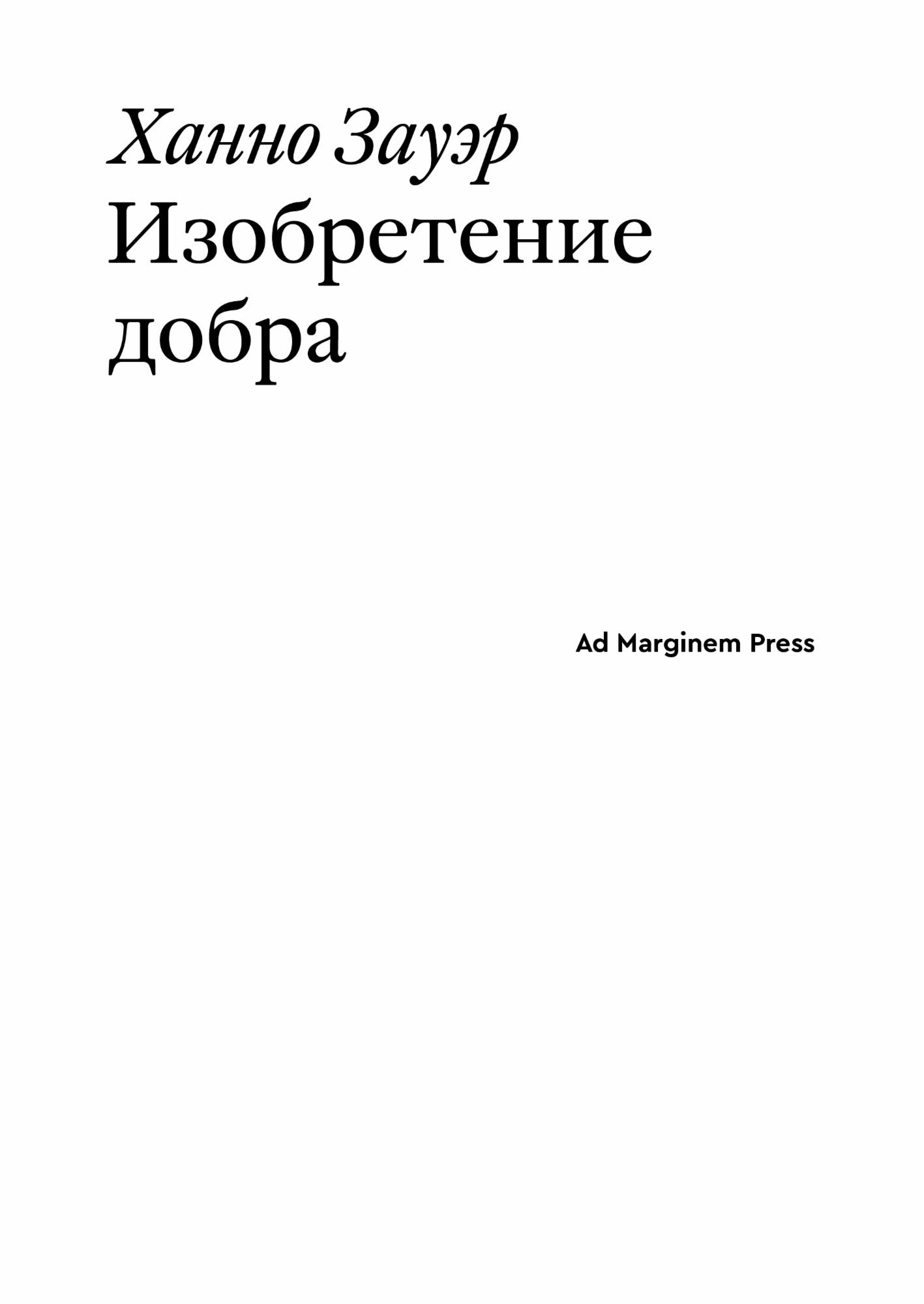
RES NOLUNT MALI ADMINISTRARI *
* «Дела не хотят, чтоб управляли ими плохо». Гораций. О поэтическом искусстве.— Здесь и далее астерисками обозначены примечания переводчика и редактора (с соответствующим указанием), а цифрами — затекстовые примечания автора.
Введение
Всё, что нам было важно
Позвольте рассказать вам историю. Будем ли мы еще любить друг друга, когда доберемся до ее конца?
Это долгая история, и она обо всём, что важно для нас: о наших ценностях, принципах, об истоках нашей идентичности и общности, о том, что нас сближает и делает врагами, о том, как мы судим других, как судят нас и в какой из этих ипостасей мы окажемся, проснувшись завтра.
Куда мы движемся? К какой жизни стремимся? Сумеем ли ужиться друг с другом? Насколько это удавалось нам в прошлом и удастся ли в будущем? Всё это вопросы, связанные с моралью, и история, которую я собираюсь рассказать,— о морали. Мораль для нас — что-то вроде уз и действия из-под палки, она ассоциируется с ограничением и самоотречением, инквизицией, покаянием и нечистой совестью, воздержанием и катехизисом, словом, это что-то безрадостное, клаустрофобное, с указующим перстом.
И это впечатление, в общем, нас не обманывает, просто оно неполное, и я постараюсь его восполнить. Мы проследим за фундаментальными моральными трансформациями человечества, начиная с самых далеких предков — даже еще не людей — в Восточной Африке и заканчивая новейшими конфликтами современного мира, которые возникают в мегаполисах и распростраются онлайн по поводу идентичности, неравенства, тирании и прерогативы истолковывать настоящее. Мы увидим, как на протяжении веков развивалось человеческое общество, как параллельно с новыми институтами, технологиями, знаниями и экономическими укладами менялись представления о ценностях и нормах и что у каждого из этих изменений есть своя изнанка, поскольку те, кто живет в обществе, отказывают в этом праве другим, кто знает законы, желает быть над ними, кто доверяет, становится зависимым, кто создает богатство, порождает неравенство и эксплуатацию, а тот, кто стремится к миру, иногда вынужден воевать.
Любая перемена неоднозначна, любое благо может обернуться грубой, темной, холодной стороной, за прогресс приходится платить. Ранняя эволюция нас сплотила, но в то же время и превратила во врагов всех, кто не принадлежит нашей группе,— кто говорит «мы», тот вскоре скажет и «они»; эволюция системы наказаний нас одомашнила, сделала дружелюбными и уживчивыми, но и пробудила мощные карательные инстинкты, мы стали ревностно следить за соблюдением своих прав; культура обогатила нас новыми знаниями и навыками, которым мы научились у других,— и от этих Других мы зависим; неравенство и власть принесли нам небывалое изобилие, но и породили новую иерархию и тиранию. Новое время нас раскрепостило, благодаря науке и технике мы подчинили природу и «расколдовали» мир — в итоге мы отдалились от дома, приобрели заморские земли и стали колонизаторами и рабовладельцами. ХХ век, желавший с помощью глобальных институтов водворить всеобщий мир и наделить всех равным моральным статусом, стал веком преступлений, беспрецедентных по своему масштабу, и поставил человечество на грань экологического коллапса. Сегодня мы пытаемся избавиться от последнего наследия деспотизма и дискриминации, от расизма, сексизма, гомофобии и маргинализации; несомненно, за это тоже придется заплатить.
Наша мораль — это палимпсест: пергамент, на котором один текст нанесен поверх другого, зачастую едва различимого и не поддающегося воспроизведению. Что же это такое, мораль? Как ее определить? В идеале — никак, потому что «дефиниции подлежит только то, что не имеет истории» [1]. Но у нашей морали история есть, и она слишком многослойна и громоздка, чтобы ее можно было вместить в стерильные формулы, которые мы придумываем, сидя в кабинетах. Тем не менее трудность определения морали вовсе не означает, что о ней невозможно ничего ясно сказать. Просто этого не расскажешь в двух словах.
История морали отнюдь не то же, что история моральной философии. О наших ценностях мы уже задумывались задолго до того, как стали записывать мысли о них. Законы Хаммурапи и Декалог, Нагорная проповедь, категорический императив Канта и veil of ignorance («занавес неведения») Роулза * играют определенную роль в моей истории, но совсем незначительную. Моя история — о наших ценностях, нормах, институтах и практиках. Мораль не в головах, а в городах с их мостовыми, в законах и обычаях, в праздниках и войнах.
* О понятии veil of ignorance философ и политолог Джон Роулз (1921–2002) говорит в книге «Теории справедливости» (1971).
Я надеюсь, что история, которую я собираюсь рассказать, прольет свет на настоящее. Современные общества проходят сегодня нравственную проверку, пытаясь совместить возможность дальнейшего существования с очень неприятными истинами нынешнего бытия. Как отражается на общей ситуации переживаемая нами сейчас перестройка моральной инфраструктуры? Откуда взялась та непримиримая поляризация, которую мы наблюдаем в настоящее время? Как связана культурная идентичность с социальным неравенством? В совокупности эти элементы, в конечном счете, сигнализируют о кризисе нынешней морали. Предлагаемый мною диагноз всецело вытекает из истории морали, которую я излагаю в этой книге. Понять настоящее можно, только обратившись к прошлому.
Если коротко, благодаря эволюции нашей морали мы обрели способность объединяться для сотрудничества, но эта нравственная установка распространялась только на тех, кто принадлежал к «своей» группе (глава 1: 5 000 000 лет). Эта потребность в сотрудничестве, возраставшая по мере изменений внешней среды, заставляла нас объединяться для совместной жизни во всё более крупные группы. Существовавшая система наказаний, с одной стороны, сплачивала группу и прививала толерантность, а с другой стороны, внедряла карательную психологию, которая бдительно следила за соблюдением внутренних правил (глава 2: 500 000 лет). Общая эволюция генов и культуры превратила нас в существ, способных учиться у других, аккумулировать информацию, обретать новые навыки и таким образом осваивать культурный капитал. В то же время это поставило нас перед выбором: у кого учиться или, иными словами, кому довериться и кому верить, следовательно, предпосылкой растущего доверия выступают общие ценности (глава 3: 50 000 лет). Нашему виду, то есть существам, научившимся объединяться, карать и передавать опыт, удалось создать настолько крупные сообщества, что их многочисленность грозила хаосом. Поэтому наш первобытный эгалитаризм сменили более строгие иерархические формы организации, которые разделили человеческие сообщества на социально-экономическую элиту и на политически и материально зависимое большинство. Социальное неравенство росло, а вместе с ним росло и наше отвращение к нему (глава 4: 5 000 лет). Понадобилось время, чтобы в истории морали сложилась культурная ситуация, когда родство и иерархию, структурировавшие общество, заменили отношения сотрудничества между автономно действующими индивидами. Этот новый этап социальной эволюции вызвал к жизни силы, породившие невиданный прежде экономический рост, научный прогресс, политическую эмансипацию и, в конечном счете, современное общество, в котором мы живем до сих пор (глава 5: 500 лет). Одновременно усиливался антагонизм между нашим отвращением к социальному неравенству и экономическими выгодами, которые сулит общественная структура, основанная на индивидуальных свободах. По мере роста материального благосостояния всё громче раздавалось требование достичь чаемого равенства, в итоге социально-политический статус дискриминируемых меньшинств стал для нас моральным приоритетом (глава 6: 50 лет). То, что эта проблема не решается так скоро, как нам хотелось бы, драматизирует нынешнюю ситуацию, в которой все основные элементы нашей истории морали соединились в гремучую смесь: морально взвинченная групповая психология быстро склоняется к социальному расколу. Трудности преодоления социального неравенства возбуждают подозрительность ко всем, кто, как кажется, не борется за общее дело с должной решительностью. Это усиливает разделение общества на «мы» и «они», вследствие чего мы легко поддаемся дезинформации, поскольку всё чаще в нашем решении, кому доверять, главную роль играют исключительно знаки моральной солидарности. Наша карательная психология начинает особенно пристально отслеживать эти символические маркеры групповой принадлежности и всё более жестко наказывать отступников. Современные конфликты идентичности — левых и правых — порождены этой динамикой (глава 7: 5 лет). Но этим не должно всё ограничиться, потому что наши политические разногласия, как правило, весьма поверхностны, на глубине же, под этой поверхностью, скрыты универсальные моральные ценности, общие для всех людей, именно они-то и могут послужить основой для нового взаимопонимания (заключение: будущее всех).
Как я уже говорил, это долгая история. Она начинается в незапамятном прошлом и заканчивается в будущем. Ее течение то плавное, то стремительное: между первой и второй главой проходят миллионы лет, тогда как последние три главы вмещают всего несколько веков. Однако выбранное мной хронологическое деление не надо воспринимать буквально. Многие из описанных событий наслаиваются друг на друга и не поддаются четкой периодизации. В периодах, на которые разбито повествование, следует видеть условную классификацию, помогающую расставить акценты и дать общее представление.
Возможны и другие подходы: например, историю морали можно было бы рассказать как историю развития человеческих сообществ — от небольших семейных групп числом, скажем, пять человек до первых кланов и племен численностью 50 или 500 человек, от первых городов с 5 000 или 50 000 жителей до крупных современных сообществ с населением более 5 миллиардов человек.
Историю морали можно представить также как историю разных форм человеческой эволюции. Она начинается с биологической эволюции, когда наша мораль выделила нас из животного мира как особый вид; она включает в себя и формы культурной эволюции, благодаря которым мы создали собственный мир; наконец, в ней запечатлен силуэт социальной и политической эволюции, формирующей современную человеческую историю.
Это может быть и история о том, что делает нас нравственными существами и конституирует особый человеческий мир,— история о нашей способности объединяться для сотрудничества, карать и доверять другим, о нашей зависимости от других, равенстве и иерархии, индивидуальности и автономии, о нашей уязвимости, общности и идентичности. Выбранная мной периодизация не более чем карта: карта не изображает реальность, она служит лишь ориентиром. Самая точная карта не всегда лучшая.
Каждая глава этой книги продолжает предыдущую, следуя внутренней логике повествования. Однако все части написаны так, что их можно рассматривать и как вполне самостоятельные, отдельные тексты. Кому интересна биологическая эволюция человека и то, каким образом она сформировала нас как моральный вид, могут ограничиться первыми главами. Тому, кто хотел бы узнать о ранней культурной истории человечества и о том, как мораль первых цивилизаций создала нашу культуру, будут полезны средние главы. Последние три главы адресованы в первую очередь тем, кто хочет лучше понять моральный дух современности. А тем, кто — как и я — считает, что настоящее мы понимаем лишь тогда, когда знаем прошлое, предлагаю прочитать всю книгу.
Это пессимистическая история прогресса. Она пессимистична, потому что в каждом поколении слишком много зла. И всё же это история прогресса, поскольку, похоже, в нас сохраняется передаваемый из поколения в поколение потенциал постепенного улучшения человеческой морали, и этот потенциал порой раскрывается. Моральный прогресс всегда возможен и часто реален. Но его нельзя воспринимать как должное — любое достижение нужно защищать от сил инерции, присущей косной человеческой природе, а также от иррационального мышления и безжалостной судьбы.
Мысль о том, что мораль с ее тайнами и противоречиями можно понять, только зная о ее истоках, не нова. Философский прорыв произошел благодаря Ницше, который назвал этот проект «генеалогией морали». Никто лучше его не знал, что сами по себе аргументы и факты не приводят к перемене взглядов. История о восстании рабов в морали, когда угнетенные и отверженные, отравленные обидами (ressentiments) на сильных, красивых и высокородных, совершают переоценку всех ценностей,— это риторический прием, призванный заронить подозрение к моральным «предрассудкам» *. Критикуя актуальную мораль, Ницше предлагает собственную позитивную альтернативу, возвращающую нас к истокам морали, той морали, которая основана на мирских ценностях великодушия, доблести и жизнеутверждающего творчества.
* Подразумевается критика Ницше восходящей к иудаизму христианской морали, которая, по его мнению, под маской благочестия скрывала ненависть и озлобление и которой изначально двигали обида и желание реванша.
В работе «К генеалогии морали» Ницше объясняет, что переоценка ценностей, вывернувшая наизнанку понятия добра и зла, хорошего и плохого, была тонким навязыванием «стадной морали», посредством которой слабые и бесправные сумели психологически воздействовать на благородных и сильных таким образом, что последние стали считать отверженных достойными любви, а нищих — истинно богоугодными. Эта генеалогия пытается убедить нас в том, что моральное сознание в большей степени обусловлено инстинктом жестокости, чем внутренним голосом (голосом Бога), беспристрастно напоминающим о наших моральных обязанностях; она также дезавуирует всякий моральный аскетизм самоотречения как симптом упадка и враждебности к жизни.
Главная проблема ницшеанского рассказа о происхождении морали — в том, что он неправдив. Тезис, будто господствовавший в то время христианский идеал смирения и равенства, умеренности и сострадания возник из бессилия и ненависти к себе бесправных людей, чья зависть и неизбывное презрение к блеску сильных мира сего побудили изобрести ценности, враждебные жизни, не выдерживает исторической проверки [2].
Многое остается под спудом. Тем не менее теперь мы знаем, каким должен быть вопрос о происхождении морали и каким может быть ответ. Следует заглянуть дальше, чем предлагает Ницше, сосредоточившийся на переходе от мирской, героико-аристократической этики Античности к христианской этике раннего Средневековья, которая подчеркивала человеческую греховность, трансцендентность и добродетели сострадания, смирения и самоотречения. Следует рассмотреть куда более фундаментальную проблему: как вообще возникла человеческая мораль. Только тогда мы увидим, как изменились со временем наши ценности и олицетворяющие их социальные структуры.
Излагаемая мной история морали — не традиционная историография, апеллирующая к конкретным, более или менее подтвержденным событиям и процессам. Это форма «глубокой истории», которая не отсылает к датам и именам, а предлагает правдоподобный сценарий.
Точный ход событий вряд ли когда-нибудь будет воспроизведен, поскольку колодец прошлого глубок (и, пожалуй, непостижим). Приходится полагаться, насколько это возможно, на навигацию различных дисциплин. Генетика, палеонтология, психология и когнитивистика, приматология и антропология, философия и теория эволюции — все они представляют свои точки зрения, из которых складывается единая картина.
Выявит ли эта история, как считал Ницше, pudenda origo наших ценностей — их позорное начало? Сможем ли мы по завершении ее по-прежнему любить друг друга? Сокрушит ли неудобная правда, увиденная в холодном свете дня, нашу уверенность в своих ценностях? Выдержит ли наша мораль проверку? Или же от нашего великого праздника останутся только руины, ненависть и позор?
Мы не знаем, что нас ждет в будущем, не знаем, как мы будем (и будем ли) жить вместе. Но это и не так важно. Наши моральные ценности подобны фарам: в их свете немногое разглядишь вдалеке, но с их помощью можно проделать большой путь. Эта история о таком пути.
И начинается она так.
2. Stark R. (1996); см. также Prinz J. (2007), 217ff.
1. Ницше Ф. К генеалогии морали. С. 457. [Здесь и далее при наличии изданного русского перевода источника указано название и страница русского издания. Эти издания также внесены в список литературы.— Ред.]
5 000 000 лет
Генеалогия 2.0
УПАДОК
С засухой исчезли и деревья. А на расколотой земле образовались искромсанные долины и крутые овраги, гигантские мрачные озера и болота, высокие горы и отлогие холмы. На месте роскошных лесов, которые прежде давали нам приют среди лиан, огромных, покрытых росой папоротников и сочных олив, где меж корней и разноцветья, поднимавшегося из земли, росли душистые грибы, появились колючие заросли, кустарники и острые травы.
Как только мы покинули деревья, а деревья покинули нас, мы очутились на безбрежной голой равнине. В этом новом, бескрайнем мире вместо дождя низвергались камни и огонь, и почти нечем было питаться. Зато здесь рыскали столь же голодные и более быстрые, чем мы, крупные хищники со свирепыми мордами.
Хозяйственная сумка на колесиках, и до половины не заполненная окаменелостями [1],— вот всё, что осталось от наших далеких пращуров. Во всяком случае, ничего, кроме нескольких зубов, фрагментов черепа, обломков надбровных дуг, частиц верхней и нижней челюстей, а также пары бедренных костей, обнаружить не удалось.
Профессиональная терминология сбивает с толку. Сегодня разные таксоны (от древнегреческого táxis — расположение) определяются в зависимости от того, на какой из ветвей зоологического родословного древа мы себя видим и какие различия и эволюционные ответвления хотим подчеркнуть: семейство гоминид (Hominidae) включает в себя, помимо рода гомо, всех человекообразных обезьян, то есть горилл, орангутанов и род шимпанзе (Pan), к современным представителям которого относятся обыкновенный шимпанзе и бонобо; обозначение гоминины (Homininae) не включает подсемейство азиатских понгинов (орангутанов) и зарезервировано только для африканских человекообразных обезьян, к которым принадлежат шимпанзе и гориллы, а также человек. Наконец, термин гоминини (Hominini) охватывает всех людей в узком, но всё же не в самом узком смысле: это таксон — биологическая триба,— куда входят самые ранние человекоподобные (но, по общему признанию, еще не вполне человеческие) существа, которые начали заселять земли Южной и Восточной Африки около пяти миллионов лет назад. К ним причисляют австралопитеков и ряд других более привычных категорий, таких как «человек работающий» (Homo ergaster), «человек прямоходящий» (Homo erectus), «гейдельбергский человек» (Homo heidelbergensis) и «неандерталец» (Homo neanderthalensis). Из этих гоминини сегодня остались только мы — «человек разумный» (Homo sapiens).
ОБЩНОСТЬ
История эволюции первых гоминини — это история самых ранних, проточеловеческих предшественников со времени их отпочкования от пращуров, общих с другими ныне живущими человекообразными обезьянами. Этот первый и важнейший этап нашей эволюции произошел примерно пять миллионов лет назад [2].
Добытые окаменелости — за исключением самого древнего сахелантропа чадского (Sahelanthropus tchadensis), чей асимметрично деформированный череп нашли в пустыне Джураб на севере Чада в Торос-Меналла,— были обнаружены в Восточной Африке на территории современных Эфиопии, Кении и Танзании. Это фрагменты бедренной кости и кости большого пальца оррорина (Orrorin tugenensis), найденные в слоях геологической формации Лукейно на зеленых Тугенских холмах; коренные задние зубы ардипитека рамидуса (Ardipithecus ramidus) и нижняя челюсть австралопитека в Афарском треугольнике на берегу реки Аваш (Australopithecus afarensis, к которому относится и Люси). Вторая крупная находка окаменелостей имела место в Южной Африке, в пещерах Стеркфонтейн и Глэдисваль, Дримолен и Малапа, где были найдены останки разных наших предков. Не исключено, что этими «посланиями в бутылке» мы обязаны леопардам и другим крупным хищникам, которые жили в этих пещерах, тащили туда добычу и там пожирали ее.
Эти окаменелые останки сегодня разбросаны по палеоантропологическим научно-исследовательским центрам в разных странах мира, где их задокументировали, заархивировали, зарегистрировали, присвоив бюрократические ярлыки. Так, сахелантроп именуется прозаично и просто — TM 266, оррорин — BAR 1000’00; другие части, фрагменты и куски указаны как Stw 573, KT-12/H1 или LH4. Ардипитека рамидуса назвали не очень оригинально, но все же — Арди [3].
История человеческого становления, которую приоткрывают эти находки,— всего лишь черновик. Она, как иногда говорят философы, остается «пленницей эмпирических данных» и в любой момент, в свете новых открытий, может подвергнуться пересмотру и коррективам или устареть. И это хорошо и правильно, так как неизменными бывают только догмы, в науке же долговечные выводы — скорее исключение. Обращение к нашему глубокому прошлому всегда умозрительно, но не в смысле туманных, непроверенных или притянутых за уши предположений, а в том основательном смысле, что легионы пытливых умов, вооруженных сложнейшими методами сравнительной анатомии, молекулярной генетики, радиоизотопного датирования, биохимии, статистики и геологии, стремятся воссоздать из множества разнородных теорий и сведений наиболее достоверную версию человеческой истории. Эта реконструкция, однако, по-прежнему зависит от того, какими секретами земная кора решит поделиться с нами посредством геологических находок. Здесь мы нередко уподобляемся пьянице, который ищет под фонарем потерянный ключ и на вопрос, почему именно под фонарем, отвечает: тут светлее.
Колыбелью человечества мы считаем Восточную Африку, поскольку именно там геологические условия позволили обнаружить слои горных пород, которые в других частях света остаются погребенными под десятками метров щебня, песка и глины. Кроме того, во всех научных дисциплинах существует иерархия стимулов, и она-то соблазняет даже самых серьезных антропологов возводить последние находки к нашим прародителям, а не к тривиальным видам. Неудивительно, что до сих пор не найдены окаменелости шимпанзе и бонобо,— и это понятно: «кто же откажется от шанса прослыть первооткрывателем древнейшего гоминина, а не какого-нибудь древнего понгина» [4].
Когда мы говорим о самых ранних человеческих предках, отделившихся в ходе эволюции от остальных приматов, мы имеем в виду животных, чья физиономия и внешний вид весьма отдаленно напоминают современных людей. Едва ли больше метра ростом, покрытые густым черно-бурым мехом, с характерными для приматов длинными руками, выдающейся вперед мордой и широкими открытыми ноздрями, эти протолюди больше походили на нынешних обезьян, чем на нас. Первые признаки культуры и интеллекта, проявившиеся у наших предков при решении проблем, обнаружились гораздо позже: примитивным каменным орудиям, прославившим Олдувайское ущелье в Танзании, не более 2,5 миллиона лет.
Тогда еще было тепло, хотя и не слишком, потому что места нашего обитания обычно находились на высоте более 1 000 метров. В этих бескрайних редколесьях и степях мы день-деньской рыскали небольшими группами, выискивая в земле съедобные корни и клубни, горькие побеги и растрескавшиеся корневища, орехи и термитов, а если везло, находили и останки животных, не доеденные гиенами или львами — куда более талантливыми, чем мы, охотниками в то время. Оставшиеся на трупах сухие мясные ошметки обеспечивали нас белком, как и костный мозг, и мозги, которые мы мастерски выковыривали из треснувших черепов.
Для человеческой эволюции плейстоцен, начавшийся два миллиона лет назад, стал решающей геологической эпохой. На земле царствовала причудливая мегафауна: бродили мамонты, шерстистые носороги, саблезубые тигры и гигантские броненосцы. Все они вымерли, отчасти с нашей помощью.
Мы жили в суровом, опасном мире. Открытое пространство, похожее на саванну, созданное Восточно-Африканским разломом и превратившее восточную часть континента в знойную степь, сделало нас легкой добычей для хищников, от которых мы уже не могли спастись, быстро карабкаясь под кроны деревьев. Горная гряда, поднявшаяся на западе, отгородила эту территорию от ветра и дождей, которые прежде приходили с Атлантики и обильно орошали почву [5].
Отпечатки ног, сохранившиеся под пеплом вулкана Садиман в Лаэтоли, принадлежат семье — двум взрослым и ребенку, оставившим свои следы почти четыре миллиона лет назад. Это самое древнее и надежное свидетельство о прямоходящих. Такому двуногому образу жизни способствовали новые условия обитания вне дремучих лесов. Хотя мы долго еще оставались виртуозными верхолазами, нам всё чаще приходилось преодолевать большие расстояния на своих двоих. На плоских, поросших кустарником широких равнинах имело смысл шагать быстрее и быть зорче.
Социальную жизнь группы ранних гомининов можно рассмотреть сквозь призму современной модели бюджета времени [6]. В конечном счете, чтобы выжить в окружающем мире, мы, приматы (и другие существа), должны были делать три вещи: заботиться о пище, об отдыхе и друг о друге. Имея какое-то представление о том, каким был в ту пору архаичный мир и каким чистым суточным временем (то есть за вычетом ночи) располагал тот или иной вид, можно определить оптимальную численность групп, чья сплоченность полностью обеспечивалась так называемым грумингом — взаимной заботой, ставшей главным социальным мотиватором среди приматов. У тех, кому приходилось изрядную долю времени искать пищу и какое-то время отдыхать, оставалось максимум x времени на то, чтобы заботиться о других. Этого промежутка было недостаточно для поддержки группы численностью более двадцати человек.
Почему же социальная жизнь была так важна для наших предков? Почему наша способность кооперироваться стала играть столь значимую роль? Эти вопросы возвращают нас к климатическим и геологическим изменениям, вызванным Восточно-Африканским разломом.
Первой фундаментальной трансформацией человека как нравственного существа стало открытие морали. Большинство видов животных руководствуется инстинктами, которые обусловливают и поддерживают сплоченность группы. Косяки рыб, словно призраки, повинующиеся неслышному ритму, действуют слаженно благодаря стадному инстинкту; разделение труда у таких общественных насекомых, как пчелы или муравьи, доведено до совершенства, зачастую достигаемого ценой полного самопожертвования особи ради блага улья или колонии. И та разновидность общности, которая сформировала человеческую мораль, тоже зижделась на том, что интересы индивидуума всецело подчинялись общему благу, выгодному всем.
Возникшая человеческая общность стала первой важной ступенью к нравственному преображению нашего вида. Почему общность? Уникальной способностью объединяться для сотрудничества мы обязаны климатическим и географическим сдвигам, приведшим к смене тропических лесов открытыми, пустынными, как саванна, ландшафтами. Это также объясняет, почему наш жизненный уклад так радикально отличается от образа жизни шимпанзе и бонобо. Наши ближайшие родственники, которых миновали климатические потрясения, продолжали жить в густых чащах вокруг реки Конго в Центральной Африке и, следовательно, подвергались совершенно иному давлению отбора. Разрушение окружающей среды и возросшая угроза со стороны хищников побудили нас сплотиться ради общей защиты и тем самым компенсировать собственную уязвимость. Силу и опору мы нашли в более крупных группах и более тесной кооперации. Собственно, мы, люди,— это то, во что превратились самые умные обезьяны, вынужденные в течение пяти миллионов лет жить на просторах бескрайних саванн [7].
АДАПТАЦИЯ
Обращаясь к нашей эволюционной истории, эволюционная психология пытается объяснить что-то в настоящем. У нее неважная репутация: многие видят в ней неуклюже замаскированную псевдонаучную попытку узаконить предрассудки. Это подозрение небеспочвенно. Исследования гендерных различий побуждают некоторых умников «потехи ради» плодить невероятные истории — то есть такие версии нашего первобытного прошлого, которые нельзя проверить, но которые звучат правдоподобно,— чтобы объяснить, например, почему женщины любят покупать обувь, а мужчины — смотреть футбол. Архетипическая женщина в такой версии предстает собирательницей фруктов и ягод, обожающей находить и приносить домой маленькие, пестрые предметы. Тогда как у мужчин, чьим извечным призванием была охота, бесконечное восхищение вызывает, естественно, физическое соревнование, нацеленность на борьбу и победу. Поэтому и сегодня, согласно этому взгляду, хорошо и правильно, когда мужчина, кормилец семьи, приносит домой трофеи, а женщина, в свою очередь, заботится о том, чтобы всегда выглядеть мило.
Да, обвинения эволюционной психологии в шовинизме вовсе не безосновательны. Тем не менее то, что наполовину эта дисциплина — сексистская чушь, не означает, что другая половина непременно столь же легкомысленна. Бесспорно, эволюция сформировала нашу психику так же, как и наше тело. Было бы удивительно — и даже возмутительно и непостижимо,— если бы естественный отбор оставил след только на том, что ниже нашей шеи.
Эволюционные психологи стремятся приладить к психологии эволюционную теорию. И прежде всего пытаются выяснить, как эволюционные коллизии отразились на наших мыслях, чувствах, восприятии и поведении, а попутно — извлечь из вчерашнего дня уроки для дня сегодняшнего.
Одна из важнейших целей их программы — понять, в каких условиях проходила эта эволюция. Ведь не случайно же мы сторонимся змей и пауков, в городах разбиваем парки, напоминающие ландшафт саванны, любим посидеть у костра, не устаем перемывать косточки другим, вздрагиваем от внезапного шума и, наконец, можем всё оставить и махнуть куда глаза глядят. Кстати, наш глаз из всего спектра электромагнитного излучения воспринимает только один вид излучения, а именно тот, который испускают биологические тела, поэтому мы его видим (и называем «светом»). То же можно предположить и о других особенностях человеческой психологии. Наш ум и сегодня воспроизводит модели, которые когда-то обеспечили Homo sapiens преимущество перед конкурентами. Свойство, дающее такое конкурентное преимущество, называется «адаптивным». Не все наши способности непременно эволюционного происхождения. Однако сложные функциональные свойства, скорее всего, адаптивны — или, во всяком случае, такими были в пору, когда мы обитали в среде эволюционной адаптации.
Наиболее интересные достижения эволюционной психологии связаны с объяснением многих нестыковок в человеческом мышлении и поведении. Наверное, самый известный пример противоречия между умом и окружающей средой — наше почти безграничное пристрастие к сахару. Углеводы — основной источник энергии в человеческом организме, а энергия, как правило, всегда в дефиците. По этой причине вполне логично, что в ходе эволюции мы унаследовали пристрастие, благодаря которому не упускаем ни одной возможности полакомиться сладким. Пока углеводы дефицитны, такая предрасположенность остается адаптивной, поскольку пристрастие к сладкому превосходно мотивирует нас прибегать к этому ключевому источнику энергии. Но как только мы покинули среду эволюционной адаптации и обрели безграничный доступ к запасам сахара и энергии через супермаркеты и АЗС, наше пристрастие стало проблемой: эволюционный императив, побуждающий нас потреблять как можно больше энергии, впрок и на худой конец, теперь приходится сознательно обуздывать.
К сожалению, наша психология отягчена целым арсеналом атавистических влечений, в силу чего современное общество представляет собой всё более враждебную для нас среду, в которой мы вынуждены постоянно, ценой больших усилий подавлять древние инстинкты, образчики мышления и поведения. Отсюда насущная потребность в самоконтроле и постепенно въедающаяся «неудовлетворенность культурой» [8], так как с устранением материальных забот одновременно усиливаются притязания к когнитивной сфере. В результате укореняется парадоксальное восприятие: материальное благополучие развитых человеческих сообществ вроде бы обещает счастье, которое, однако, исполняется удручающе медленно (и никогда полностью), поскольку за каждый новый виток социальной интеграции мы расплачиваемся еще более высокими ожиданиями.
История морали несет на себе те черты эволюционного прошлого, которые обусловили характер нашей общности и степень готовности к ней. Эта готовность, мы знаем, проявляется у нас поразительно спонтанно и разнообразно. Но почему?
Решающая стадия собственно нашей человеческой эволюции — то есть эволюционная предыстория, которую мы не разделяем с другими млекопитающими, амфибиями или амебами,— проходила в чрезвычайно нестабильной среде обитания. Это отнюдь не означает, что в то время была какая-то особенно непредсказуемая погода. Нет, речь идет о том, что в течение многих поколений разным популяциям наших предков пришлось иметь дело со стремительно и резко меняющимся климатом, с катаклизмами, которые в прежние времена происходили куда реже и не были столь масштабными. Неустойчивая природная среда потребовала более высокой маневренности и изворотливости для того, чтобы добывать пищу, чередовать подвижный и оседлый образ жизни. Благодаря этому наши предки открыли для себя новые жизненные пространства, при этом их внешний облик даже не претерпел еще никаких метаморфоз. Первые технологические прорывы помогли найти эффективные способы противостоять вызовам природы и выживать в новых экологических нишах. Всё более своенравная окружающая среда также способствовала разумному уменьшению рисков. Если 3 из 20 хижин ежегодно страдают от ураганов, и неизвестно, какая хижина пострадает в этом году, то имеет смысл принять общие меры безопасности, чтобы защитить членов группы от превратностей судьбы.
Присутствие более крупных видов млекопитающих сделало коллективную охоту изобретательной. Многие животные охотятся сообща, но по точности и слаженности действий человек не имел себе равных. Со временем наши предки всё больше стали заботиться о добыче мяса крупных животных. Логично, что это обстоятельство содействовало постепенному формированию коллективных намерений — так называемых мы-интенций [9],— направленных на то, чтобы осваивать сложные навыки охоты и применять их вместе с соплеменниками. Параллельно начали складываться правила, регулирующие как участие в охоте, так и дележ добычи.
Итак, как общественные существа мы стали пожинать плоды сотрудничества, к которому нас подталкивала природная или социальная среда. И возник так называемый эффект масштаба, когда выгода от сотрудничества тем больше, чем больше участников. Это явление, которое экономисты называют increasing returns to scale (возрастающей отдачей от масштаба), подразумевает, что успех совместных действий не всегда развивается линейно, иногда он неожиданно детонирует. Если в охоте на слона или зебру должны участвовать, по меньшей мере, шесть соплеменников, то выбор между охотой группой из пяти и охотой группой из шести человек — это выбор не между пятью или шестью кроликами, а между пятью кроликами и слоном.
Чтобы проиллюстрировать тип кооперации, о котором идет речь, рассмотрим теоретическую модель, известную как «охота на оленя». Она предполагает двух участников (A и Б) и два варианта охоты (на оленя или зайца). Оленя охотники могут загнать только сообща; зайца затравить может любой из них. Итог охоты во многом зависит от того, насколько согласованны будут их действия. Если А станет охотиться на оленя, а Б — на зайца, то А уйдет домой с пустыми руками, но и Б упустит шанс заполучить оленя. Оптимальный результат будет достигнут лишь в том случае, если оба решат охотиться на оленя.
В среде эволюционной адаптации мы жили небольшими группами. Ключевым понятием в эволюционной антропологии считается число Данбара. Британский антрополог Робин Данбар показал, что от величины неокортекса приматов зависит верхний предел численности группы и что крупные группы с соответственно более сложной социальной структурой предъявляют более высокие требования к усвоению информации [10]. Нужно было решать, кому можно доверять, и постоянно подтверждать свою социальную репутацию, а для этого требовалось уметь различать, кто хороший друг или учитель, кто лучший охотник, повар, следопыт и, не в последнюю очередь, кто кого, когда и как сильно обидел.
Расширение сообщества, однако, в перспективе разрушительно, поскольку природа не предусмотрела для нас институциональных инструментов, налаживающих устойчивые долговременные коллективные отношения. Данбар даже определил оптимальную численность человеческой группы: с учетом среднего объема головного мозга, она не превышает 150 человек. Этот показатель мы обнаруживаем в самых разных средах — и в племенных обществах, и внутри любой военной структуры. Грубо говоря, у каждого из нас может быть не более 150 приятелей, с кем мы готовы выпить в баре [11]. Человеческие сообщества, конечно, способны объединить гораздо больше, чем 150 человек, и в этом их особенность. Но это стало возможно относительно недавно и не без институциональных подпорок, позволяющих образовывать большие группы на основе сотрудничества. Стихийные же сообщества распадаются, как только превышается их оптимальный численный потенциал.
Малочисленные группы, в которых жили наши эволюционировавшие предки, постоянно находились в состоянии если не явной, то скрытой войны всех против всех. С одной стороны, к кровавым столкновениям за скудные природные ресурсы в далеком прошлом приводили непредсказуемые внешние условия. Вопрос, можно ли назвать (вслед за Томасом Гоббсом) человека волком, спорен. Тем не менее данные судебной археологии недвусмысленно указывают на то, что человеческие группы были крайне враждебно настроены друг к другу [12]. Как известно, в некоторых племенах охотников и собирателей-кочевников отсутствовало даже представление о естественной смерти, не вызванной насилием со стороны кого-либо из соседнего племени. Неудивительно, что встречи доисторических групп часто заканчивались жестокими усобицами. Эволюционисты полагают, что территориальные войны и борьба за ресурсы велись непрерывно, и эти групповые конфликты служили идеальным инструментом отбора, благодаря которому прививались навыки кооперации [13]. Чем сильнее выживание индивида зависит от преуспевания группы, тем энергичнее альтруистические усилия во имя общего блага. Мало кто приводит войну в качестве примера взаимного альтруизма, но с технической точки зрения это верно: кто участвует в сражениях, тот подчиняет собственные интересы коллективу и, таким образом, выбирает сотрудничество [14]. Личный вклад несоизмерим с победой (или поражением) в войне. Плодами победы пользуется и тот, кто уклоняется от сражений. Таким образом, войны — это классическая проблема коллективных действий. Насколько же нравственны военные действия, служащие общему благому делу, второстепенно: само сотрудничество составляет основу человеческой морали, даже если оно преследует гнусные цели.
Скорее всего, не только эпизодические встречи с иноплеменниками порождали вспышки насилия, они были частью стратегии, результатом запланированных набегов враждующих групп. Этому способствовал упомянутый капризный климат, так как частые миграционные перемещения значительно повышали вероятность столкновения ранее изолированных групп. Этнографические исследования ныне живущих коренных народов воспроизводят ту же картину. Внутри группы, среди своих, наши предки были убежденными пацифистами, а вне группы, для чужаков — бандой убийц и грабителей.
Среда эволюционной адаптации — это не место, которое можно обвести на карте мира, и не исторический период, который можно отметить на временной шкале. Эволюционное прошлое — собирательное понятие, обозначающее совокупность природных и социальных условий, эффективно содействовавших формированию нашего вида в ходе естественного отбора. Не поняв историю этого отбора, мы не сможем понять и саму мораль.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
Чтобы яснее представить себе механизмы человеческой эволюции, надо прежде уяснить, как работает эволюция вообще. В 1790 году Кант всё еще считал: «нелепо притязать» и, следовательно, «надеяться, что когда-либо объявится новый Ньютон, который окажется способным объяснить хотя бы возникновение травинки по законам природы, не приведенным в силу каким-либо намерением» [15]. Только через 69 лет вышла книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов», вновь подтвердившая, что кажущееся невозможным сегодня может завтра стать действительностью.
Мысль о том, что органический мир есть результат сознательного вмешательства, на первый взгляд соблазнительна. Глаз нужен для того, чтобы видеть, сердце — чтобы качать кровь. Гепарды стройны и быстры, поэтому они прекрасные охотники. Птицы умеют летать, поэтому… И так далее. Теория эволюции отбрасывает эту мысль, обличает ее как телеологическую иллюзию. Жизнь только кажется целенаправленной, на самом деле она полностью во власти непредвиденных волн мутаций и отбора.
Иллюзия разумного замысла обусловлена постепенным процессом, в ходе которого множество видов мутирует под воздействием внешнего отбора. Эволюция имеет место всюду, где происходит «унаследование изменений» (у Дарвина — descent with modification). Она сочетает в себе несколько факторов, таких как изменчивость, разный репродуктивный успех и наследственность. Случайные мутации порождают отклонения. Репродуктивный успех возникших видов приводит, посредством наследования, к закреплению новых признаков в следующем поколении. Этот процесс называется естественным отбором.
Всё это происходит «вслепую», что в нашем случае означает «непредвиденно». Никто не надзирает за естественным отбором, представляющим собой, по мнению философа Дэниела Деннета, «алгоритмический процесс» [16]. Алгоритм — это последовательные действия или предписания, правильное и многократное исполнение которых автоматически приводит к определенному результату. Эволюция приводит к адаптации — а в отдаленной перспективе к появлению новых видов (видообразованию) — путем неоднократно повторяющихся мутаций и отбора.
Не только естественный отбор влияет на образование популяции. Наряду со случайными генетическими отклонениями определенную роль играет и половой отбор. (Считать ли половой отбор разновидностью естественного, вопрос открытый.) При половом отборе соответствующий репродуктивный успех организма (точнее, его генов) зависит не от велений природы, а от прихотливого вкуса противоположного пола.
Среди научных терминов есть, пожалуй, несколько, смысл которых кажется само собой разумеющимся, а между тем они сплошь и рядом трактуются неверно. В частности, с понятием адаптации, или приспособления, связано известное заблуждение Ламарка, объяснявшего фенотипические изменения в организме непосредственным воздействием окружающей среды. Таким образом, эволюция якобы может заключаться, например, в том, что шея жирафа удлинилась в результате его попыток дотянуться до листьев на деревьях с особенно высокой кроной. Этому противоречит в равной мере и то, что приобретенные свойства (за исключением ряда эпигенетических изменений) не наследуются, и то, что есть свойства, которые вообще не могут быть приобретены. Еще более фундаментальное заблуждение связано с предположением, будто эволюция — это процесс, происходящий у отдельных особей. В действительности термин «эволюция» следует понимать в контексте популяционной генетики, исследующей мутацию, а точнее частоту мутаций того или иного признака, распространенного в популяции и передаваемого от одного поколения к другому. У жирафов с более длинной шеей многочисленней потомство, вот почему в следующем поколении будет больше жирафов с длинной шеей.
Идея эволюции как survival of the fittest («выживания наиболее приспособленных») предложена вовсе не Дарвином, а Гербертом Спенсером спустя пять лет после публикации «Происхождения видов», и эта идея предполагает существование независимых от эволюции критериев адаптации, которые затем как бы выявляет эволюционный процесс. Собственно, наиболее приспособленные — это просто те, кто больше других преуспел в деторождении. Понятие адаптации тавтологично и никуда нас не выводит. Кто преуспевает в жизни? Наиболее приспособленные. Кто эти приспособленные? Те, кто преуспевает. Пока они выживают и производят потомство, эволюции абсолютно безразлично, кто эти наиболее приспособленные, крупные они или маленькие, сильные или слабые, умные или глупые.
Адаптивный признак (а это выясняется только в ретроспективе и никогда не известно заранее, ex ante) еще не означает, что он наилучший из возможных. Эволюция не совершенствует. Многие недоумевают, например, почему мы, люди, до сих пор болеем раком. Разве этого «царя всех болезней» [17] не должны были давно одолеть? Разве не обязана эволюция привить нам иммунитет? Увы, к нам и нашим страданиям эволюция равнодушна. Единственное, что ее заботит,— сопутствует ли тот или иной признак репродуктивному успеху генов. Большинство людей передает гены задолго до того, как у них обнаружат рак. А то, что лучше бы вообще им не болеть, эволюцию не волнует, ее принцип — «хорошего понемножку». В эволюционной конкуренции важно быть чуть более напористым, чем соперник. Идеальные же качества не играют никакой роли. Более того, стремление к идеальному плохо прививается, поскольку естественный отбор поощряет максимально эффективное использование ресурсов. У перфекционистов с этим плохо.
Не всякий признак обязан своим появлением адаптации. Во-первых, наряду с ней существует экзаптация, при которой признак меняет свой первичный рабочий профиль, обусловивший его отбор, и обретает иное предназначение, а точнее функцию. Канонический пример — птичьи перья, чья первоначальная физиологическая функция заключалась в поддержании оптимальной температуры тела. Лишь позднее эволюция превратила их в пилотажный прибор. Во-вторых, характер признаков в популяции часто меняется вовсе не из-за репродуктивных различий, вызываемых сменой или нарушением функций, а в результате случайного генетического дрейфа. Неадаптивный дрейф происходит, например, если вид входит в «бутылочное горлышко», когда вследствие наводнения или урагана гибнет большая часть группы и остается только генетическая информация тех, кто случайно уцелел.
В конечном счете, сам по себе тот факт, что признак адаптивный, то есть свидетельствует об относительном репродуктивном успехе, совсем не означает, что этот признак хорош или желателен в каком-либо другом смысле. Эволюционная биология и эволюционная психология — паноптикум жестокости и всевозможных непотребств, которые стратегически весьма эффективны, но этически более чем сомнительны. В зависимости от обстоятельств убийство, изнасилование, воровство, ненависть к чужакам и ревность могут быть вполне адаптивными. Но морально это их не оправдывает.
Важность научного открытия эволюции трудно переоценить. Мысль о том, что кажущуюся целенаправленной адаптацию можно объяснить хаотичным взаимодействием мутаций и отбора,— одно из величайших открытий в истории человечества, сравнимое лишь с тремя или четырьмя другими такого же уровня. Ницше некогда предсказал: «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя» [18]. «Дарвиновская бездна» [19] оказалась глубже, чем можно было вообразить. Философ Дэниел Деннетт метко сравнил теорию эволюции с «универсальной кислотой», которая разъедает любые традиционные представления, идеи и теории [20]. Какое бы мировоззрение с ней ни соприкоснулось, оно фундаментально изменяется. Многие идеологии и вовсе не пережили этого соприкосновения.
НЕВЕРОЯТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Много необычайного случилось за последние несколько тысячелетий. Философ и нейробиолог Джошуа Грин предполагает, что каждые десять тысяч лет Землю посещает более развитая цивилизация инопланетян, возможно, для того чтобы посмотреть, не окажется ли среди местных обитателей многообещающего вида. Сто тысяч лет назад о Homo sapiens они могли записать примерно следующее: «охотник-собиратель, кое-какие примитивные орудия труда; популяция: десять миллионов» [21]; то же и девяносто тысяч лет назад, и восемьдесят, и даже десять тысяч лет назад. Но во время последнего визита в 2020 году они в своих анналах уже отметили иное: «экономическую глобализацию, передовые технологии в сфере атомной энергетики, телекоммуникаций, искусственного интеллекта, космонавтики, глобальные социальные/политические институты, демократическое правление, развитую науку…». Мы прошли долгий путь, и наша нравственная чуткость в решающей степени обусловила и ускорила эти перемены.
Такой сценарий мог и не случиться, ведь легко вообразить другой. Американский антрополог Сара Хрди описала, как бы проходил полет в зависимости от того, кто оказался бы на борту самолета — люди или шимпанзе [22]. Я подозреваю, что немногие из нас обожают летать. Тем не менее следует признать, что, несмотря на досадные кордоны, которые приходится проходить, прежде чем нас пропустят на борт, мы ведем себя в общем-то благопристойно. Молчаливые и неподвижные, мы сидим несколько часов в тесноте, рядом с незнакомцами, нас угощают сомнительного качества едой и развлекают еще более сомнительными СМИ. Порой нам досаждает какой-нибудь подвыпивший пассажир или кричащий ребенок, которого никак не могут успокоить, но кто из нас пережил что-нибудь более серьезное или подвергался насилию?
А как бы повели себя на нашем месте шимпанзе? Боже упаси от такого эксперимента: в клочья растерзанные сиденья, разбитые стекла, кровью пропитанный ковер, оторванные уши, пальцы и пенисы, груды обезьяньих трупов всюду в салоне, вой и скрежет зубовный.
Вместе с тем это вовсе не означает, что шимпанзе — или любые другие приматы, не относящиеся к роду людей,— до мозга костей кровожадные, импульсивные чудовища, неспособные сплотиться. Нет, дело в том, что к сотрудничеству мы, люди, подходим иначе, чем все остальные животные: мы более покладисты, гибки, великодушны, дисциплинированны и менее подозрительны, даже к незнакомцам. Мы обладаем даром видеть в содружестве преимущества и пользоваться ими. Перед теми, кто умеет объединить единоплеменников вокруг того или иного взаимовыгодного дела, открывается мир новых возможностей. Мы удивительно хорошо это осознаем и извлекаем выгоду.
МЫ ХОТИМ ИГРАТЬ
В XX веке возникла научная дисциплина, специально изучающая условия и пределы человеческого сотрудничества. Это так называемая теория игр, которая исследует взаимодействие разумных субъектов и, в частности, пытается объяснить, почему зачастую так трудно действовать сообща и поддерживать стабильные отношения.
«Теория игр» — название неудачное, оно ассоциируется либо с некими научными штудиями игр вроде шахмат, покера или баскетбола, либо с легкомысленным времяпрепровождением, до которого низводится человеческое сосуществование. И то и другое неверно. На самом деле теоретики игр описывают посредством точных математических моделей взаимодействия людей — прежде всего для того, чтобы понять, почему сотрудничество слишком часто терпит фиаско, а то и вовсе не возникает. Понятие «теория игр» подразумевает взаимоотношения, которые можно рассматривать как последовательность действий, где предыдущий ход А каждый раз определяет предположительно лучший ответный ход для Б.
Сотрудничеством называют такой образ действий, когда кровные личные интересы отбрасывают в сторону ради общей и большей выгоды. Это ни в коем случае не самопожертвование: от сотрудничества выигрывают все, вот почему особенно обидно, когда оно не удается из-за мелочности, импульсивности или узости мышления.
Сотрудничество зиждется на нормах, которые ограничивают стремление индивида к собственной максимальной выгоде, но зато приводят к беспроигрышной ситуации (win-win situation), именуемой в теории игр игрой с положительной суммой. В играх с нулевой суммой, скажем, в покере, проигрыш одного уравновешивается выигрышем другого, то есть результат всегда равен «нулю». В играх с отрицательной суммой проигрывают все. Следовательно, сотрудничество, в котором не только никто не в убытке, но и каждый выигрывает, отвечает важному критерию справедливости: оно оправдано для всех, кто в него вовлечен.
Из теории игр по крайней мере одна крылатая фраза перекочевала в общественное сознание: дилемма заключенного (prisoner’s dilemma). Вкратце сюжет таков: полиция поймала двух преступников. Их определенно можно осудить за мелкое злодеяние (например, за незаконное хранение оружия), в действительности же их хотят уличить в недавнем ограблении банка, однако прямых улик пока нет. Обоих допрашивают отдельно, предлагая сделку: если А даст показания против Б, то А отделается минимальным тюремным сроком в один год, а Б, обвиненный в обоих преступлениях, сядет на десять лет. Но к такой же сделке склоняют и Б. Промолчи оба, и их обвинят только в одном, более легком преступлении, за которое им светит по три года. Будут свидетельствовать друг против друга — получат по пять лет. Но так как они не могут сговориться, каждый на свой страх и риск выбирает лучшую для себя стратегию. При этом А рассуждает примерно так: если Б сдаст меня, мне грозит десять лет тюрьмы как зачинщику, значит, я должен сдать его. Но что, если Б будет держать язык за зубами? Тогда тем более нужно всё валить на него, чтобы мне скостили срок до года. Ситуация усугубляется тем, что Б мыслит точно так же. В итоге оба свидетельствуют друг против друга и получают по пять лет.
На первый взгляд, дилемма заключенного описывает далекую от повседневной жизни ситуацию. На самом деле это яркая иллюстрация более общей проблемы, позволяющая увидеть суть социальных конфликтов. Кооперация почти всегда предпочтительна, так как выгодна всем. Для любого индивида даже лучше, если все будут сотрудничать, но загвоздка в том, что он не прочь поживиться за чужой счет. Иными словами, любой из нас всегда может потянуть одеяло на себя, независимо от того, действуем ли мы сообща или нет. Чтобы не быть обманутым, я сам обману. Аналогично и в том случае, когда другие честны. Эгоизм (Nicht-Kooperation) становится доминирующей стратегией, вот почему взаимный эгоизм лежит в основе устойчивого равновесия Нэша *: никто не может в одностороннем порядке выйти из этого равновесия без ущерба для себя. Парадокс дилеммы заключенного в том, что она показывает, как индивидуальная рациональность может расходиться с коллективной. Рациональные поступки в совокупности не всегда дают оптимальный результат. Плоды сотрудничества могут остаться невостребованными.
* Nash-Equilibrium — одно из ключевых понятий в теории игр; предполагает ситуацию, в которой никому из игроков не выгодно произвольно менять стратегию, если ее придерживаются другие.
Уловив основную мысль, мы увидим дилемму заключенного — а в более широком смысле проблему коллективных действий — повсюду. И это важно, потому что проблемы коллективных действий мы обнаруживаем фактически повсеместно. Пожалуй, самые известные примеры связаны с истощением природных ресурсов. Эта проблема, которую предвидел еще шотландский философ Дэвид Юм, сегодня благодаря Гаррету Хардину известна как «трагедия общих ресурсов» (tragedy of the commons) [23]. Природные ресурсы вроде пастбищ или рыбных угодий, не разделенные границами владений, эксплуатируются, как правило, так, будто они неисчерпаемы. Любой индивид, безотносительно к тому, поступают ли другие рачительно или хищнически, стремится к безграничному пользованию ресурсами. Выгоду из такого преступного поведения может извлечь каждый из нас, издержки же «экстернализируются» на остальных членов коллектива.
Многие, на первый взгляд, тривиальные повседневные поступки можно интерпретировать как проблему коллективных действий. Пробки на дорогах нередко возникают из-за чрезмерно любопытных ротозеев, на минутку притормаживающих для того, чтобы взглянуть на место аварии, и тем самым создающих позади себя затор. Протоптанные на газонах тропы — самые короткие пути, которыми пользуются некоторые из нас, но для остальных это лишь уродливые следы на поверхности.
В экономике, начиная с «Теории праздного класса» Торстейна Веблена, мы говорим о «демонстративном потреблении», когда значительные средства тратятся на поддержание статуса и, в конечном счете, не приносят глубокого удовлетворения, так как рассчитаны на чисто показной эффект: они ценны лишь до тех пор (и постольку), пока (поскольку) другие не обладают определенными благами. Но как только конкуренты подтягиваются, лучше от этого никому не становится, наоборот, обделенными оказываются все, а счастливых ни одного, и коллективное «равнение на Джонсов» * оборачивается пустышкой [24].
* В оригинале: Keeping up with the Joneses («Не отставая от Джонсов») — название популярного в 1913 году комикса американского карикатуриста Артура Моманда, ставшее идиоматическим; общий смысл сводится к тому, чтобы жить не хуже соседей (чьим собирательным образом выступает идеальная семья Джонсов), даже если такая жизнь не по средствам.
Теория игр зарекомендовала себя и в политике, прежде всего в связи с абсурдной гонкой вооружений в период холодной войны [25]. Тогда многим интеллектуалам казалось, что мир свихнулся, противники, одержимые непримиримыми идеологиями, изображались неполноценными или исчадиями зла. Однако такое истолкование в корне неверно, поскольку представляет проблему неразрешимой в повседневной жизни, вместо того чтобы показать банальную суть взаимного сдерживания. Если все вооружаются ядерными ракетами, значит, и мне нужно обзавестись таким оружием. Если же я буду монополистом — тем лучше.
Многие социальные проблемы можно описать аналогичным образом: например, право на владение огнестрельным оружием американцы оправдывают обычно тем, что с ним чувствуют себя в большей безопасности, чем без него; самооборону почти все признают естественной и законной, поэтому оружейное лобби США видит в призывах более строго контролировать оборот оружия, особенно такого грозного, как автоматы, либо признаки вырождения изнеженного Восточного побережья, либо маниакальное стремление вашингтонской элиты всё контролировать. Согласно теории игр, это чушь; на самом деле перед нами ситуация, в которой рациональное индивидуальное владение оружием оборачивается коллективным безрассудством. Всеобщее право на оружие тотчас «пожирает» все преимущества личной самообороны, ведь приходится покупать всё более мощное оружие, и в конце концов мир с соседями можно будет обеспечить только с помощью танков.
Недавние бурные выступления против прививок были проявлением недовольства, которое тоже восходит к проблеме коллективных действий. Предполагаемые риски вакцинации — чистая выдумка, но кто же пожертвует своим утром и предпочтет томиться в приемной педиатра, рядом с чужими больными детьми, ради того, чтобы металлическая игла вонзилась в руку вопящего или скулящего родного чада? Если все вакцинируются, то преимуществами коллективного иммунитета можно будет воспользоваться, не подвергая риску своего ребенка. Лишь когда уровень коллективного иммунитета не достигается и кривая заболеваний растет, индивидуальная вакцинация снова становится целесообразной. Таким образом, вакцинофобы — помимо того, что еще и часто верят в невероятные теории заговора,— поступают не бездумно, а безнравственно, поскольку пользуются плодами сотрудничества, не внося лепты.
В биологическом мире проблему коллективных действий в том или ином виде мы видим всюду. Калифорнийское мамонтово дерево, или гигантская секвойя, вырастает до 100 метров и выше единственно для того, чтобы занять лучшее место под солнцем. К сожалению, эти деревья не могут договориться и ограничить потолок своего роста 50 метрами, что сразу положило бы конец их возмутительно неплодотворной конкуренции [26].
Коллективные действия отнюдь не невозможны, однако приведенные примеры и логика проблемы показывают, что формирование дееспособного «мы» наталкивается на мощные препятствия, и для их преодоления универсального рецепта не существует. Сотрудничество уязвимо, им можно всегда злоупотребить — в этом корень проблемы.
Как это соотнести с эволюцией морали? Представьте небольшую группу неких человекообразных существ. Каждое из них защищает только себя и заинтересовано лишь в собственной выгоде. Сотрудничеством и не пахнет. Но вот в результате случайной генетической мутации появляется особь, чуть менее корыстная и чуть более склонная к сотрудничеству, пусть и самую малость. У этой особи есть зачатки морали, она иногда вдруг отказывается жить за счет других и не всегда ставит свои интересы выше интересов других.
Такая особь никогда бы не смогла утвердиться в группе и очень скоро погибла бы в борьбе за ресурсы и потомство. Естественный отбор был бы к ней беспощаден, ее гены не смогли бы распространиться в популяции. Похожим был бы исход и в противном случае — в группе, где царят сотрудничество и взаимопомощь, появившаяся в результате случайной мутации чуть более эгоистичная и менее склонная к сотрудничеству особь получила бы явное преимущество перед конкурентами. Ее геном быстро распространился бы в популяции благодаря многочисленному потомству. Похоже, сама эволюция с ее естественным отбором восстает против морали. В этом и заключается загадка сотрудничества.
СОТРУДНИЧЕСТВО В ЛАБОРАТОРИИ
То, что сотрудничество рано или поздно терпит фиаско и даже погружается в пучину разрушительного насилия, многократно подтверждено практикой. Экспериментальные игры в области поведенческой экономики удостоверяют, что хотя люди, пусть и с оговорками, как правило, готовы сотрудничать, этой готовностью часто злоупотребляют «халявщики», в результате чего вклад индивида в общее благо очень скоро ощутимо снижается и в конце концов опускается почти до нуля.
Точное изучение коллективного поведения человека начинается с научного описания признаков сотрудничества. В игре «Общественное благо» проблема коллективных действий представляется как ситуация принятия решений, когда небольшая группа в четыре-пять игроков располагает некоторой стартовой суммой, которую каждый волен либо оставить себе, либо пожертвовать в общий котел [27]*. После очередного раунда совместный пай возрастает (обычно удваивается) и делится между всеми участниками поровну — независимо от их личного вклада. Сразу же выясняется, что верх одерживает «халявная» стратегия, отказ от сотрудничества, именуемый также дезертирством (Defection). Каждый норовит поживиться за счет другого, удерживая собственную долю, которую не спешит жертвовать в общую копилку.
* Имеется в виду эксперимент, проведенный австрийскими экономистами Эрнстом Фером и Симоном Гэхтером.
Этот эффект усиливается, когда проводится несколько раундов, и их количество в «итерированной» (повторяющейся) дилемме заключенного с n игроками заранее известно участникам. Тогда методом обратной индукции лучшая стратегия в каждом раунде может быть выведена из оптимальной стратегии последнего. Если мне известно, что предстоит сыграть десять партий, то, разумеется, мое поведение в десятой (последней) никак не повлияет на исход одиннадцатой (потому что ее не будет). По этой причине, вероятнее всего, в последнем раунде участники поведут себя своекорыстно — что де-факто делает девятый раунд последним, а значит, и здесь ничего, кроме эгоизма, ожидать не приходится. Таким образом, вся цепочка сотрудничества распадается, а эгоизм становится непреложным едва ли не в первом раунде. Этот теоретический вывод подтвержден эмпирически: хотя многие участники игры в общественное благо на первых порах желают сотрудничать, такое желание быстро сходит на нет, как только кто-то из игроков начинает жульничать, то есть пользоваться вкладом других, не внося собственный. Через несколько раундов взносы в общую копилку уменьшаются до нуля.
Реальная ценность, или экологическая аутентичность, экспериментальных исследований, естественно, всегда подозрительна, поскольку люди из плоти и крови, находящиеся в гуще повседневной жизни, проводят четкую грань между собой и теми, кто, тщательно наставляемый инструкторами, действует в искусственных лабораторных условиях. Тем не менее любой из нас хотя бы раз сталкивался с этой разновидностью коллективной одержимости: она возникает, когда объединившее людей желание сотрудничать убывает по мере того, как члены группы один за другим перестают заботиться об общем успехе. Даже новое представление о человеке принципиально ничего не меняет. Мнение, будто проблема коллективных действий существует лишь потому, что человек есть Homo oeconomicus, присягнувший на верность идеологическим предпосылкам экономики *,— это популярная сказка, которая уже давно опровергнута. Сотрудничество хрупко, оно подобно стеклу, фарфору и репутации — вещам, которые, по словам Бенджамина Франклина, разбить легко, а склеить трудно.
* Джон Стюарт Милль, предложивший модель «экономического человека», рассматривает его прежде всего как существо, стремящееся получить как можно больше материальных благ с наименьшими затратами труда.
Итак, наша генеалогия 2.0 начинается с осознания того, что сотрудничать очень трудно, но еще труднее сохранять достигнутое в сотрудничестве. Мир играет краплеными картами против плодотворного сотрудничества. Сотрудничество непонятно, тогда как эгоизм — обычное состояние. Социолог Никлас Луман сказал бы, что «успех коммуникации невероятен», в отличие от провала. Каждый раз, когда встречаются двое (или даже больше), возникает двойной произвол [28], порождающий бесчисленное множество вариантов: оба могут игнорировать друг друга, наброситься друг на друга или поступить еще как-нибудь нелепо, на худой конец, попытаться взаимодействовать, но без шанса на успех. То, что действия эго и альтер удачно «состыкуются», как иногда говорят,— всего лишь одна из многих возможностей, а значит, она невероятна.
ЛЮДИ, ОБЕЗЬЯНЫ
Многим читателям дилемма заключенного может показаться неправдоподобной. Разве мы предпочтем предать подельника, а не держать язык за зубами? Разве это не вопрос чести? Даже у разбойников есть собственные законы, как говорил Цицерон, студенты же почти всегда отказываются признавать логику сугубо инструментальных действий; их прямо-таки нужно «натаскивать», чтобы они увидели преимущества эгоистичного поведения.
Если вы того же мнения, значит, ваш моральный компас в принципе работает. Это также подтверждает тезис о том, что тяга к сотрудничеству, вероятно, врожденная. Действительно, мы интуитивно находим коллективные действия привлекательными, а своекорыстие халявщиков — отвратительным и возмутительным, и это свидетельствует о том, что социальные приоритеты, благодаря которым сотрудничество представляется нам абсолютно необходимым, заложены в нас, людей, эволюцией в ходе обучения, длившегося многие миллионы лет [29]. Нас не надо учить азам сотрудничества.
Утверждение о том, что наша способность к сотрудничеству врожденная, остается спорным, его невозможно доказать с математической точностью. Но нетрудно найти весомые факты, подтверждающие, что та или иная поведенческая модель действительно врожденная или, говоря профессиональным языком, канализирована эволюцией. Отличный образец обусловленной (hard wired) склонности — способность (i), которая проявляется очень рано, (ii) укоренена во всех культурах и (iii) с трудом поддается изменению, если ее вообще можно изменить.
Именно такова наша мораль. В частности, современные исследования наглядно демонстрируют, что протоморальные тенденции проявляются поразительно рано. Благодаря looking-time studies, наблюдениям за «временем смотрения» ребенка [30]*, установлено, что дети в возрасте до двенадцати месяцев предпочитают смотреть на персонажей или образы, которые, как им кажется, помогают, а не мешают или вредят другим. Уже у младенцев возникает аллергия на несправедливость; возмездие за злой поступок — это спонтанная реакция, которой не нужно учиться.
* Речь идет об исследованиях, в основе которых лежит наблюдение за тем, как долго младенец может смотреть на тот или иной объект. Эти эксперименты проводились в Йельском университете и описаны канадским психологом Полом Блумом.
Гипотезы, касающиеся нас, людей, как и лекарства, проверяются обычно на обезьянах. Однако вряд ли надо подчеркивать, сколь узок такой подход. В том, что у приматов обнаруживаются специфические способности, можно с равным успехом видеть доказательство обратного: эти способности никак не объясняют человеческую мораль. Обезьяны и люди существенно различаются, в том числе поступками. Поэтому то или иное свойство, замеченное у приматов, не может служить объяснением собственно человеческого поведения. Если бы это было так, почему же обезьяны не ст
