автордың кітабын онлайн тегін оқу Поэтика грезы
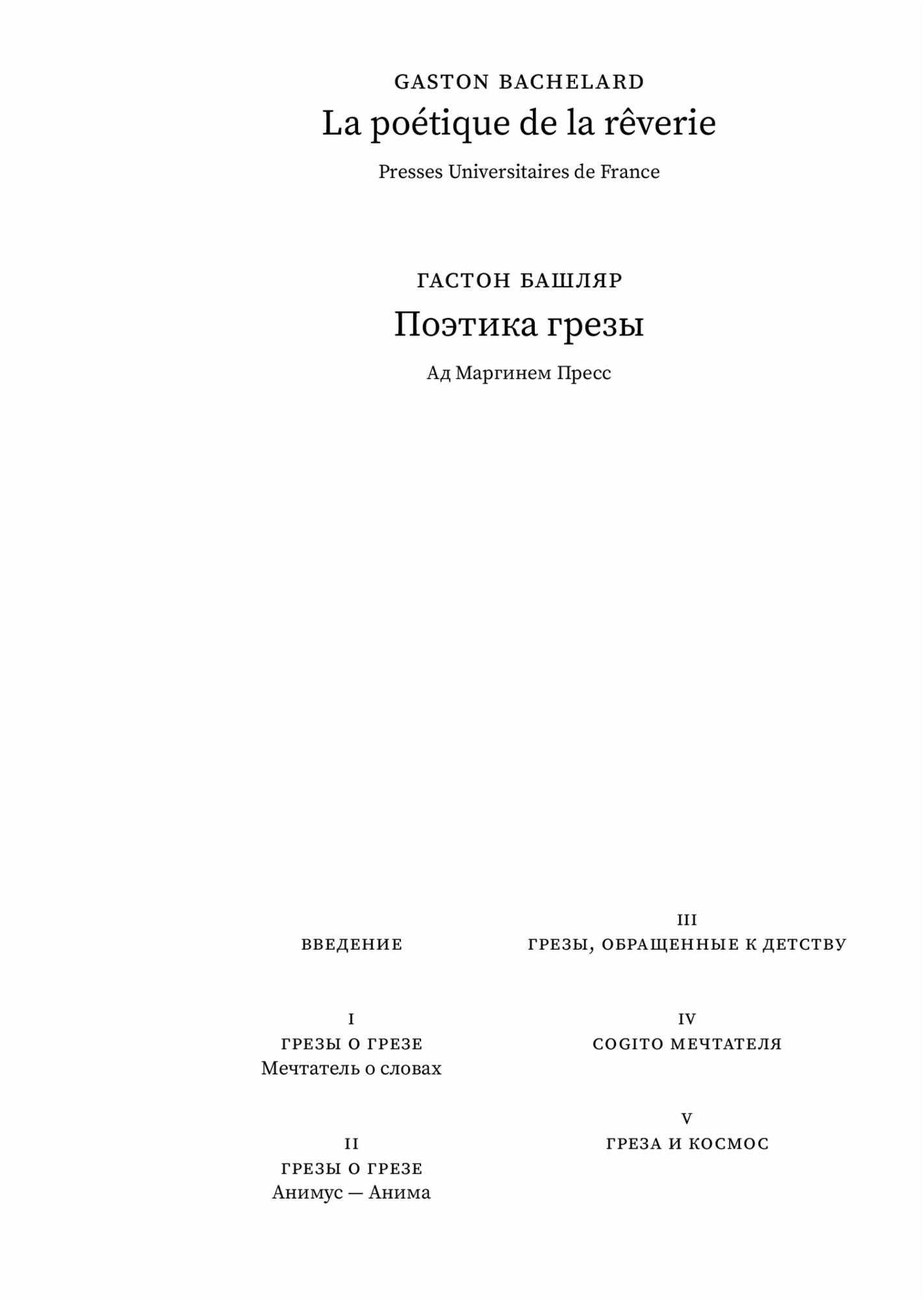
Введение
Метод, Метод, чего ты хочешь от меня?
Ты же знаешь — я вкусил плод бессознательного.
Жюль Лафорг [1]
I
В недавней книге, дополняющей наши прежние работы о поэтическом воображении, мы пытались показать, как полезен может быть в таких изысканиях феноменологический метод. Следуя принципам феноменологии, мы стремились пролить свет на акт осознания у субъекта, плененного поэтическими образами. Это осознание, — а современная феноменология стремится добавить его ко всем феноменам психики, — как нам казалось, придает устойчивую субъективную ценность даже тем образам, которые зачастую обладают лишь сомнительной, мимолетной объективностью. Вынуждая нас снова и снова вглядываться в себя, искать ясности в том, как мы осознаем поэтический образ, феноменологический метод подводит нас к попытке установить связь с творческим сознанием поэта. И тогда новый поэтический образ — простой образ! — незаметно становится абсолютным началом, первопричиной сознания. В минуты больших озарений поэтический образ может породить в грезах поэта целый мир, стать зерном воображаемой вселенной. Сознание восхищения этим миром, созданным поэтом, раскрывается во всей своей наивности. Хотя, конечно, сознание предназначено для куда более значительных подвигов. Чем более упорядочена деятельность, в которую оно вовлечено, тем надежнее его становление. Так, «рациональное сознание» обладает устойчивостью, и это ставит феноменолога перед трудной проблемой: ему надлежит объяснить, как сознание встраивается в цепь истин. И наоборот, открываясь отдельному образу, воображающее сознание несет на себе меньшую ответственность — по крайней мере, на первый взгляд. Воображающее сознание в его взаимодействии с отдельными образами может служить материалом в простейшей методике преподавания основ феноменологии.
Однако тут нас поджидает двойной парадокс. Зачем — спросит неискушенный читатель — перегружать книгу о грезах таким тяжелым философским аппаратом, как феноменологический метод?
Зачем объяснять принципы феноменологии на такой зыбкой материи, как образы? — спросит в свою очередь ученый-феноменолог.
Не проще ли было бы следовать проверенным методам психолога, который описывает то, что наблюдает, измеряет уровни, классифицирует типы; видит, как рождается воображение у детей, никогда, правда, не задумываясь над тем, как оно умирает у большинства взрослых?
Но может ли философ стать психологом? Способен ли умерить гордыню, довольствуясь простой констатацией фактов, если он уже со всей должной страстью вступил в царство ценностей? Философ остается, как нынче принято говорить, в «философской ситуации»; иногда он заявляет о намерении начать всё с нуля, но — увы! — остается в привычной колее… Он прочел столько философских книг! А сколько «систем» исказил под тем предлогом, что изучает и преподает их! Когда же наступает вечер, он больше не стоит на кафедре, он воображает, что заслужил право замкнуться в той системе, которая ему по душе.
Вот так и я выбрал феноменологию в надежде применить новый взгляд к близким сердцу образам, так глубоко засевшим в моей памяти, что я уже, право, не знаю, вспоминаю ли я или только воображаю, когда они оживают в моих грезах.
II
Впрочем, требование феноменологии в отношении поэтических образов достаточно простое и состоит в том, чтобы подчеркнуть их изначальную силу, уловить самую суть их своеобразия и тем самым воспользоваться плодами того невероятно продуктивного состояния психики, каким является воображение.
Вместе с тем требование к поэтическому образу как к источнику психической активности показалось бы излишне суровым, если бы мы не находили свойств оригинальности в самих вариациях наиболее укоренившихся архетипов. И поскольку мы хотели, с позиции феноменолога, углубиться в психологию восхищения, малейшее изменение чудесного образа должно служить уточнению результатов наших исследований. Острота новизны оживляет истоки, освежает и умножает радость восхищения.
К чувству восхищения добавляется в поэзии радость речи. Эту радость следует понимать в ее абсолютно позитивном смысле. Поэтический образ, возникающий как новая ипостась языка, совершенно нельзя сравнивать, следуя вульгарной метафоре, с клапаном, который открывается, чтобы выпустить подавленные инстинкты. Поэтический образ озаряет сознание таким светом, что искать ему предпосылки в области бессознательного — пустая трата времени. Во всяком случае, у феноменологии есть основания рассматривать поэтический образ в его собственном бытии, не связанном с предшествующим бытием, но как позитивное завоевание речи. Если послушать психоаналитика, то окажется, что поэзия — не что иное, как ее величество Оговорка. Но порыв вдохновения не может быть ошибочным действием. Поэзия — одно из воплощений речи. В стремлении заострить восприятие языка поэтического текста мы обретаем чувство, что трогаем человека новым словом, это слово не ограничивается выражением мыслей или ощущений, оно стремится в будущее. Можно сказать, что поэтический образ в своей новизне открывает будущее языка.
Соответственно, применяя феноменологический метод при разборе поэтических образов, мы, как нам казалось, автоматически подвергались психоанализу и могли с чистой совестью отбросить наши прежние заботы, диктуемые психоаналитическим подходом. Позиция феноменолога дает ощущение свободы от предпочтений — тех предпочтений, которые превращают литературный вкус в привычку. Настоящее — вот что интересует феноменологию, вот почему мы были открыты к восприятию новых образов, которые дарит нам поэт. Образ являлся нам, проникал внутрь, отделенный от всего того прошлого, которое подготовило его появление в душе поэта. Не заботясь о «комплексах» поэта, не копаясь в истории его жизни, мы могли свободно, безусловно свободно переходить от одного поэта к другому, от большого поэта к менее значимому, и всё это благодаря простому образу, раскрывавшему свою поэтическую ценность через само богатство вариаций.
Итак, феноменологический метод предписывал нам наглядно показать работу сознания при рождении малейшей вариации образа. Невозможно читать стихи, думая о чем-то другом. Как только поэтический образ обновляется, пусть одним лишь штрихом, он обнаруживает всю свою изначальную наивность.
Именно эта наивность, пробуждаясь снова и снова, должна настраивать нас на чистое восприятие поэзии. Поэтому в наших исследованиях активного воображения мы будем следовать феноменологии как школе наивности.
III
Подобная наивность восхищения совершенно естественна при встрече с образами, которые нам дарят поэты, образами, которые мы никогда не смогли бы выдумать сами. Но если переживать такое восхищение пассивно, наше участие в творческом воображении не будет глубоким. Феноменология образа предписывает нам активнее включаться в творческое воображение. И поскольку цель любой феноменологии — поместить акт осознания в настоящее, в момент крайнего напряжения, то из этого следует вывод: в том, что касается свойств воображения, феноменологии пассивности не существует. Напомним, что вопреки расхожему заблуждению феноменология — это не эмпирическое описание явлений. Описывать эмпирически — значит подчиниться объекту, приняв за правило пассивность субъекта. Описание психологов может, конечно, снабдить нас материалами, но задача феноменолога — вмешаться, чтобы нанести эти материалы на ось интенциональности. Пусть этот образ, который мне дали, станет моим, по-настоящему моим, пусть он будет — верх читательской гордыни! — моим детищем! И какой триумф чтения, если бы я смог, с помощью поэта, испытать поэтическую интенциональность! Именно через интенциональность поэтического воображения душа поэта обретает открытость сознания, присущую всякой истинной поэзии.
Подобная непомерная амбиция вкупе с тем фактом, что любая наша книга — плод наших грез, сталкивают феноменолога с радикальным парадоксом. И в самом деле, мечтание принято относить к явлениям психической разрядки. Мечтанию предаются в минуты расслабления, когда время лишено связующей силы. Грезы рассеянны, а потому чаще всего не оседают и в памяти. Грезы — это побег от реальности, и этот побег не всегда приводит в какой-то устойчивый нереальный мир. Скользя по «склону грезы» — всегда ведущему вниз — сознание расслабляется и рассеивается, а потому затуманивается. То есть грезящему не до того, чтобы «заниматься феноменологией».
Как же нам относиться к подобному парадоксу? Не пытаясь сгладить очевидное противоречие между простым психологическим подходом к изучению грез и подходом собственно феноменологическим, мы еще больше обострим различие и подчиним наши поиски философскому тезису, который прежде нуждается в обосновании: мы исходим из того, что любое осознание — это приращение сознания, просветление, упрочение психической целостности. Скорость, с которой происходит осознание, его молниеносность могут скрыть от нас рост, но осознание всегда подразумевает прирост бытия. Сознание соразмерно мощному психическому становлению, энергия которого распространяется на всю психику. Сознание само по себе — это акт, человеческая деятельность. Этот акт — живой, наполненный. Даже если действие, которое следует, могло или должно было последовать, остается подвешенным, акт сознания является полностью позитивным. В данной работе мы рассмотрим этот акт лишь в области языка, а еще точнее — в поэтической речи, когда творческое сознание порождает и переживает поэтический образ. Пополнять язык, творить, возвышать его, любить язык — через все эти действия растет сознание речи. Нет сомнения, что в столь узко очерченной области мы найдем многочисленные примеры, подтверждающие наш более общий философский тезис об увеличительной природе любого акта осознания.
Теперь, когда мы подчеркнули ясность и силу поэтического осознания, встает вопрос — под каким углом нам следует рассматривать грезы, если мы хотим воспользоваться уроками феноменологии? Ведь наш собственный философский тезис усложняет нам задачу. Из этого тезиса неизбежно следует вывод: сознание, которое убывает, засыпает, «витает в облаках», больше не является сознанием. Греза толкает нас по наклонной, направляет по склону вниз.
Спасти ситуацию и преодолеть скороспелые возражения психологии поможет нам прилагательное. Греза, которую мы хотим изучить, — поэтическая, эту грезу поэзия направляет по склону в верном направлении, вслед за ней может идти растущее сознание. Эта греза ложится на бумагу или, по крайней мере, содержит в себе такое обещание. Перед ней расстилается бескрайняя вселенная — чистый лист. И вот образы уже обретают форму, выстраиваются по порядку. В ушах мечтателя уже звучит письменное слово. Один автор, имени я не помню, говорил, что кончик пера — это орган мозга. Я с этим полностью согласен: если мое перо брызжет кляксой, значит мысли идут вразброд. Кто вернет мне добрые чернила моих школьных лет?
В поэтической грезе все чувства пробуждаются и обретают гармонию. Именно эту полифонию чувств слушает поэтическая греза и фиксирует поэтическое сознание. Поэтический образ можно описать словами, сказанными Фридрихом Шлегелем о языке: это «творение на одном дыхании» [2]. Вот эти полеты фантазии и должен стремиться вновь пережить феноменолог, изучающий воображение.
Психолог, конечно, предпочел бы изучать самого поэта во власти муз. На примере конкретных гениев он провел бы конкретные исследования вдохновения. Но значит ли это, что он сам пережил бы феномены вдохновения [3]? Его человеческие документы — свидетельства о поэтах в порыве вдохновения — имели бы ценность лишь в том случае, если были бы сделаны в идеальной ситуации объективных внешних наблюдений. Такое сравнение окрыленных поэтов быстро привело бы к потере самой сути явления. Любое сравнение снижает выразительную ценность сравниваемых понятий. Слово «вдохновение» слишком общее, чтобы передать своеобразие вдохновенных строк. По сути, психология вдохновения, даже рассказывая об «искусственном рае», грешит очевидной бедностью. В таких исследованиях у психолога слишком мало документов для работы, а главное, он не несет за них полной ответственности.
Понятие Музы, которое позволило бы нам дать бытие вдохновению и заключить, что у глагола «вдохновлять» существует трансцендентный субъект, конечно, не может войти в словарь феноменолога. Даже совсем юнцом я не мог понять, как горячо любимый мной поэт мог писать о лютнях и музах. Разве можно убедительно, с выражением прочитать, едва не лопаясь от смеха, первую строку великого стихотворения:
Тронь лютню, о поэт, и поцелуй мне дай… [4]
Для мальчишки из шампанской деревни это было слишком.
Нет! Муза, лира Орфея, опиумные и гашишные призраки лишь скрывают от нас существование вдохновения. Записанная поэтическая греза, та, что даст начало книжной странице, — вот та греза, которой можно делиться, воспламеняющая греза, вдохновение, равное нашему таланту читателя.
Феноменолог будит свое поэтическое сознание, и ему для этого не нужно общество — у него предостаточно материала, в книгах дремлют тысячи образов. Он откликается на поэтический образ в том смысле феноменологического «отклика», который так хорошо описал Евгений Минковский [5].
Заметим, впрочем, что грезу, в отличие от сна, невозможно рассказать. Чтобы грезу передать, нужно ее написать, написать с чувством, со вкусом, переживая с новой остротой. Тут мы касаемся сферы написанной любви. Мода на нее уходит, но свет остается. Есть еще души, для которых любовь — это соединение двух стихов, слияние двух грез. Роман в письмах говорит о любви через высокое соперничество образов и метафор. Чтобы выразить любовь, надо о ней написать, и, сколько ни пиши, никогда не будет слишком. Сколько влюбленных, едва вернувшись с нежного свидания, берут в руки перо! Любовь всегда стремится высказать себя, и чем больше поэзии в любовных грезах, тем удачнее высказывание. Грезы двух одиноких душ — залог любовной неги. Реалист в любви увидит тут не более чем зыбкие формулы. И тем не менее великие страсти рождаются в великих мечтах. Отрезая от любви всё ирреальное, мы калечим саму любовь.
В такой ситуации сразу становится ясно, насколько сложной и плавающей будет дискуссия между психологией грезы, основанной на наблюдениях за мечтающим, и феноменологией творческих образов, нацеленной на то, чтобы пробудить даже скромного читателя к новаторскому действию языка поэзии. В более общем смысле вполне понятна, мы полагаем, целесообразность определения феноменологии воображаемого, где воображение ставится на свое — первое — место, в качестве принципа прямой активации психического становления. Воображение заглядывает в будущее. Подталкивая нас к легкомыслию, отрывает от прочного основания. Мы увидим, что иные поэтические грезы — это воображаемые жизни, которые раздвигают границы нашего существования, позволяя почувствовать себя увереннее во Вселенной. По ходу изложения мы приведем многочисленные свидетельства обретения этой уверенности. В наших фантазиях рождается мир, это наш мир. И этот выдуманный мир показывает нам возможности расширения границ нашего бытия во вселенной, нашей вселенной. В любом воображаемом мире есть устремленность в будущее. Жоэ Буске [6] сказал:
Человек может стать кем угодно в созданном им мире [7].
И если взять поэзию во всём неистовстве человеческого становления, на вершине вдохновения, несущего нам новое слово, то что толку от биографии, которая рассказывает нам о прошлом, тягостном прошлом поэта? Будь у нас хоть малейшая склонность к полемике, какое досье из бесполезных биографических фактов мы могли бы собрать! Приведем лишь один пример.
Полвека назад один король литературной критики поставил себе задачу объяснить поэзию Верлена, которая ему не нравилась. Да и как любить стихи поэта, обретающегося на задворках образованного общества:
Его ни разу не видели ни на бульваре, ни в театре, ни в салоне. Он где-то на окраине Парижа, пьет плохое вино в дальнем углу какой-нибудь лавки.
Плохое вино! Какое унижение для божоле, которое в то время подавали в маленьких кафе на холме Святой Женевьевы!
Тот же критик добавляет последний штрих к характеру поэта, описывая его шляпу. Он пишет: «Даже бесформенная шляпа, казалось, вторила его унылым мыслям, обрамляя тревожное лицо своими вялыми полями наподобие черного ореола. И что за шляпа! Временами она игрива и капризна, как жгучая брюнетка, а то кругла и наивна, как у ребятишек из Оверни и Савойи, порой напоминает треснувший тирольский конус, лихо сдвинутый набекрень, а то забавно-ужасна: этакая ухарская бандитская шляпа, один край глядит вниз, другой вверх, спереди козырьком, сзади прикрывает затылок» [8].
Найдется ли во всём творчестве поэта хоть одно стихотворение, которое можно было бы объяснить этими художественными вывертами шляпы?
Насколько сложно соединить жизнь и творчество! Может ли нам помочь биограф, сообщая, что такое-то стихотворение было написано Верленом в тюрьме Монса:
Небо там над кровлей
Ясное синеет [9].
В тюрьме! Кто в минуты меланхолии не чувствует себя в тюрьме? В своей парижской квартире, вдали от родной земли, я предаюсь верленовским грезам. Над каменным городом простирается небо прошлого, и в моей памяти звучит вокальный цикл Рейнальдо Ана на стихи Верлена. Эмоции, грезы и воспоминания в полную мощь разворачиваются передо мной над этими стихами. Именно «над»: не под ними, не в той жизни, которой я не жил, — дурно прожитой жизни несчастного поэта. Разве для него, внутри него творчество не было выше жизни, разве творчество — не искупление для того, кто жил дурно?
Как бы то ни было, именно в этом смысле поэзия может собирать грезы, связывать воедино мечты и воспоминания.
Литературная критика психологического толка ведет нас к иной цели. Ее занимает не поэт, а человек. Но великие образцы поэзии по-прежнему заставляют нас задуматься: как человек, невзирая на жизнь, становится поэтом?
Однако вернемся к нашей простой задаче — показать созидательный характер поэтической грезы и, чтобы подготовиться к ее решению, спросим себя, действительно ли греза — это всегда явление расслабления и забытья, как это нам внушает классическая психология.
IV
Психология больше теряет, чем выигрывает, когда формулирует свои основные понятия исходя из этимологии слов. Так, этимология стирает самые явные различия между сновидением и грезой [10]. С другой стороны, психологи стремятся прежде всего найти специфическое, а потому изучают в первую очередь сновидение, удивительный ночной сон, и не очень обращают внимание на грезы, греза для них — не более чем путаное сновидение без структуры, без истории, без загадки. Нечто вроде обрывков ночной материи, случайно забытой при свете дня. Когда эта онирическая материя сгущается в душе мечтающего, греза переходит в сон, «приступы мечтательности», описанные психиатрами, удушают психику, мечтательная задумчивость переходит в дремоту, грезящий засыпает. Таким образом, переход из состояния грезы в сон неизбежно отмечен этим провалом. Жалка та греза, от которой клонит ко сну. Невольно задаешься вопросом, не ведет ли такое «засыпание» к затуханию бытия самого бессознательного. Бессознательное вновь примется за работу в сновидениях настоящего сна. Психология действует в направлении двух полюсов — ясной мысли и ночного сновидения, пребывая в уверенности, что охватывает таким образом всю сферу человеческой психики.
Но есть и иные грезы, они не относятся к тому сумеречному состоянию, где дневная жизнь сливается с ночной; и во многих отношениях дневные грезы заслуживают непосредственного изучения. Мечтание — духовное явление, слишком естественное, но и слишком важное для психического равновесия, чтобы рассматривать его как производное от сновидения, чтобы безоговорочно ставить его в один ряд с онирическими явлениями. Коротко говоря, чтобы определить сущность грезы, нам надо обратиться к самой грезе. Именно феноменология позволяет прояснить различие между сном и грезой, и определяющим критерием тут выступает возможное вмешательство сознания.
Встает вопрос, присутствует ли сознание в сновидении. Сны бывают такими странными, что кажется, будто сон за нас видит кто-то другой. «Мне приснился сон» — эта фраза ясно показывает пассивность субъекта в выразительных ночных снах. Мы должны снова пережить эти видения, чтобы убедиться, что они действительно принадлежат нам. Позже мы превратим их в истории о приключениях в другом времени, в другом мире. Добро тому врать, кто за морем бывал. Часто — нечаянно, неосознанно — мы добавляем красок, чтобы усилить драматизм своих похождений в царстве ночи. Вы когда-нибудь обращали внимание на выражение лица человека, который рассказывает свой сон? Он посмеивается над пережитыми злоключениями, над своими страхами. Его это забавляет; он хочет, чтобы и вы позабавились [11]. Рассказчик часто наслаждается своим сном как оригинальным произведением. Во сне он переживает заимствованную подлинность и бывает крайне удивлен, когда узнает от психоаналитика, что столь же «уникальное» и очень похожее приснилось кому-то еще. Уверенность человека в том, что он пережил во сне то, о чем рассказывает, не должна вводить нас в заблуждение. Это привнесенная уверенность, крепнущая с каждым новым пересказом сна. Субъект, который рассказывает, и субъект, который видел сон, безусловно, не тождественны. А потому собственно феноменологическое толкование ночных сновидений — трудная задача. У нас, вероятно, появились бы данные для решения этой задачи, если бы мы продвинулись дальше в развитии психологии, а следовательно, и феноменологии грез.
Вместо того чтобы искать сон в грезах, стоит поискать грезы в снах. В море кошмаров встречаются островки безмятежности. Вот что писал об этих наложениях грез и сновидений Робер Деснос: «Я сплю и вижу сон, не в силах точно разделить сон и грезу, и всё же сохраняю ощущение окружающей обстановки» [12]. Иными словами, в темной пелене сна спящему вновь открывается сияние дня. Он вновь осознает красоту мира. Красота мира грез на мгновение возвращает ему ясность сознания.
Так, греза являет покой бытия, греза являет благость бытия. Мечтатель и его греза душой и телом погружаются в субстанцию счастья. В одну из поездок в Немур в 1844 году Виктор Гюго вышел в сумерках «осмотреть диковинные песчаники». Темнеет, город умолкает, где же город?
Всё это не было ни городом, ни церковью, ни рекой, ни цветом, ни светом, ни тенью; это было грезой.
Я долго стоял неподвижно, чувствуя, как меня мягко заполняет неизъяснимое и нераздельное, безмятежность неба, тихая грусть. Не знаю, что творилось у меня в голове, и не мог бы этого передать, это было то невыразимое мгновение, когда чувствуешь, как что-то внутри тебя засыпает, а что-то просыпается [13].
Иными словами, когда грезы углубляют тишину внутри нас, вся вселенная содействует нашему счастью. Если вы хотите мечтать в полную силу, вот вам совет: вначале почувствуйте себя счастливым. Тогда греза может исполнить свое истинное предназначение и стать поэтической грезой: всё в ней, через нее становится прекрасным. Если бы мечтание было профессией, мечтатель превратил бы свою грезу в произведение искусства. И это был бы шедевр, ведь мир грез сам по себе грандиозен.
Метафизики часто упоминают «открытость миру». Но если их послушать, можно подумать, что стоит только отдернуть занавеску, не успеешь и глазом моргнуть, как вот он, Мир, — перед тобой. Сколько опыта конкретной метафизики мы бы получили, если бы уделили больше внимания поэтической грезе. Открыться объективному Миру, войти в объективный Мир, создать Мир, который мы считаем объективным, — небыстрые действия, которые может описать лишь позитивная психология. Но эти попытки путем бесконечных доделок создать устойчивый мир вытесняют из нашей памяти яркость первых открытий. Поэтическая греза дарит нам мир миров. Поэтическая греза — поистине космическая греза. Она открывает перед нами восхитительный мир, множество чудесных миров. Моему «я» она дает «не-я», которое есть идеал меня; «мое не-я». Это «мое не-я» завораживает «я» грезовидца, а поэты умеют разделить его с нами. Именно это «мое не-я» позволяет моему грезящему «я» проникнуться доверием к миру. Лицом к лицу с реальным миром мы можем обнаружить в себе тревогу, чувство, что мы заброшены в мир, отданы на волю его бесчеловечности, негативности, где мир — это небытие человека. Требования нашей функции реального вынуждают нас приспосабливаться к реальности, выстраивать себя как реальность, создавать произведения, которые являются реальностью. Но разве греза по самой своей сути не освобождает нас от функции реального? Если мы присмотримся к грезе во всей ее безыскусности, мы увидим, как в ней проявляется функция нереального, нормальная, полезная функция, которая оберегает человеческую психику от любых происков враждебного, чуждого «не-я».
В жизни поэта бывают часы, когда греза вбирает в себя саму реальность. И тогда всё, что он воспринимает, становится частью грезы. Реальный мир поглощается воображаемым. Шелли предлагает нам настоящую феноменологическую теорему, говоря, что воображение способно «побудить нас создать то, что нам грезится» [14]. Следуя Шелли, следуя поэтам, сама феноменология восприятия должна уступить место феноменологии творческого воображения.
Через воображение, благодаря тонким нюансам действия нереального мы входим в мир доверия, мир доверчивого бытия, собственный мир грезы. Дальше мы приведем немало примеров таких космических грез, соединяющих человека, который мечтает, с его миром. Это объединение — идеальный объект для феноменологического исследования. Познание реального мира потребовало бы сложных феноменологических изысканий. Вымышленные миры, миры дневных грез в состоянии бодрствования поддаются поистине элементарной феноменологии. Именно это рассуждение привело нас к мысли о том, что феноменологию следует изучать с помощью грезы.
Космическая греза в интересующем нас контексте — это феномен одиночества, явление, коренящееся в душе грезящего. Для того чтобы прижиться и начать расти, ей не нужно безлюдное пространство. Достаточно повода — не причины — и вот мы уже оказываемся в «ситуации одиночества», в состоянии мечтательного уединения. В таком состоянии воспоминания сами по себе складываются в картины, где декорации важнее, чем драматический сюжет. Грустные воспоминания по крайней мере обретают покой меланхолии. И в этом — еще одно отличие грезы от сна. Во сне продолжают кипеть тяжелые дневные страсти. Одиночество ночного сна всегда таит что-то враждебное, чужеродное. Это одиночество — не вполне наше.
Космические грезы уводят нас прочь от мечтаний о будущем. Они дают нам место в мире, а не в обществе. В космической грезе есть некое равновесие, спокойствие. Она помогает нам спрятаться от времени. Греза — это состояние. Заглянем в самую суть грезы: это — состояние души. В одной из предыдущих книг мы говорили, что поэзия дает нам материал для феноменологии души. Вся душа поэта раскрывается в его поэтической вселенной.
Выстраивать системы, проводить различные опыты, чтобы понять, как устроен мир, — задача разума. Уму пристало терпение, чтобы усвоить всё накопленное в прошлом знание. Прошлое души так далеко! Душа не живет по правилам времени. Она находит покой во вселенных, созданных грезой.
Полагаем, мы можем показать, что космические образы принадлежат душе, одинокой душе — душе, где рождается любое одиночество. Идеи оттачиваются и множатся в занятиях ума. Образы, во всем их великолепии, воплощают очень простое единение душ. Следовало бы составить два словаря: для изучения языка знаний и языка поэзии. Но эти словари не связаны между собой. Ни один словарь не помог бы в переводе с одного языка на другой. И язык поэтов возможно изучать лишь непосредственно, точно так же как язык душ.
Можно было бы, конечно, предложить философу изучить единение душ в сферах более драматических, с их человеческими или сверхчеловеческими ценностями, которые считаются более важными, нежели поэтические. Но есть ли польза в том, чтобы громко заявлять о сокровенных душевных переживаниях? Нельзя ли довериться глубине всякого «отклика» для того, чтобы каждый, читая с чувством написанные страницы, по-своему ощутил причастность к поэтической грезе? Наше мнение таково, — мы поясним это дальше в одной из глав, — что безымянное детство лучше раскрывает человеческую душу, чем определенное детство в контексте семейной истории. Главное — чтобы образ попадал в цель. И тогда есть надежда, что он тронет струны души, не запутается в возражениях критического ума, что его не остановит тяжелый механизм вытеснения. Как просто отыскать свою душу в глубинах грез! Греза погружает нас в состояние зарождения души.
Одним словом, в нашем скромном исследовании самых простых образов заключается большая философская амбиция: доказать, что греза дарит нам целый мир души, что поэтический образ свидетельствует о душе, которая открывает свой идеальный мир — мир, в котором она достойна жить.
V
Прежде чем более точно обозначить круг вопросов, которые мы обсудим в этой работе, я бы хотел объяснить ее название.
Долгое время я хотел назвать книгу просто «Поэтическая греза» и всё же остановился на «Поэтике грезы» — тем самым я хотел подчеркнуть ту цельность, которую обретает грезящий, если он действительно верен своим мечтам, а его мечты как раз становятся связными благодаря своему поэтическому значению. Поэзия одновременно создает и мечтателя, и его мир. Ведь если ночное сновидение способно внести в душу разлад, да такой, что пережитые безумства продолжают преследовать вас и днем, то подлинная греза помогает душе испытать наслаждение покоя, радость легкой гармонии. Психологи в своем опьянении реализмом настойчиво указывают на слишком отвлеченный характер наших грез. Они не всегда готовы согласиться, что греза оплетает мечтающего нежными узами, что греза — связующий материал, — короче говоря, греза в полном смысле слова «поэтизирует» мечтателя.
За самим же мечтателем — точнее, за тем, что определяет саму суть мечтателя, следует признать силу поэтизации — назовем ее психологической поэтикой; поэтикой Души, где все психические энергии обретают гармонию.
Итак, мы хотели бы перенести всю связующую и гармонизирующую энергию с прилагательного на существительное и ввести поэтику поэтической грезы (une poétique de la rêverie poétique), подчеркивая повторением, что существительное приобрело тональность бытия. Поэтика поэтической грезы! Смелая, даже чересчур смелая задача, ведь это значит наделить каждого, кто читает стихи, сознанием поэта.
Мы, конечно, никогда не сможем до конца осуществить такой разворот, который привел бы нас от поэтического выражения к творческому сознанию. Но если бы нам удалось, по крайней мере, сделать первые шаги в этом направлении, успокоив совесть мечтающего существа, наша Поэтика грезы достигла бы своей цели.
VI
Теперь коротко о том, в каком духе написаны разные главы этого сочинения.
Прежде чем приступить к исследованию позитивной Поэтики, исследованию, которое мы по привычке осмотрительного философа подкрепили бы точными документами, нам хотелось написать главу менее очевидную — безусловно, слишком личную, — и уже во Введении мы хотели бы на этот счет объясниться. Мы выбрали для этой главы название «Грезы о грезе» и поделили ее на две части; название первой части — «Мечтатель о словах», второй — «Анимус и Анима». В этой двойной главе мы развиваем взгляды несколько рискованные, уязвимые, и, даже боимся, способные остановить читателя, которому не по душе оазисы праздности в сочинении, где обещано навести в мыслях порядок. Но поскольку мы сами пребывали в тумане грезящей психики, то обязаны были откровенно рассказать обо всех грезах, которые нас искушают, о странных грезах, которые часто нарушают наши благоразумные грезы; мы обязаны были до конца пройти привычными путаными тропами.
Мне и в самом деле свойственно мечтать о словах — тех словах, что написаны на бумаге. Мне кажется, я читаю. Вдруг какое-нибудь слово останавливает меня, я бросаю страницу. Слоги в слове начинают дрожать, прыгает ударение. Слово сбрасывает свой смысл, как слишком тяжелую ношу, мешающую грезить. Слова принимают другие значения, как будто они только что появились на свет. И вот они уже отправляются в словарные дебри на поиски новых связей, порочных связей. Сколько же мелких конфликтов приходится улаживать, возвращаясь из блуждающей грезы к нормальному лексикону!
Когда я берусь за письмо, выходит и того хуже. Под моим пером медленно раскрывается анатомия слогов. Слово оживает слог за слогом, легкая добыча для затаившихся грез. Как сохранить его цельность и подчинить привычным связям в наброске предложения, которое, может быть, придется вымарать из рукописи? Разве греза не заставляет начатое предложение ветвиться? Слово — будто почка, готовая дать побег. Как не грезить, когда пишешь: грезит перо, чистый лист дает право на мечтание. Если бы только можно было писать для себя одного… Как тяжела судьба сочинителя — кроить и снова сшивать, чтобы не потерять нить! Но если взялся за книгу о грезах, не пора ли дать волю перу и голос грезе, а еще лучше — раствориться в грезах, когда кажется, что лишь фиксируешь их?
Я — стоит ли говорить? — в лингвистике профан. Далекое прошлое слов — это прошлое, рожденное в моих грезах. Для мечтателя, грезящего словами, они переполнены безумием. Впрочем, пусть каждый, задумавшись, попробует «вы́носить» самое обычное слово, близкое и простое. И тогда из слова, которое дремало в своем значении, будто древний отпечаток в камне, расцветает нечто совершенно неожиданное [15].
Да, слова в самом деле могут грезить.
Однако признаюсь лишь в одной из своих шальных грез о словах: каждому слову мужского рода я воображаю подходящую пару женского рода, идеальную супругу. Мне нравится в два раза чаще встречать в мечтах красивые слова французского языка. Простого изменения грамматического окончания тут, конечно, будет мало — сложится впечатление, будто женский род — подчиненный. Я счастлив только тогда, когда получается найти слово женского рода у самого корня, на предельной глубине, иными словами — у истоков женского начала.
Род слов, что за развилка! Но можем ли мы быть уверены, что разделили верно? Какое знание, какое прозрение определяло первичный выбор? Словарь, похоже, пристрастен — он отдает предпочтение мужскому роду, часто обходясь с женским как с производным, подчиненным.
Отыскивать в самих словах женские глубины — вот одна из моих грез о способностях языка.
Если мы позволили себе поделиться всеми этими тщетными грезами, то лишь потому, что они подвели нас к одному из основных соображений, которые мы хотим защитить в этой работе. Если сновидение часто отмечено резкими акцентами мужского начала, то греза, как нам показалось — на сей раз по ту сторону всяких слов, — наоборот, имеет женскую сущность. Мечтание безмятежным днем, в тишине и неге — настоящая естественная греза — это неотъемлемая способность существа в состоянии покоя, одно из женских состояний души человека, будь то мужчина или женщина. Во второй главе мы попытаемся представить менее субъективные доказательства этого тезиса. Но новые идеи приходят лишь тому, кто любит фантазировать. Мы признались в своих химерах. Те, кто готов следовать этим химерическим знакам, кто соединит свои собственные грезы в грезы о грезах, тот, возможно, найдет в самой глубине мечты великое умиротворение своего сокровенного женского начала. Он вернется в гинекей воспоминаний, которым является любая память, древнейшая память.
Наша вторая глава носит более позитивный характер, чем первая, и всё же попадает под общий заголовок «Грезы о грезе». Мы стремимся по мере возможности опираться на материалы психологов, но поскольку мы сочетаем их со своими мыслями-фантазиями, то понятно, что философ, используя знания психологов, несет полную ответственность за свои аберрации.
Положению женщины в современном мире посвящено много исследований. Такие авторы, как Симона де Бовуар и Фредерик Якоб Бёйтендейк [16], в своих глубоких книгах затрагивают саму суть проблемы [17]. Мы же ограничим наши наблюдения лишь «онирическими ситуациями» и попробуем немного прояснить, как мужское и женское — особенно женское — начала управляют нашими грезами.
Итак, бо́льшую часть наших аргументов мы позаимствуем из глубинной психологии. В своих многочисленных работах Карл Густав Юнг показал, что психика человека глубоко дуалистична. Он обозначил эту двойственность парным знаком анимус — анима. По мнению Юнга и его последователей, в психике любого человека, будь то мужчина или женщина, присутствуют — иногда в сотрудничестве, иногда в конфликте — анимус и анима. Мы не будем вдаваться во все подробности развития темы внутреннего дуализма в глубинной психологии. Мы лишь хотим показать, что греза в самом своем простом и чистом виде — это свойство анимы. Любое упрощение, конечно, несет риск искажения реальности, но вместе с тем помогает обозначит
