автордың кітабын онлайн тегін оқу Сердце самой темной чащи
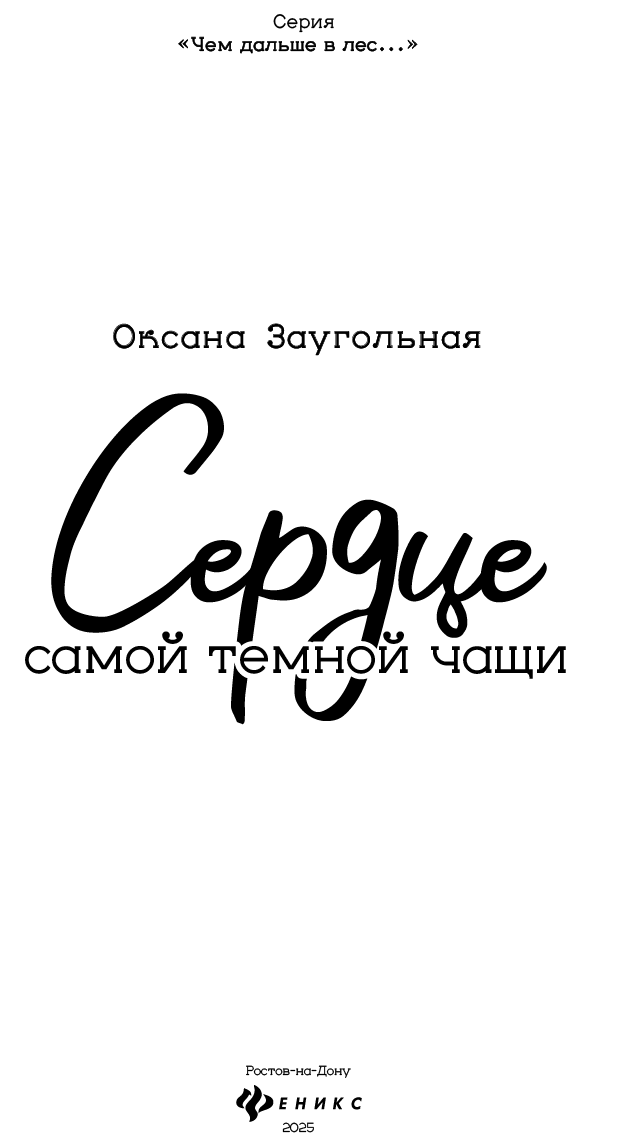
Посвящается Юлии Стрелкиной,
другу и музе
Глава 1
Порыв ветра хлестко ударил по лицу, освежил мелкими, но частыми каплями, отчего не только платье, но и волосы разом сделались воглыми и тяжелыми. Хотелось вернуться в избу, сесть поближе к печи и почувствовать, как холодная, неуютная ткань прямо на теле становится теплой, как поднимается от нее едва заметный при свете лучинки пар.
Василиса вздохнула, поплотнее запахнула на груди потяжелевший от воды мамин платок, прижимая под ним озябшей разом рукой куколку. В том-то и беда, что ни лучинки, ни огня в печи не осталось. Порыв ветра, распахнувший дверь, что не закрыла на засов вернувшаяся позже всех Власта, как по волшебству затушил не только тоненькую лучинку, но и очаг. Василиса, ожегшая пальцы, когда пыталась спасти хоть одну искорку, была грубо окликнута мачехой:
— Непутеха, дверь закрой! Вот же безрукая!
Василисе бы напомнить, что сама она, едва стемнело, была уже на лавке, дальше всех от еле светящей в сумерках лучины, и, не позволяя себе протереть уставшие глаза, пряла пряжу. Пальцы сводило от монотонной работы, вот и не поймала огонек, лишь зря обожглась. Но она промолчала и поскорее закрыла дверь да подперла ее бревнышком, чтобы тепло не вышло из темного дома.
— Вот совсем ты батюшку не ждешь, как я погляжу, — усмехнулась Власта. Она поспешно отложила кружева, за которые ее посадила мать, и завернулась поплотнее в стеганое одеяло. Рядом и Белолика бросила чулки, тихонечко хихикая. — Дверь вон как крепко запираешь.
Василиса больно прикусила губу, но промолчала. Только мамину куколку на ощупь отыскала и, также не глядя, пальцами по личику ее пробежалась. Успокоилась.
Ей бы и сказать, что батюшка в такую погоду с постоялого двора не уедет: товары не рискнет погубить. Его же Милица тогда мытьем да катаньем со свету сживет. Уж больно из избы она мечтает в хоромы перебраться, чтоб и терем светлый над горницей, и наличники резные.
Как она это батюшке представляла, уж на что Василиса свою мачеху знала, а и то заслушивалась! Милица дома-то косу чуть из-под платка выпускала, чтобы локон черный по плечу вился и спускался, сама присаживалась рядом с батюшкой и ворковала сладко, дескать, у Василисы глазоньки портятся от работы в темной избе, а Власточка все руки смозолила чистить старые полы, а уж Белолика-то света белого не видит, прибирая печь да замазывая щели.
Батюшка гладил этот локон, что по рубашке вился, и кивал, будто сонный, со всем соглашаясь. Василиса помладше была, так пару раз не удерживалась, только руками всплескивала.
— Да как же так, батюшка? Это же я печь прибираю, я щели замазываю, я полы чищу!
Только задурманенный отец лишь кивал осоловело и Василису не слушал. А сестры сводные потом больно за косы таскали да смеялись. А Милица никогда мешочка с колотым горохом не жалела, чтоб сунуть Василисе перебирать, а потом и под голову на лавку подсунуть.
Так Василиса и перестала жаловаться, только лучше прятала куколку и платок — все, что от родной матери осталось. Вот и сейчас она покрепче прижала куколку к груди, а в приоткрытую дверь вместе с завыванием ветра донеслось Белоликино:
— Куколку оставь, а то вместе с ней сгинешь!
Засмеялась она или нет — Василиса и не слышала: уж больно громко закаркали вороны, вместе с ветром налетая на нее, едва не касаясь мокрой косы.
Куколка и впрямь была примечательной. Как и в любом доме, в их тоже было много куколок — соломенных, наряженных в пестрые тряпички, тряпичных со светлыми пустыми личиками, зерновушек и желанниц. У Власты была с самой длинной косой, зато Белоликина была одета в настоящие кружева. Но та, что досталась Василисе от матери, оказалась совершенно особенной.
Василиса и не видала ее в доме до самой матушкиной смерти. В тот день она проработала с теткой в поле, и тетка, родная сестра батюшки, поучала ее: «Вот будет матушка помирать, руки ей не давай, целовать себя тоже не позволяй. Обнимешь, когда глаза сомкнет, и не раньше. Слушай внимательно, глупая, не запамятуй!»
Жужжала как муха противная над ухом, так что Василиса и понять не могла: то ли голова кружится от зноя, то ли от теткиных слов. Что матушка вот-вот умрет, Василиса уже знала. Все слезы уже излила, сил больше плакать не было, как и с теткой спорить. Да только едва прибежал соседский мальчишка с вестью горестной, Василиса и думать забыла о наставлениях. Хотела заобнимать и зацеловать матушку, но та была слишком слаба. Лежала почти как неживая на лавке, укрытая пуховым одеялом — это посреди лета, — и руки ее подрагивали как от холода.
Вот тогда мама и протянула ей куколку.
— Не станет меня, Василисушка, за куколкой смотри как за сестричкой, — слабым голосом попросила мать. — Лакомый кусочек ей давай, а будет нужно, и совета спрашивай — куколка тебе обязательно поможет.
Василиса сама за куколкой руку потянула, да и кто бы устоял! Куколка была как живая девочка, только с ладошку величиной. Глазки с ресничками, волосы, убранные в аккуратную косу, щечки румяные, на ручках по пять пальчиков, на ножках не лапти даже, а сапожки. И платье ровно у царевны, стеклярусом убрано. Красивое — глаз не отвести!
И только Василиса ладонь протянула, как кукла словно сама к ней скакнула. Больно щипнуло ладонь, пробежала искорка, потемнело в доме, а на улице будто стих не только ветер, но и весь двор. Не слышно стало возвращающихся с пастбища коров, визгливых соседок, что уже готовились оплакать мать Василисы, домовой перестал шуршать за печью, не каркали вороны. Тишина.
Василиса даже подумала, что оглохла. Потрясла головой, но тут все и прошло. А когда она снова на матушку глянула, то тотчас поняла, что та ее навсегда оставила.
Горевала Василиса — горевал и батюшка ее. Василиса каждый вечер на куколку глядела и маму вспоминала, утром умывала подруженьку чистой водицей из колодца, какую для себя и отца набирала, в зной прикрывала от солнца и рядом оставляла самые нежные и сладкие кусочки со стола. А кто там ими лакомился: куколка, домовой или мышка — Василиса не любопытничала зазря.
А вот батюшка горевал до Покрова, а как снег первый лег, так и заслал сватов в соседнюю деревню.
— Будет мне супружница и в доме хозяйка, а тебе матушка и сестрицы, — пояснил он Василисе. — Уж не обидит сироту: у самой две дочери.
Василиса покорно кивнула. Ей и впрямь еще года два-три — и к самой женихи на двор приедут, а батюшка, что же, один останется?
Только вышло вон как. Власта и Белолика сами заневестились, но со двора не ушли, потому как характер у обеих был совсем не сладким. Власта еще бегала со двора помиловаться с соседскими парнями, что нрава ее еще не знали, а Белолика и вовсе носа за порог не совала. Ни за водой сходить, ни в поле.
Она и лицом, и волосом в мать пошла. Высокая, черноглазая, светлокожая, Белолика рядом с Василисой выглядела дурнушкой и всего в ней хорошего, что нетронутая кожа без поцелуев солнечных. Да только у русоволосой и зеленоглазой Василисы даже веснушки смотрелись так, что парни шеи сворачивали и все как один обещали сватов заслать.
Так было той зимой и по весне, а летом как отсохли все, или мачеха отсушила. Уж она точно могла: глаз ее черный был, дурной.
Василиса больше не роптала и свои догадки вслух не высказывала. Вот уйдут со двора мачехины дочери, чай, и для Василисы смелый жених найдется.
Наверное, и мачеха это понимала, раз совсем извести решила. Дождалась, когда батюшка надолго уедет, да и повод нашла.
Едва Василиса дверь подперла и в матушкин платок завернулась, чтобы в избе не замерзнуть, когда ветер ее выстудит, мачеха снова голос подала:
— Василиса, доченька, — ласково так, словно с батюшкой разговаривает. Василиса сразу поняла, что не к добру это, но послушно откликнулась:
— Да, ма… матушка.
Язык едва ворочался такое говорить, но что поделаешь? Мачеха требовала звать ее именно так и улыбаться, когда батюшка дома, а Власту и Белолику сестрицами величать. А что сестрицы и еды толком не оставят, пока Василиса в поле или за коровой убирает, так это и вовсе упоминать не велено.
И давно уже Василиса должна была с лица спасть, подурнеть и похудеть, а волос в косе стать от постоянных дерганий тусклым и тонким, да только ничего такого не случалось. Самый старенький сарафан на ней ладно смотрелся, щеки румянцем алели от работы на воздухе да от недолгого сна дальше всех от печи, в самой зябкой части избы. И как бы мало ни ела, а все одно: хоть ложку каши, но перед куколкой ставила и просыпалась совсем сытой, будто куколка возвращала ей сторицей.
И сколько раз Василиса раздумывала, попросить ли ей совета у куколки, может, узнать хоть, как ей удается от жадных Власты и Белолики скрываться, раз они до сих пор такую диковинку к рукам не прибрали, но все не решалась. Только перед сном шепотом на судьбу свою жаловалась, тихо-тихо, чтобы мачеха и сестры не прослышали. Куколка поблескивала своими стеклянными глазками и молчала, но словно слушала, и Василисе на душе становилось легче.
Снова рассмеялись Белолика и Власта, когда Василиса назвала их мать матушкой, словно знали что-то. А может, и знали. Василисе то неведомо.
— Непогода разыгралась, Василисушка, — мягко продолжила мачеха. — Без огня вымерзнем. Надо принести огня, да хорошего, чтобы до зимы грел. Такой только у Кощея имеется. Навьим огнем зовется.
Уж на что Василиса кроткой была и послушной, а не удержалась — ахнула.
— За что ты так со мной, матушка? — чуть не плача спросила она. — Разве не лучше до кузнеца сбегать? У него завсегда огонь есть, в любую непогоду не тухнет!
— Чтоб потом кузнец сватов на наш двор заслал? — взвизгнула Власта. — Не слушай ее, матушка! Василисе лишь бы со двора сбечь да парню какому голову вскружить!
Онемела Василиса от такого обвинения. Так и не нашлась, что ответить. Только куколку свою нащупала, пока сестрицы снова дверь отворяли. Ох и до того споро они это сделали, что Василиса снова заподозрила сговор.
— Огонь хороший только у Кощея взять можно, — напутствовала мачеха. — Такой, чтобы дом не пожег, зимой не затух, летом не дымил. У вас тут обычный был, вот легкий ветерок и выдул его сразу из печи, ни лучинки не осталось с искрой. Ты радоваться должна, что я эту тайну тебе открываю. Будет свой двор, и на него огня от Кощеева получишь.
Засмеялась Белолика, будто что-то смешное мачеха сказала, а Власта добавила ехидно:
— Радоваться должна, что не зима сейчас, а то до первого сугроба бы Кощеев огонь искала.
Хотела рассмеяться, да только ветер завыл в трубе до того жутко, что подавилась Власта смешком и отпрянула от открытой двери.
На мгновение двор озарило молнией, и снова стало темно. Василиса едва успела увидеть рвущиеся за ветром ветви деревьев, словно худые костлявые руки, да борющихся с непогодой воронов, которые ломали крылья, но пытались взлететь в серое вечернее небо.
— Ночь же на дворе, матушка! — взмолилась она. Но Белолика толкнула ее в грудь, отчего Василиса пусть и устояла на ногах, но оказалась прямо под ненастным плачущим небом и пронизывающим ветром.
— Без Кощеева огня не возвращайся! — крикнула мачеха, а Белолика добавила свое:
— Куколку оставь, а то с ней сгинешь!
Только не послушала ее Василиса, крепче прижала куколку к груди и побрела прочь со двора отцовского.
За воротами огляделась. Может, к тетке пойти и там ночь переждать, а с утра принести огня? Неужто отличит мачеха, что огонь не Кощеев, а из соседской печи?
Перед глазами встал батюшка, покачал головой недовольно. Разве не обещала Василиса во всем слушаться мачеху в его отсутствие, не обещала быть хорошей сестрой Власте и Белолике? А Марфа, что же, разве не расскажет мачехе, что заходила племянница и огня попросила? Холодна была Марфа, словно Василиса не брата родного дочь, а нищенка какая бродячая. Да и не поверит ей мачеха, что она до Кощея дошла. Начнет расспрашивать, каков его дом, потчевали ли ее чем-то как гостью или собаки злые со двора погнали.
Поежилась Василиса то ли от холода, то ли от мыслей о том, каков дом Кощея и кто его охраняет. Небось волки голодные с зубами острыми заместо собак, рыси и росомахи заместо котов. И ее как гостью если сразу не убьют, то человечиной попотчуют!
Да только проситься на ночлег к соседям тоже нельзя было. Черным глазом дурным вычислит мачеха добряка, сгорит у коровы его молоко, приболеют дети.
Снова вздрогнула Василиса, но в руке тепло шевельнулась куколка, и решилась девушка идти в лес. Коли не найдет Кощея, так тому и быть. Поплутает и выберется к родной деревне, а там и батюшка с товарами вернется. Сам достанет огня у кузнеца. А повезет Василисе, так дожди зарядят, отец до первого снега никуда не поедет, а уж на Покров она со двора уйдет, хоть за хромого Ждана, хоть за кривого Некраса.
Ей бы сейчас только ночь перетерпеть да день переблуждать. А выйдет ежели к Кощею, значит, судьба такая. Ну не съест же он ее в самом деле!
Василиса поежилась и сильнее стиснула в руке куколку да голову в плечи вжала. Про Кощея много разных слухов ходило. И был он царем всего мертвого и Нави, или же только тех умертвий, что выползали в самые сильные морозы к деревням. И был он страшен как война и мор или просто стар как сама смерть. Мнения тут были разными, и долгими зимними вечерами за сказками да историями деревенские спорили об этом, так и не приходя к одному мнению. Потому как мало кто видел Кощея и живым ушел. Но в одном все сходились точно — Кощей был бессмертен и богат так, как и царю их не снилось, не то что купцам. А еще жесток. И о его жестокости не слагали легенды лишь потому, что и певцы легенд боялись за свою шкуру не меньше, чем прочие.
— Да разве ж найду я в лесу двор Кощея? — бормотала Василиса себе под нос, пользуясь тем, что из-за воющего ветра сама себя не слышала. — Я столько раз по ягоды и грибы ходила, никакого двора Кощея не видела. Выдумки это все. Зачем ему тут дом ставить, когда он Нави хозяин?! В Нави пусть и строится, а в нашей чаще и буреломе его комары заедят да любопытные девки замучают.
Смешно Василиса себе под нос бормотала, а самой не до смеха было. Ветер то в спину толкал, то под платье забирался. Сучья, словно пальцы, норовили ухватить за платок или за косу, дождь поливал сверху, под босыми ногами хлюпала грязь и цеплялись корни, вылезавшие из закисшей земли прямо поперек тропки.
Василиса уж и пожалела, что не натянула лапти. Но ее вытолкнули из дома внезапно, а до непогоды днем было тепло, и обувка ей не требовалась. Сейчас же она завидовала своей куколке, что держала у сердца под платком. Куколка была обута, ее платье было почти сухим и чистым. Сама же Василиса уже сомневалась, что Кощей, если он вообще ей встретится, пустит такую замарашку на порог.
Сейчас озябшая Василиса мечтала лишь об одном — встретить хоть какое-нибудь жилье, в котором будет огонь и в которое ее пустят обогреться и обсушиться. Она согласна была даже на избушку ведьмы или Бабы-яги, но любое строение, которое мелькало среди деревьев и казалось ей такой избушкой, оказывалось лишь старой моровой избой. И пусть после блужданий в темноте и под дождем и ветром Василиса уже согласна была свернуться калачиком даже рядом с мертвецом в моровой избе, но огня там сроду не водилось, и она могла после такой ночевки разве что радоваться, что хоронить ее батюшке не придется. И это если мертвецы чему-то еще рады бывают!
Так что она упрямо шла вперед, хотя и бурелома, и моровых изб становилось только больше, а ветер усиливался и, кроме холодных капель дождя, бросал в лицо Василисе всякий сор, мелкие ветви и листья.
И только она подумала спрятаться под еловыми ветвями и переждать непогоду, как впереди послышался топот. Василиса замерла.
Может, послышалось ей сквозь вой ветра? Но нет, не послышалось. Василиса спешно шагнула в сторону с тропы, понимая, что всадник, кем бы он ни оказался, тут, в самой чаще леса, вряд ли остановит коня, чтобы не затоптать ее.
Глава 2
Но уже через несколько мгновений всадник оказался совсем близко, и Василиса облегченно выдохнула, чтобы вновь перестать дышать от страха. Всадник в богатом белом плаще, который не трепало ветром и не мочило дождем, да на белом коне повернул чуть голову, и в предрассветных сумерках Василиса явственно разглядела гладкий блестящий череп, острые костяшки скул и треугольный провал носа. В отличие от этого темного треугольника, впадины глазниц изнутри горели огнем, их и видела Василиса издалека.
Василисе показалось, что руки ее холодны не от непогоды, которая уже стихла, а от близости смерти. Она почти не дышала и сердце — стучало ли оно или это грохотали копыта белого коня?..
Ей казалось, что целую вечность она смотрит на всадника, а он смотрит на нее и взгляд этих бездушных огоньков проникает в самое сердце, холодным потом спускается по позвоночнику, заставляет мельчайшие волоски на теле встать дыбом. Если бы Василиса не сжимала в руке куколку, то наверняка замертво бы упала на землю и не поднялась бы снова. Но словно что-то кольнуло ее в руку, она моргнула и поняла, что прошла лишь пара мгновений. И всадник вовсе не глядел на нее, просто проскакал мимо, безмолвный и бесстрастный.
А Василиса задрала голову и убедилась, что ей не показалось, — небо уже начало светлеть. Серые сумерки постепенно отступали, а ведь она даже не заметила, как отступила ночная тьма! Все из-за ветра и холода, да и дождь еще — куда тут в небо глядеть, тут бы живой остаться!
Василиса приободрилась.
— Сейчас солнце выглянет, высушит, а там можно и домой пойти, авось батюшка уже вернулся, — пробормотала Василиса и снова вздрогнула. Теперь, когда ветер не выл, не скрипели деревья, ее голос показался ей самой слишком громким в притихшем лесу.
Она вернулась на тропку, пробуя босыми ногами подсыхающую землю, чтобы не запачкать подол платья сильнее, чем уже было, и мысленно сетуя на бледного коня. Своими копытами тот совсем разбил тропу, превратив ее в жирную грязевую канаву. И тут Василиса снова услышала топот.
Она поспешно спрыгнула в траву, спряталась за кустами и замерла, не в силах даже почесать ногу, хотя отчетливо чувствовала босой ступней, что приземлилась на муравейник и маленькие злые муравьи уже вовсю ползли по ее ноге, примеряясь, где кожа нежнее, чтобы вцепиться крошечными челюстями.
И снова у всадника вместо головы был череп, гладкий и алый, словно только что пущенная кровь, он поблескивал в лучах преследовавшего его алого солнца. Алый плащ небрежно висел на его плечах, спускаясь на круп алого коня. Даже грива коня горела огнем так, что Василиса прикрыла глаза, словно боясь ослепнуть.
Промчался мимо всадник, будто и не видел Василису. И следом за ним встало солнце. Согрело землю, подсушило платье и косу Василисы, да только идти легче не стало. Заблудилась Василиса в чаще, куда не повернет — места незнакомые, деревья старые, с корявыми стволами, темными еловыми лапами, а куда ногу не поставишь — сладко чавкает сытый влажный мох, трещат мокрые мертвые ветви бурелома.
Тяжело стало идти Василисе, хотела она вернуться на тропу, по которой всадники скакали, да разве найдешь ее в такой темноте! Лес до того густой сделался, что даже кроны стыдливостью перестали отличаться, переплелись плотно, спрятав от Василисы солнце. Дышалось в лесу тяжело, воздух был теплым и тяжелым, ровно пуховое одеяло, но Василиса упрямо шла вперед. Перелезала через подмокший валежник, обходила трясину, перепрыгивала через быстрые ручьи, что шептали что-то под ногами.
За весь день раз только присела, напилась досыта да руками застирала подол платья — пусть мокрый, зато не грязный. И ягод знакомых горсть в рот кинула — вот и вся еда за день! Достала из-за пазухи куколку, полюбовалась ее искусно вылепленным личиком, заглянула в голубые стеклянные глаза да вздохнула. Время ли совета у куколки спросить? Матушка обещала, что кукла поможет, из беды выручит. Да только разве ж это беда? Так, всего лишь очень устала ходить; ноги, искусанные комарами и муравьями, в грязи и холодной воде застуженные, ноют; растрепавшаяся коса в глаза лезет; да живот от голода сводит. Ну так не впервой, не беда это, а так, невзгода.
Последнюю малинку, самую спелую и красивую, Василиса по губам куколки размазала. Некогда ей ждать, когда та сама полакомится. Размазала и пожалела сразу: ротик куколки похож стал на пасть упыря, что крови человеческой вдоволь напился.
Василиса головой завертела, ища, чем бы куколку вытереть, чтобы к ручью не возвращаться, а потом глядь — и не нужно ничего вытирать. Снова чистенькое личико у куклы, аккуратный ротик разве что самую капельку краснее стал.
Снова прижала Василиса куколку к сердцу и дальше пошла, не сидеть же на кочке весь день до вечера, а ну снова непогода в лесу застанет! Уж не к своей, так к чужой деревне она точно выйти должна. К тому же и моровые избы давно закончились. Лес был вокруг один, густой и мрачный.
Василиса даже под нос не бормотала больше: так страшно было собственный голос услышать в этой тишине. Не пели тут птицы, даже ворон не было слышно. Не цокали белки, не ворочались в глубине кустов кабаны. Василиса уже подумала, что даже услыхать волка и то сейчас было бы лучше этой тишины, но больно прикусила язык, будто вслух глупость сморозила. Только волков ей сейчас и не хватало!
Хотелось выйти уже к людям или хотя бы найти охотничью избушку. Куда угодно, лишь бы не бродить по лесу без толку до стертых в кровь ног. Старые мертвые деревья цеплялись за косу и подол, царапали лицо и шею. Воздух душил мошкарой, даже солнце, почти не проглядывающее через плотно сплетенные кроны, жарило, а не грело.
Пару раз она падала на землю и лежала ничком, вдыхая густой муравной запах и мечтая так и умереть, но потом вставала и ковыляла дальше, не выпуская из руки куколку, словно та ей придавала сил. Долго ли, коротко ли, да только совсем вымоталась Василиса и уже подумывала найти место для ночлега среди бурелома, как снова услышала топот.
Кольнуло вновь ладонь, придавая храбрости, и Василиса побежала, да так быстро, словно и не знала усталости. И бежала она не прочь от звука, а за ним! Ветви хлестали по ногам и лицу, осока резала босые ступни, камни кололи, мох и ручьи мочили только что высохшее платье, но Василиса не обращала на это внимания, лишь крепче сжимала куколку и бежала вперед.
Вот и тропа наконец показалась, а по ней скакал всадник. Конь под всадником в этот раз был вороной, да до того огромный, что одно копыто с тарелку. Сам всадник был облачен в черный плащ, и даже череп над плечами казался темнее, чем у его собратьев. Следом за всадником, замедлившим ход, Василиса птицей вылетела на открытое пространство и ахнула. Пусть уже снова сгустились сумерки, но они не помешали ей разглядеть частокол, а за ним и хоромы.
Все как мачехе мечталось: и горница над клетью и сенями, и светелки, и терем с башенками до того искусно вырезанными, что глаз не отвести. Да только не из дерева были эти хоромы — даже из-за частокола Василиса видела, что сложено это все из костей. Да и сам частокол был не горшками увешан, а черепами, и на каждом коле по черепу держалось.
Хотела Василиса обратно в лес сбежать, да ноги словно все силы потеряли, а в голове мыслишка птичкой мелкой билась: «Разве не об этом ты мечтала — к людям выйти? Так мечтать надо было со старанием. А то вот огонь, вот и люди. А что люди мертвые — так ты и не просила живых».
И до того от этой мысли Василисе смешно сделалось, что она и бежать раздумала. Раз уж добралась до хором Кощея, пусть ей старик бессмертный хоть горсть угольков горячих даст да направление к деревне укажет. А она ему до земли поклонится, не переломится!
Тем временем черный всадник подъехал к воротам и пропал, словно растворился. Боязно Василисе было ближе подходить, а вдруг тоже пропадет? Но любопытство разъедало душу. Как так — вместе с конем, не спешившись, да прямо минуя ворота во двор прошел? Ворота вон какие, тоже костяные, сами из ног человеческих сделаны, в наперекрест руки костяные их держат, и пальцами рук и ног на воротах узор словно выложен. Жутко, но взгляд отвести никак не получалось.
Шаг, еще один… еще шажочек. И вот Василиса уже так близко, что могла разглядеть замок на воротах, из челюстей собранный. Протянула она руку — не потрогать, нет, просто, а челюсти клацнули так жадно, что Василиса отпрянула.
— Зато собак во дворе нет, похоже, — пробормотала Василиса, силясь разглядеть, что там, за воротами. Как ей хозяину о себе знак подать?
Кричать: «Выходи, Кощей»? Так она чай не царевый сын, чтобы звать Кощея силами помериться. Вот этим вечно неймется: то Кощея победить, то Горынычу головы срубить. И невдомек будто, что Кощей все одно бессмертный, а Горыныч за каждую срубленную голову потом, как новая отрастет, дань с ближайшей деревни девкой возьмет.
Просто кричать? Тоже плохо. Подумает хозяин, что умалишенная, — вообще ворот не откроет. У частокола не нашлось палки, чтобы ударить по воротам, а у самой Василисы с собой не было ничего, кроме куколки. Пока Василиса думала, совсем стемнело, даже месяц с неба пропал, и тотчас у всех черепов на частоколе загорелись глаза. Светло стало как днем, никуда больше не спрячешься.
Василиса сильнее прижала куколку к груди, не чувствуя даже, как ногтями оставляет глубокие лунки на собственных ладонях, сердце ее билось быстро, точно заячье, того гляди выскочит и помчится прочь! И оттого, что глядела она во все глаза, а они уже привыкли к свету, увидела чудо расчудесное.
Вырвался из леса черный вихрь. Сухие листья и ветки за собой вихрь волочет, а выше пары пядей от земли и не поднимает. Вроде ветер балуется, а что в сердцевине этого вихря — и не разглядеть. И несся этот вихрь прямо к воротам. Василиса едва отпрянуть успела, чтобы ее вихрем не снесло.
У ворот же остановился вихрь и обернулся конем вороным со всадником на спине. Но и всадник был иной, и конь. Такого коня ни разу Василиса живьем не видела. У кого в деревнях или в городе ближайшем были кони, все они отличались приземистостью, широкой грудью, могучей шеей и ногами. Этот же был как со старой лубочной картинки, что хранила Василиса с детства, пока ее не отобрала и не сожгла Белолика. Просто ради смеха сожгла. Уже год минул с тех пор, а картинку Василиса тотчас вспомнила.
Такая же лебединая шея была у коня, стройные ноги, огненный взгляд и густая грива. А на коне и всадник был под стать. Высокий, с длинным темным волосом, блестящим, словно воронье крыло, с гладким безусым и совсем юным лицом, которое портила только пара шрамов, тонкой паутиной спускающихся от висков, всадник был закован в черные доспехи, черные перчатки держали черный меч.
Залюбовалась Василиса. Застеснялась своего застиранного платья. Это если гости у Кощея такие, то как тогда он сам одевается?
— Эй! — чуть оробев, окликнула Василиса красавца. В их деревне самые красивые парни самыми гадкими оказывались. От любой девицы нос воротили, все в город ездили судьбу искать. А как пакость какую учинить — так всегда первыми были. А этот Кощеев гость был так хорош, что даже Драговит рядом с ним смотрелся бы не лучше поросенка. Но как еще к Кощею попасть — Василиса не знала. Руку кольнуло, и она запоздало вспомнила про вежливость. Поклонилась поспешно в пояс и добавила: — Добрый… Доброй ночи, добрый молодец.
И сама на себя рассердилась. Вот уж сказала! Будто язык не той стороной во рту пришили!
Красавец не рассмеялся, даже чуть нахмурился. Свел брови, глянул на нее прямо, и Василиса обомлела. Один глаз его был голубой, а вот другой зеленый, да не как у самой Василисы, а будто кошачий!
— Давно меня добрым молодцом не величали, — медленно произнес он, и сердце Василисы снова понеслось вскачь. Голос красавца был бархатный, словно мамины волосы, словно кошачья шерстка, словно лапа домового. — Ну здравствуй, коли не шутишь, красавица. Зачем так далеко в лес забрела? Заблудилась?
Василиса нахмурилась. С такими красавцами надо держать ухо востро — это ее мама первым-наперво научила.
— Я к Кощею пришла, — буркнула она, потом вспомнила мамины сказки, спохватилась и снова в пояс поклонилась. С нее не убудет, а вдруг красавец этот, волкодлак, превратится и перекусит ее пополам. За грубость. — Меня к нему мачеха прислала. Как пройти — знаешь?
Усмехнулся красавец как-то нехотя, лишь одним уголком губ дернул, а сердце Василисы заныло так, будто он ей целый ворох жарких слов в самое ушко нашептать успел. Пуще прежнего Василиса разозлилась и на себя, и на красавца. Но что теперь делать? В лес сбежать, чтобы назло ему к Кощею не попасть и огня не попросить? Так он и не вспомнит даже, что была здесь такая. Нет уж, пришла к Кощею — с Кощеем и говорить надобно.
— Знаю, — тем временем ответил красавец. — Только безымянным за воротами делать нечего. Как тебя звать, красавица?
— Василиса, — буркнула та, а ответно имя потребовать снова оробела. К тому же красавец уже спешился, птицей слетев с коня, а потом хлопнул вороного по крупу, и тот вдруг рассыпался косточками. Сверху прочих череп лошадиный лег.
Василиса даже испугаться забыла. Только и метались мысли: это конь был мертвым и живым прикидывался или он был живым и за раз мертвым сделался?
— А обратно? — против воли выскочило из ее рта.
Снова дернул уголком рта красавец, а вместе с ним дернулось и сердце Василисы. Щелкнул он пальцами в тяжелых перчатках, и конь снова живой-живехонек рядом с ним стоит, шею лебединую гнет, ноздрями воздух втягивает.
«Такого бы батюшке, он бы…» — подумала Василиса и мыслей своих устыдилась. Потому как батюшка все, что сумел бы с таким конем колдовским сделать, — это продать задорого. И отстроить хоромы. Деревянные, простые. И поселить там мачеху с ее мерзкими дочерями. А потом не заметить даже, что своя родная дочь все так же в клети живет и до терема поднимается только прибраться. Нет, не нужен ее батюшке такой конь.
— Что скажешь, красна девица? — снова красавец шлепнул своего послушного зверя по крупу, и тот вновь рассыпался костями. — О чем думаешь?
— Думаю, что на дворе Кощея собаки могут быть, раз ты коня тут за воротами оставляешь, — не задумываясь ответила Василиса. — Растащат такое чудо по косточке, потом далеко не уедешь. Еще думаю, водятся ли тут волки? Эти тоже могут утянуть пару мослов.
Вот теперь всадник улыбнулся почти по-настоящему — оба уголка губ приподнялись, и только глаза холодными остались, точно ручей студеный.
— Не жадная ты, Василиса, — медленно произнес он. — Себе коня не пожелала. Редкое качество для такой красной девицы.
— Я обычная, — отмахнулась от похвалы Василиса, пристально следя за тем, как уверенно пальцы красавца пробегают по узору на воротах. Третий мизинец, пятый безымянный, обратно, два раза по указательному и снова мизинец. — Просто в доме моего нет ничего после матушкиной смерти, а что было — все со мной. Нечего мне хотеть, некуда сокровища нести, не таю я опасности для Кощея и его сокровищ.
Не успел ничего ответить ее вынужденный спутник, как отворились ворота, без скрипа, словно смазанные маслом.
— Проходи, Василиса, чувствуй себя как дома, — пригласил ее красавец.
Шагнула Василиса во двор и только хотела спросить, кто он таков, что так по-хозяйски двором и хоромами распоряжается, как прямо над ее головой каркнул огромный черный ворон.
Оглянулась Василиса как раз вовремя, чтобы увидеть, как сами собой закрываются ворота — крепко сжимаются костяные пальцы, ни щелочки не остается — и как ворон прямо в руки ее спутника бросает что-то острое, словно венок из длинных черных кинжалов.
А когда тот прижал пальцы с боков этого венка и поднял над головой, водружая его на место, Василиса все поняла. Не кинжалы были это, а зубцы царской короны. Каждый зубец — знак народа, которым царь правит. А корона черная, потому как царствует он в Нави. И Василиса своими ногами в Навь шагнула. Нет теперь ей обратно дороги, если только царь не отпустит.
Глава 3
— Кощей, — прошептала Василиса, глядя прямо в разноцветные глаза навьего царя. Бухнуться бы на колени, поклониться бы до земли, да ноги не держат и спина не гнется! Язык словно все прочие слова забыл, проклятый, только сил и достало прошептать:
— Кощей…
Поморщился навий царь, по короне своей длинным черным ногтем щелкнул.
— Кощей, — согласился он. — Я бы не снимал корону и не вводил в заблуждение девиц всяких, да только вихрем в короне бывает неудобно перемещаться, а просто на коне — долго. Мое царство огромное, все земли умертвий и неживых и за полгода не объедешь.
Выдохнула наконец Василиса и снова вдохнула. Сердце ровно биться начало. Обидно стало, что девицей всякой ее царь назвал. Только-только красавицей величал и, надо же, как быстро повернулся! Но промолчала Василиса. Чай она тут не за расположением царским да словами ласковыми. Вспомнила, как тут оказалась, и ноги свои сбитые пожалела, руки и щеки исцарапанные.
— Прости, что не признала, навий царь, — снова поклонилась до земли Василиса. От нее поклонов не убудет, а Кощею — почтение. Она нет-нет, да глянет на него из-под ресниц. Не стар и не страшен. Чего тогда люди напраслину возводили? Вот и поди разбери! — А послала меня к тебе мачеха Милица, просила дать огня от твоего очага, чтобы дом грел, у
