автордың кітабын онлайн тегін оқу Мушкетерка
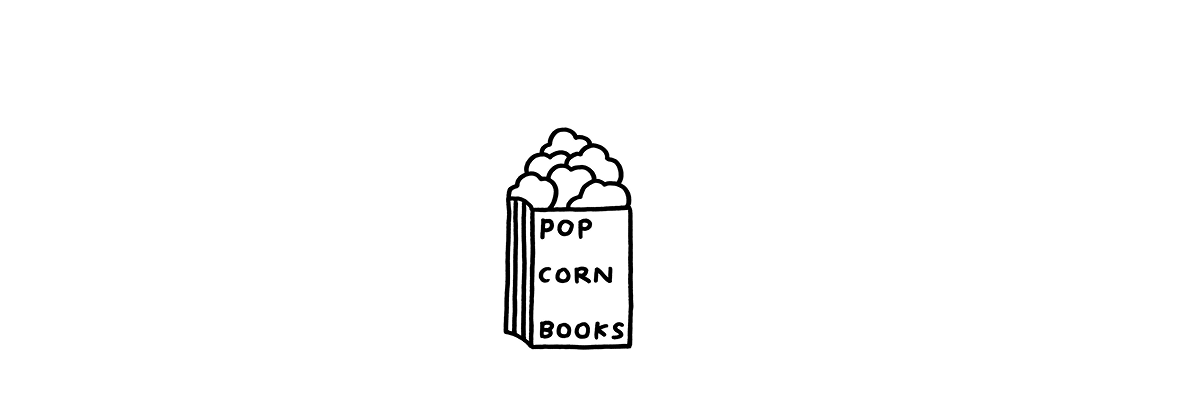
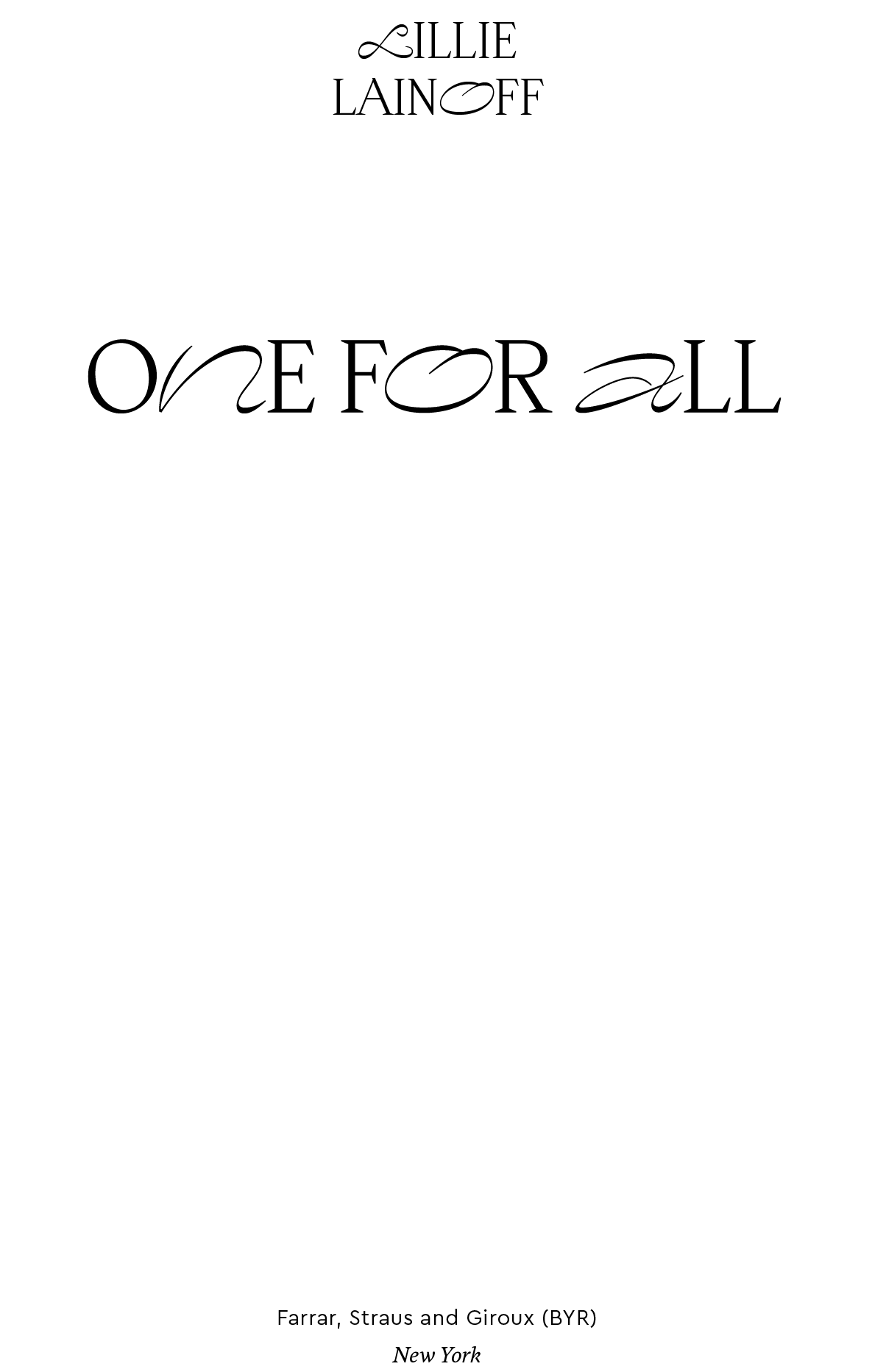
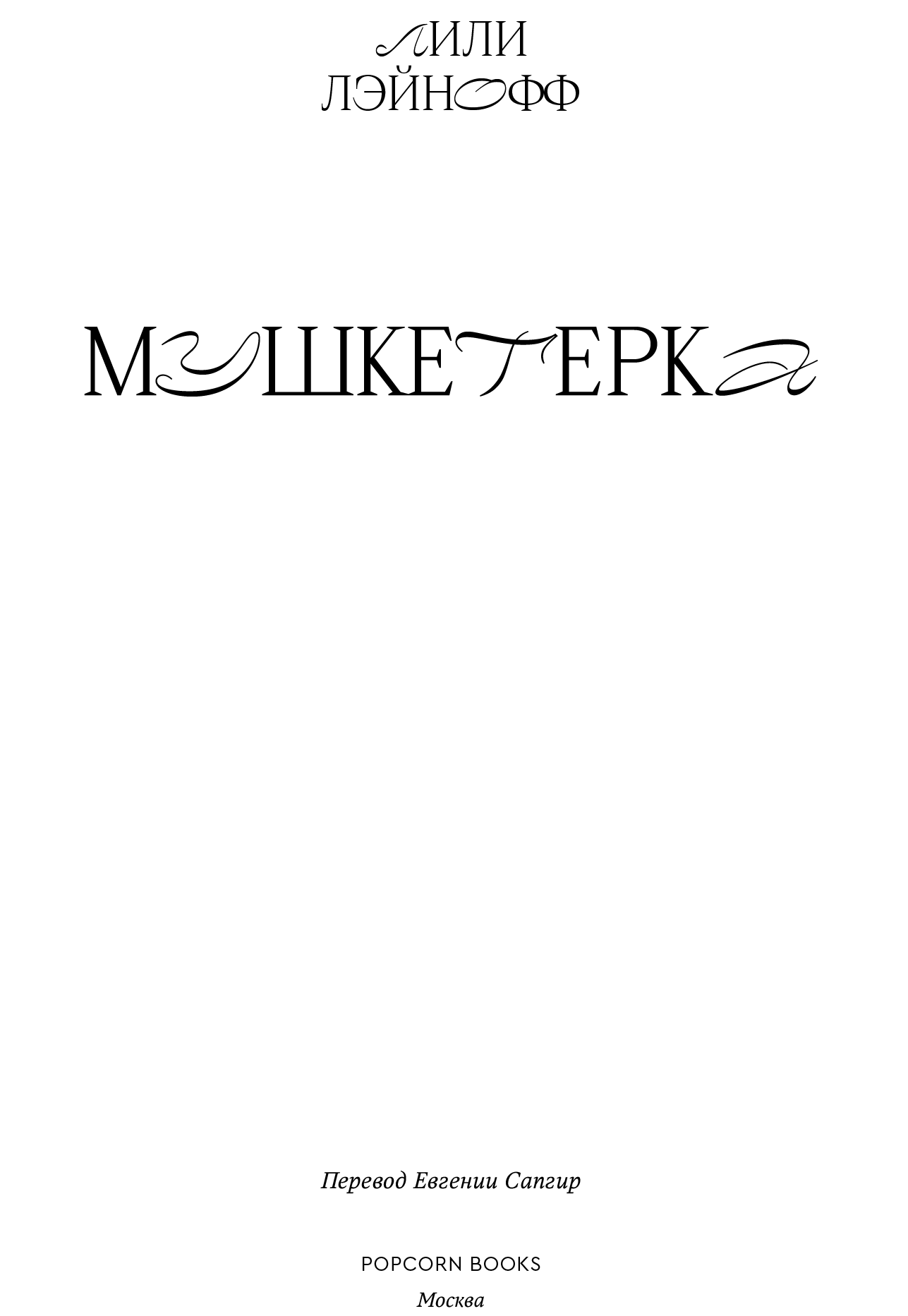
Посвящается маме:
однажды ты сказала мне, что я твоя героиня.
Тогда я не ответила тебе, как должна была,
что и ты всегда будешь моей героиней
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Люпьяк, Франция, 1655
Даже в темноте было видно, что входная дверь приоткрыта. Чья-то тень наискось скользнула через порог и исчезла, растворившись во мраке.
— Жди здесь, — велела я.
— Таня, — прошептала мама, но я уже устремилась по залитой лунным светом мощеной дорожке, что вела к двери. Рукой я придерживалась за заборчик, который отец построил для меня четыре года назад, когда мне исполнилось двенадцать, чтобы мне было на что опереться, если головокружение становилось слишком сильным.
Пальцы привычно скользили по гладкому, истертому дереву. Я медленно продвигалась вперед тихими, осторожными шагами. У самой двери головокружение накатило снова, перед глазами пошли черные и серые волны. Я прижалась щекой к прохладному дереву. Когда приступ прошел, я заглянула в дверь.
Кухня была разгромлена. Повсюду валялись разбросанные кастрюли. Когда я увидела красные брызги на шкафчиках, у меня что-то сжалось в животе — но это оказалась не кровь, а всего лишь раздавленные помидоры. Стол и все горизонтальные поверхности были припорошены мукой.
Папа еще не вернулся из поездки. Мама осталась у ворот. Так что я была совсем одна, да еще и с пустыми руками.
— Проклятье! Проверь еще раз, — донесся из темноты резкий, отрывистый голос. Времени на то, чтобы сходить в конюшню и забрать с оружейной стойки свою шпагу, у меня не было. Кухонный нож мало на что годится, разве что в ближнем бою… или я удачно его метну, но сама мысль об этом заставила мои внутренности свернуться в тугой узел. Так я только сама покалечусь. Я обшаривала кухню взглядом в поисках подходящего оружия и наконец остановилась на камине. Пожалуй, кочерга — самый подходящий вариант. За неимением лучшего.
Сомкнув пальцы на холодном металле, я закрыла глаза… ощущая в руке железную рукоятку, я почти могла убедить себя, что моя шпага при мне.
Я двинулась на звук голосов, доносившихся из папиного кабинета. Внутри я увидела двоих мужчин в плащах: один что-то искал на столе, другой караулил у окна. Мы возвращались с рынка коротким путем, поэтому он нас не заметил: в окно ему была видна только главная дорога.
Maman, умоляю, оставайся на месте, как я тебя просила. Позволь мне позаботиться о тебе. Хотя бы в этот раз.
— Ты слышал?
Мое сердце затрепетало при звуке этого незнакомого голоса — скрипучего, будто им не пользовались неделями.
— Пустяки, — отозвался другой голос, не такой напряженный, скорее тягучий и плавный. — Может, и к лучшему, если вернулась жена с этой их увечной девчонкой. Мы их выпотрошим, и пусть де Батц найдет останки. Будет знать, как совать свой нос куда не следует.
Я отвлеклась, и расшатанная половица скрипнула у меня под ногами. За дверью послышались движение и чье-то дыхание.
— А ну-ка, кто это у нас тут?
В дверном проеме возник мужчина, очень высокий. Это был обладатель второго голоса. Его взгляд упал на кочергу у меня в руках:
— И что, скажи на милость, ты собралась делать с этой штуковиной?
Я замахнулась, изо всех сил стараясь выглядеть как отец — суровой, сильной, неустрашимой, — хотя колени у меня дрожали, а поле зрения сузилось. Он плотоядно взглянул на меня, оценил, как нетвердо я держусь на ногах, и сердце забилось у меня в горле.
— Увечная девчонка не лыком шита, а?
Перед глазами у меня все поплыло, но даже в таком состоянии я заметила, как он окаменел, услышав снаружи перестук колес по мостовой. Неужели мама привела военных маршалов? В другой ситуации я отреагировала бы на это тупой болью в груди: ну почему она мне не доверяет? Но сейчас мне было не до того: сердце выпрыгивало из грудной клетки, ноги ходили ходуном, и надо мной навис верзила в черном плаще.
Незваные гости забегали по кабинету, взметнулся вихрь бумаг. Пытаясь выбраться из комнаты через окно, в спешке один из них опрокинул фонарь. Я рванулась подхватить его, но не успела. Фонарь упал на пол, и языки пламени побежали по потертому ковру, стали карабкаться вверх по стенам. Черный плащ мелькнул в проеме окна с выбитым стеклом и растворился в ночи.
Сквозь дым и пламя я доковыляла до приставного столика, на котором стоял кувшин с водой, и потратила последние силы на то, чтобы выплеснуть ее на пламя, пожиравшее занавески. С тихим шипением огонь погас. В горле першило от дыма и сдерживаемых рыданий.
Я дала им уйти.
Папа ни за что не упустил бы их. Папа был сильнее, быстрее, и его уж точно не остановило бы головокружение.
Сердцебиение никак не унималось, я чувствовала его пульсацию даже в зубах. Разбитое окно сначала раздвоилось, потом утроилось перед глазами. Три зияющие дыры потянули меня к себе, ноги подкосились, коленные чашечки со стуком ударились о половицы.
Я увидела, как надо мной с встревоженным видом склоняется отец. Должно быть, из-за головокружения меня подвело зрение. Его здесь быть не должно.
«Papa», — попыталась выговорить я, но язык прилип к гортани. В следующий миг меня поглотила тьма.
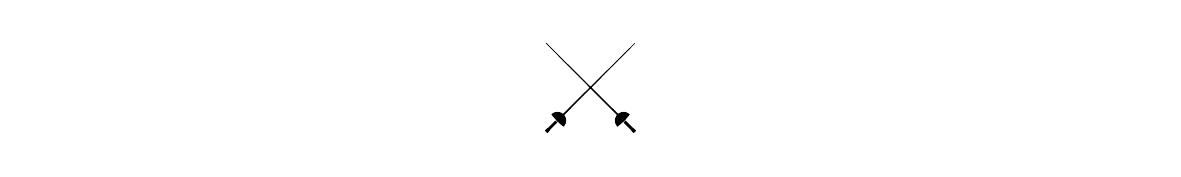
— Тише, девочка моя, тише. Тебе крепко досталось.
Поморщившись из-за слишком яркого света, я приподнялась и оперлась спиной о стену. Папин письменный стол валялся на полу, словно труп, портьеры обезображены, повсюду пепел, обугленное дерево и подъеденные огнем бумаги.
Повернув голову, я увидела отца. И тут же отвела взгляд, ощущая во рту горький привкус неудачи.
— Я так испугался за тебя, — сказал он, бросив взгляд на карманные часы. — Ты не приходила в себя пять минут, но казалось, что целую вечность.
Нахмурившись, он внимательно посмотрел на меня:
— Таня, что случилось?
— Грабители. Я не смогла им помешать. Я старалась, правда, но начался пожар, и… Постой, Papa, а ты-то здесь откуда?
— Я освободился быстрее, чем планировал. Вот решил вернуться на день раньше. Сюрприз! — Он невесело усмехнулся, оглядывая разоренный кабинет.
Папа нередко совершал деловые поездки в соседние города. Состоятельные провинциалы были не прочь открыть у себя новую школу фехтования, и отец был лучшим кандидатом на роль главного фехтовальщика. До сих пор он не принял ни одного предложения — а недостатка в них не было после того, как он ушел на покой. Время от времени он подшучивал над претендентами: давал несколько уроков, получал свой гонорар и уезжал восвояси. Но я-то знала его достаточно хорошо, чтобы понимать, что в эти поездки он отправляется далеко не ради денег. Разъезды давали ему возможность навестить старых друзей, сослуживцев по Maison du Roi — Дому короля, при котором служили несколько рот гвардейцев и мушкетеров. Теперь его товарищи занимали видные должности в службе военных маршалов по всей Франции либо служили военными советниками. Папа ни за что бы это не признал, но я подозревала, что в глубине души он мечтает вернуться. Не в Париж — полный опасностей и блеска город с его свинцовым подбрюшьем и залитыми кровью переулками, — но к своим друзьям, за которых он каждый день готов был рисковать жизнью. К братьям по оружию, ставшим для него семьей.
Когда я была совсем маленькой, я даже познакомилась с некоторыми из них. Смутные детские воспоминания о высоких мужчинах с раскатистым смехом — я будто смотрела на них сквозь воду в пруду: свет преломлялся, черты искажались, и в итоге картинка получалась весьма далекой от оригинала. Вдобавок в мою жизнь пришли постоянные головокружения, а папины сослуживцы оказались разбросаны по всей стране, обзавелись семьями и продолжали защищать Францию. Так что едва ли у нас было много шансов на новые встречи.
Отец усадил меня в кресло и не оставлял в покое, пока я не заверила его, что чувствую себя хорошо — он отлично знал, что я имею в виду. Затуманенным взглядом я следила за тем, как он склоняется над полом и проводит пальцем по пыльным останкам дневника, чья кожаная обложка почернела и скукожилась от огня. Мне показалось, что я заметила облегчение у него на лице. Его золотой перстень с печаткой в виде французской лилии и двух перекрещенных сабель сверкнул на фоне пепла. Он выпрямился:
— Сколько их было?
— Двое, — ответила я, и меня снова охватил стыд. Я очень старалась. Но моих стараний всегда оказывалось недостаточно. — Прости, что я не справилась.
— Моя дорогая, моя глупенькая дочка… как именно ты собиралась справиться с двумя грабителями и в то же время позаботиться о том, чтобы наш дом не сгорел дотла?
Я промолчала. Не то чтобы он ждал ответа: он был поглощен разбором оставшихся бумаг, сломанных выдвижных ящиков и разбросанного повсюду содержимого.
— Что они забрали? — спросила я.
— Ничего важного.
— А зачем тогда они пришли? Разве не для того, чтобы взять что-то важное?
Я заметила, как дернулась его челюсть, как уголки глаз прищурились, превратившись в острия кинжалов, — именно это выражение лица я недавно пыталась изобразить, чтобы скрыть свой страх.
— Уверен, они искали драгоценности твоей матери, когда ты вошла.
— Но они знали твое имя! Они сказали… что убьют и меня, и Maman и оставят тут, чтобы ты нас нашел.
Отцовские глаза полыхнули гневом. Он обхватил меня руками и прижал к себе так, что моя щека оказалась притиснута к его плечу. В таком положении я не могла увидеть его лицо.
— Я горжусь тобой.
— Это не пожар виноват… если бы только у меня не закружилась голова, я схватила бы их. Я бы защитила нас.
Он отстранился, чтобы посмотреть на меня:
— Как ты можешь так говорить… как ты можешь даже думать так! Ты проявила мужество! Ты защитила честь нашей фамилии.
Я хотела спросить, откуда они появились. Кто, кроме жителей нашего города, мог знать о нас… о моей проблеме? Но тут послышались шаги, и на пороге появилась мама. На ее лице не было заметно следов слез, она держалась невозмутимо, как скала. Ее взгляд скользнул по мне, по разломанной мебели, губы сжались, и только тогда она посмотрела на отца. Они обменялись взглядами, которые я не могла истолковать.
— Я не ждала тебя домой к ужину. Быстро собрать на стол не смогу. Надо посмотреть, осталась ли на кухне еда, которую не размазали по стенам.
— Ma chère, дорогая, — начал он, но она взглядом пригвоздила его к месту.
— А с тобой даже разговаривать не хочу, — заявила она, обращаясь ко мне. — Бросилась во тьму играть в героя! Ты еще совсем девочка, Таня. Ты могла потерять сознание! В этот самый момент я могла отскребать твои останки от пола! — Ее губы задрожали. — Ты ведь потеряла сознание, да? У тебя на лбу уже наливается синяк.
Ну да, я всего лишь девочка. К тому же больная. Когда доходит до настоящего дела, я оказываюсь беспомощной. Потому что именно такова жизнь больной девочки.
— Утром я найду слесаря, — наконец нерешительно сказал папа. — Я позабочусь о том, чтобы никто не причинил вам вреда.
— Этого ты обещать не можешь, — парировала она.
Его рука дернулась. Я почувствовала, потому что это была правая рука, которой он поддерживал меня под локоть на случай, если земля опять уйдет у меня из-под ног. Он словно хотел протянуть эту руку к ней. Но тут мои глаза закрылись, а когда они открылись снова, все поле зрение заполнил отец. Потом в картине мира появилась мама, суетящаяся с кастрюлями и мисками, скрип деревянных стульев и папин смех — все эти звуки сливались в одну мелодию, которая несла в себе не столько воспоминания о последних годах, сколько чувство, казавшееся давно забытым и погребенным под бесконечными ссорами и ледяными взглядами, отравившими прошедшие месяцы.
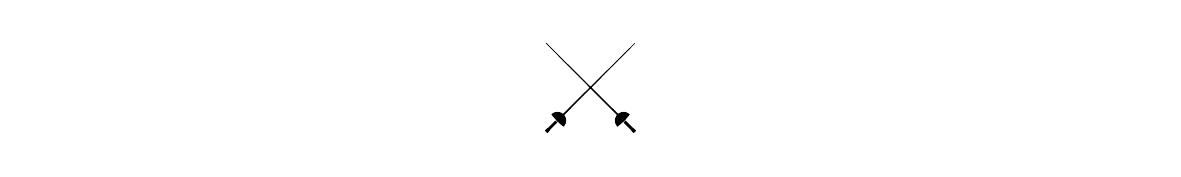
Как обычно называют таких, как я? Хрупкие. Болезненные. Слабые. По крайней мере, именно эти слова сказали моей маме врачи номер один, два и три, когда мне исполнилось двенадцать, и она привела меня к ним, и небо кружилось и покрывалось рябью у меня над головой, будто перевернутое озеро.
Каждый из них смотрел на меня так, будто я не от мира сего. Может, так оно и было. По крайней мере, так думал священник, когда мама привела меня в местную церковь в последней отчаянной надежде на излечение.
Головокружения начались не вдруг. Не то чтобы однажды я проснулась и вместо того, чтобы выпрыгнуть из кровати с сияющими глазами навстречу новому дню, повалилась на пол в оцепенении. Болезнь подступала медленно, коварно, незаметно. Она подкрадывалась ко мне и поначалу проявляла себя лишь мягкими приступами: то немножко затуманится зрение во время игры на ярмарке, то возникнет ноющая боль в голове. Потом я стала чувствовать головокружение и слабость всякий раз, вставая на ноги.
Поначалу мама думала, что я притворяюсь. Как-никак я была ребенком. Дети всегда так делают, правда? Прикидываются больными, чтобы увильнуть от домашних обязанностей.
Обычным девочкам не приходится хвататься за стул, чтобы встать. Обычные девочки не видят мир так, как будто он тонет в луже чернил, и не ощущают, как сердце отчаянно колотится о ребра, ноги у них не дрожат и не подгибаются. Обычным девочкам не приходится беспомощно наблюдать, как мужчины — которые только что грозились убить их мать, убить их самих — исчезают в ночи. Обычные девочки не позволяют этим мужчинам сбежать и укрыться среди темных силуэтов деревьев, держа шпаги наготове и выжидая удобного момента, чтобы вернуться и перерезать им горло…
Я проснулась с хрипом, таким громким, что он почти заглушил шепот, доносящийся сквозь щели в стенах.
Грабители! Они вернулись.
Но это оказались всего лишь мои родители, я узнала их голоса. Они обсуждали случившееся. То есть меня. И на этот раз их дискуссия отличалась от прежних. Что-то новое промелькнуло во взгляде моей матери, когда она наблюдала, как я осторожно поднимаюсь на ноги посреди разоренного кабинета, в ее глазах словно горел огонь, к которому она всегда прибегала, чтобы скрыть боль и страдание. Как-то раз она поскользнулась и ударилась коленом об стол, так что на коже моментально налился синяк, и она несколько дней ходила с застывшим на лице выражением ярости. Но она никогда еще не смотрела так на меня. Как будто больше невозможно винить мое тело во всех проблемах, которые я причиняю.
Может, я просто не знаю, что делают и чего не делают обычные девочки? Но что я тогда знаю? Как под взглядом моей матери я съеживаюсь и превращаюсь в кого-то маленького, столь незначительного, что я даже не уверена, что смогла бы узнать в себя в зеркале? О, как же я хотела, чтобы она видела меня сильной, достойной ее руки, которая всегда была готова меня подхватить! Как мне хотелось быть отражением того огня, который она всегда так тщательно сдерживала!
— Не понимаю, что я сделала не так, — послышался мамин голос.
Осторожно, стараясь не перенапрячься, я встала с кровати, подождала, пока мир вокруг меня не перестанет качаться, а потом прижалась ухом к дальней стене. Раньше моя комната была папиной библиотекой. Но потом я заболела, и с моими головокружениями и подгибающимися ногами о лестницах пришлось забыть.
— Ты все сделала правильно, — вздохнул отец. — Ma chère, дорогая моя, ты и Таня — это все, что мне нужно в жизни.
— Жаль, что я не смогла подарить тебе сына, а вместо этого родила дочь, к тому же такую… неполноценную.
Я не расслышала, что ответил папа.
— Я хочу, чтобы ты перестал ее обучать. Больше никакого фехтования. Обещай. Я знаю, тебе хочется передать Тане свои знания, но ты не можешь реализовать свои амбиции через нее. Будут последствия. Я не хочу, чтобы она тратила каждую минуту своей жизни, все свои силы на то, что никак не поможет ей в будущем. Ей не нужно знать, как защищать себя, ей нужны навыки. Женские навыки. Потому что, когда она… — Тут она прервалась, но я знала, что она хочет сказать. Она собиралась сказать: когда она выйдет замуж.
— Мы что-нибудь придумаем. Нет, послушай. Правда, придумаем. — Следующие несколько слов я не расслышала через стену. Потом отец снова заговорил чуть громче: — Эти подонки ждали, пока я уеду из города. Что ж, они недооценили мою готовность оставаться дома, когда дело касается моей семьи. Они не осмелятся снова сунуться, пока я здесь.
— Дело не только в этом! Что с ней будет, когда меня не станет? Когда тебя не станет? Ты не бессмертен, особенно теперь…
Послышался громкий вздох. Всхлипывание и отчетливое шуршание ткани. Я отступила назад и схватилась за изголовье кровати. Я уронила голову, мои ноги стали лилово-серыми, как всегда, когда начинался сильный приступ головокружения.
Неважно, что говорила мама, неважно, как сильно мне хотелось, чтобы она видела во мне не только мою слабость. Она не сможет отобрать у меня фехтование. Все это я уже слышала: девочке незачем знать, как правильно браться за рукоять шпаги, незачем знать, под каким углом ее рука должна прижаться к боку, когда противник готовится атаковать. Девочкам все это не нужно — особенно больным девочкам. До сих пор папа в ответ на эти аргументы лишь качал головой. Она не такая, объяснял он.
— Она — Таня, — любил повторять он. Это доводило маму до белого каления. — Она — Таня.
Таня, дочь, которая должна была родиться сыном, дочь, которая должна была продолжить дело своего отца. Но кто захочет жениться на больной девушке? Даже если она дочь мушкетера.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Полгода спустя
— Боже мой!
— Погляди, как к стене привалилась! Увечная, что ли?
Я подняла голову и оперлась рукой о каменную стену. Девушки были видны издалека: их платья яркими пятнами выделялись на фоне мощеной улицы. Я почувствовала, как кровь вопреки моей воле приливает к щекам, как меня охватывают гнев и отчаянный стыд, и выдавила из себя приторную улыбку:
— Гери! Какой приятный сюрприз!
От компании, оставив Маргерит и остальных позади, отделились три-четыре девушки, которых я знала с детства. Мне был хорошо знаком такой тип. Неприятные, но в определенных границах. На решительные действия неспособны.
Глаза Маргерит сверкнули, в них промелькнула какая-то болезненная хрупкость. Именно я придумала ей прозвище. Еще в те времена, когда мы пропадали в полях подсолнухов, исследуя окрестности городка, а когда заплетали друг другу косички, случайно спутывали волосы в такие колтуны, что нашим матерям приходилось выстригать их… Но спустя секунду наваждение рассеялось, и Маргерит поджала губы: она подхватила эту привычку у других жителей городка. Все знали, как надо смотреть на бедняжку Таню. Как наклонять голову набок и скользить взглядом сверху вниз.
— Это давно в прошлом. Мое настоящее имя — Маргерит — мне нравится больше. Гери — всего лишь детское прозвище. — Она шмыгнула носом, разгладила складки на платье, а потом, нахмурившись, стряхнула воображаемую пылинку с зеленой ткани. Должно быть, она купила это платье на свое шестнадцатилетие, когда ездила в Париж. Об этой поездке она с триумфом рассказывала на нашей центральной площади. Таких красивых платьев в Люпьяке не водится.
Раньше мы праздновали день рождения вместе — мы родились с разницей всего в несколько дней. Однажды мы устроили совместную семейную поездку на озеро — мы стояли на разноцветном песке и ощущали, как холодная вода плещется у наших ног, и дивились тому, как огромен мир, в котором нам предстоит взрослеть. Но четыре года назад все изменилось, и наша дружба закончилась. В двенадцать Маргерит отвернулась от меня, потому что дружить с девочкой, которая все время должна держаться в стороне, которая должна оставаться тенью своей слишком тревожной матери, — это совершенно, категорически не весело. Папа хотел нанести родителям Маргерит визит и высказать все, что он думает о предательстве их дочери. Но мама убедила его, что так будет только хуже. Что он мог сказать? Что он мог сделать, чтобы мое тело прекратило предавать меня снова и снова?
Мои мысли сделались острее, жестче. Я хваталась за них, как за оборванные нити. Фигура Маргерит поплыла перед глазами. Я поджала пальцы ног — этому трюку я научилась случайно, он помогал остановить приступ головокружения и прояснить зрение.
— Весьма увлекательная беседа, но мне пора, — сказала я.
Она зацокала языком.
— Неужто ты занята? — Маргерит заглянула в мою корзину, в которой лиловели полевые цветы. — Как мило. Какая жалость, что тебе некому их подарить.
— И всегда будет некому, — подхватила ее спутница. — Она даже не разговаривает с парнями, а о том, чтобы кто-нибудь захотел на ней жениться, и речи быть не может.
Я страдальчески вздохнула и крепче прижала корзину к себе, как будто укрывая ее от их взглядов, плетеный бортик цеплялся за платье. Я не одна. У меня есть папа. И мама.
Но язвительного ответа у меня не нашлось. Чувства трудно скрывать, особенно когда они так болезненны. Когда касаются моего тела и того, как оно меня предает. Когда они касаются того, как я буду жить, когда моих родителей не станет, когда не останется никого, кто принимает меня такой, какая я есть, когда некому будет позаботиться обо мне — не вопреки моим головокружениям и не из-за них, а просто так, без всяких причин. Неужели это действительно слишком дерзко — надеяться, что в мире есть человек, который разглядит и полюбит меня, которому буду нужна только я?
Маргерит усмехнулась:
— Я иду на примерку. Ведь носить одежду, купленную в Париже в прошлом году, — это моветон!
В последнем предложении содержался некий намек, как будто она сама осознавала всю нелепость этого заявления, этой мысли. А может, я просто выдавала желаемое за действительное.
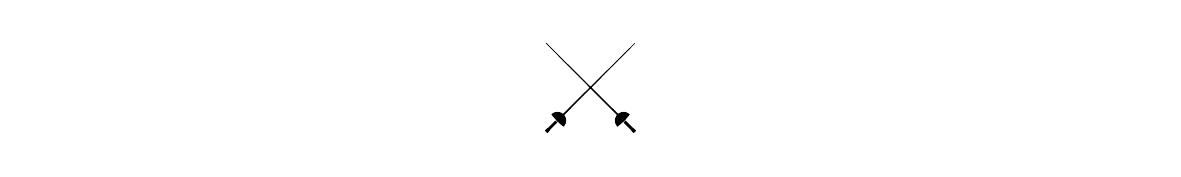
Солнце еще стояло в зените, когда я споткнулась о расшатанный камень на дорожке, ведущей к дому. Я едва успела схватиться за забор. Четыре года назад белая краска ярко светилась на фоне травы. Теперь по столбикам зелеными змеями вились лианы, а воздушные корни плюща вгрызались в дерево.
— Maman?
Дверь в салон была на волосок приоткрыта, и меня моментально отбросило в воспоминания о той ночи, о липкой от пота кочерге в руке, о дыме, разъедающем легкие… нет!
Их там нет. Мы в безопасности. Они не вернутся.
Я постучала, прежде чем войти. Мама дремала в своем любимом кресле, опустив голову на подголовник, у нее на коленях лежала письмо. Я обернулась, чтобы тихонько выйти обратно, но тут послышалось шевеление, слабое покашливание.
— Таня?
— Я собрала их для тебя. — Она посмотрела на полную цветов корзину, которую я протянула ей, а потом ее взгляд упал на письмо. Может быть, она в затруднении? Может, я смогу ей помочь, как она помогала мне и… — Что, почерк неразборчивый? Или слишком мелкий? Я могу прочесть тебе…
— Нет, все хорошо, — ответила она отрывисто и напряженно, сложила письмо вчетверо и засунула себе под шаль, подальше от моих любопытных глаз.
— Мне правда не трудно, — снова подступилась я.
— Таня, все хорошо, я же сказала.
— Ну ладно. — Моя рука зависла над маленьким столиком на случай, если мне потребуется опора.
Она потерла лоб.
— Твой дядя передает тебе привет. Со мной все в порядке, — добавила она, когда я начала возражать. — Пойди лучше поработай над новым узором для вышивки, который тебе прислала тетя.
Это было не предложение, а приказ. Я вышла из комнаты, но даже не подумала пойти к себе и приступить к нетронутой вышивке, которую спрятала в книге. Ни за что не променяю шпагу на иголку с ниткой!
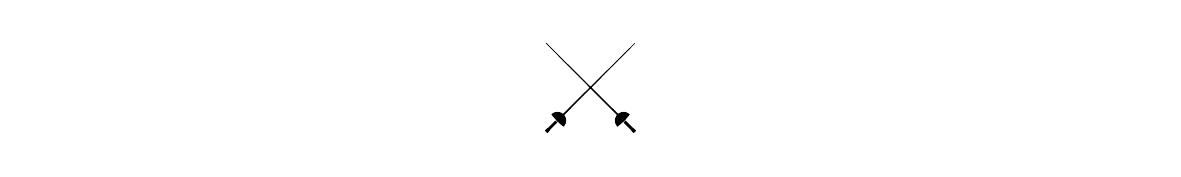
Папа отрабатывал сложную последовательность шагов в конюшне. Движения его правой руки казались такими стремительными и плавными, будто шпага служила продолжением его тела. Он, может, и не был первым фехтовальщиком среди мушкетеров, но определенно считался одним из лучших. Хотя не исключено, что он говорил так, только чтобы не зазнаваться. Сложно представить себе человека, более талантливого в фехтовании. И он любил это дело больше всего на свете… пока не встретил маму. Она была дочерью овдовевшего виконта, и когда она дала понять, что их отношения не просто придворная интрижка, то впала в немилость, несмотря на статус второй дочери, чья старшая сестра вышла замуж за состоятельного лорда.
Мушкетеры, может, и слыли героями, но если короли — Людовик XIII, а вслед за ним и Людовик XIV — не решали проявить несказанную щедрость, то те, кто поступал на службу без земель и титулов, выходили в отставку тоже без гроша. Таких, как мой отец, было немного — их значительно превосходили числом сыновья из благородных семей, которые просто покупали себе место. Зато папа умел обращаться с клинком, а этого ни за какие деньги не купишь.
Когда я родилась, отец сложил с себя обязанности мушкетера, чтобы всегда быть рядом с семьей. По крайней мере, так он говорил, когда я была маленькой, и верила каждому слову, и каждый вечер перед сном умоляла рассказать мне историю человека, который добровольно отказался от славы, превосходившей моей воображение, ради меня и моей мамы. Теперь-то я понимала: папа ни за что не покинул бы службу по своей воле. Но даже братья по оружию не смогли защитить его — мушкетера без имени и титула — от козней влиятельного виконта. Папу вынудили уйти в отставку. Зато у него была моя мама, которая пошла против воли своего отца. И у них была я. И если бы им не приходилось так много спорить из-за меня и тратить на меня все свои деньги, кто знает, может, это была бы справедливая сделка. Даже романтичная. Любить кого-то так сильно, чтобы отказаться от всего. С другой стороны, я занималась фехтованием только с отцом. Откуда мне знать, каково это — стать частью братства, преданного науке клинка, только ради того, чтобы разлучиться с ним?
Мои размышления были прерваны ударом ноги об пол: я наблюдала, как отец плавно переходит из атакующей позиции — рука и клинок вытянуты в прямую линию на высоте груди — к безупречному парированию. Клинок просвистел в воздухе, когда он выполнил блок.
— Я никогда так не смогу.
Папа оглянулся через плечо и откинул упавшие на лицо седеющие пряди свободной рукой:
— Сможешь!
Хотя конюшня и в самом деле служила домом папиному пожилому коню, верному Бо, внутри она выглядела совсем не так, как можно было ожидать. Стены были увешаны тренировочными шпагами и различной амуницией, центральный проход был освобожден и расчищен от сена. В углу стоял манекен, изготовленный из старого мешка из-под муки и набитый соломой. Он предназначался для отработки ударов.
— Только не тогда, когда на меня набросится противник со шпагой в руке, — проворчала я.
Папа открыл было рот, но я продолжила прежде, чем он успел начать:
— Не набросится! Я оговорилась. Я имела в виду — атакует. Ты же знаешь.
Все его лицо озарилось широкой улыбкой, вокруг глаз и рта собрались морщинки. В такие моменты он казался и молодым, и старым одновременно, и я понимала, как ему удалось вскружить голову моей маме, настоящей придворной даме, и заставить ее обратить внимание на мужчину без громкого титула. Его история ухаживания, к моему восторгу и маминому неудовольствию, была полна интриг и опасностей, она описывала молодых влюбленных, предназначенных друг другу самой судьбой, на чьем пути вставали различные препятствия, влиятельные противники и черная зависть.
Папа рассказывал мне, что не хотел растить ребенка в Париже. Он сетовал на слишком темные и узкие переулки, на слишком яркие огни широких бульваров, на запах пота в доках, на неизбежность светских мероприятий. Он перечислял недостатки городской жизни нарочито беззаботным тоном, но ему не удавалось скрыть под показной легкостью тяжести его последней утраты — людей, которых он потерял. Мои родители уехали из города и никогда не возвращались: поначалу они опасались случайной встречи с маминым отцом. Но к тому времени, когда он умер и Париж снова стал для них безопасен, я уже столкнулась с первыми головокружениями. Значительная часть семейных сбережений ушла на оплату бесполезных визитов к врачам. Мой отец отнюдь не был беден — он унаследовал кое-что от своих покойных родителей, кое-что заработал в свою бытность мушкетером, — но жилье в Париже стоило дорого. В Люпьяке жизнь была дешевле. Семья вполне могла позволить себе двухэтажный особняк с мезонином. Папа больше любил копить деньги, чем тратить их. Его уроки фехтования стоили дороже, чем необходимые продукты. Но даже с его сбережениями было бы невероятной удачей найти в Париже хоть какое-то жилище.
— Голова закружилась? — спросил он, когда я вернулась к действительности.
— Нет, я просто задумалась.
— Ну что ж, хорошо! Пора приниматься за дело, мадемуазель Мушкетерка!
Я заткнула юбку за специальный пояс, который папа заказал для меня у портного, и из-под нее показались краешки моих панталон. Затем я приняла правильную стойку: правая нога впереди, носок направлен четко вперед, левая нога позади, ступня под углом. Колени согнуты, словно я сжатая пружина, готовая распрямиться в любой момент. Вес распределен на обе ноги, макушка тянется вверх. Отец атаковал без предупреждения. Иначе нет смысла: ведь противник не станет сообщать мне, когда наносит удар. Лезвие папиной шпаги сверкнуло, мой клинок метнулся навстречу.
Мои плечи отведены назад и опущены. Достаточно сильные, чтобы парировать его атаку, достаточно расслабленные, чтобы отреагировать на любую неожиданность. Его любимая тактика заключалась в том, чтобы подпустить меня поближе и почти дать закончить выпад, а затем одним ударом отбросить мой клинок в сторону.
Бо недовольно зафыркал в своем стойле в углу. Он лениво жевал овес, его длинный хвост мотался туда-сюда, отгоняя надоедливых мух. Одна муха, сбитая в полете, угодила мне прямо в лицо. Боже, как же я ненавижу этого коня!
Я решила попробовать новое парирование, которое мы разучили недавно: оно прикрывало мой левый бок и частично голову. Пыль взметнулась у меня из-под ног, когда я стала отступать назад, блокируя очередную атаку, стараясь сохранять ближнюю дистанцию. Внезапно я выбросила руку с клинком вперед.
Папа явно не ожидал такого стремительного рипоста. Пятясь, он перебросил шпагу из правой руки в левую, а затем выполнил блок так удачно, что мой клинок полетел на пол.
— Нечестно! — возмущенно крикнула я.
В следующую секунду я отчаянно нашаривала свою шпагу в пыли, а папа с триумфом поднял ее над головой:
— Ага! Обезоружена!
— Papa…
— Что «Papa»? Правила тебе известны, мадемуазель Мушкетерка: лишилась шпаги во время занятия — плюс полчаса вышивания.
Из всех возможных способов приглушить чувство вины за то, что он не уступил просьбе моей матери, отец выбрал именно этот.
— Ты сжульничал! — проворчала я, забирая обратно шпагу.
Он фыркнул в унисон с Бо:
— Не все противники так же честны и порядочны, как мушкетеры. Едва ли тебе часто будут встречаться такие, и еще реже будут попадаться те, кого обучали мушкетеры. Не только блестящие фехтовальщики, но и выдающиеся личности.
Папа имел не самое реалистичное представление о своих братьях по оружию. Он видел честь в каждом из них, даже в тех, кто не заслужил себе место в их рядах, а получил его благодаря семейным титулам и состоянию. Они были его друзьями. По крайней мере, мушкетеры времен его молодости. О тех, что пришли позже, умолчим…
— Вот бы и мне узнать, что это такое — братство, — пробормотала я, обращаясь скорее к себе, чем к отцу. До чего глупое желание! Глупое желание глупой больной девочки. Но как ни нелепо это прозвучало, в моей фантазии все преобразилось: конюшня превратилась в большой зал, полный фехтовальщиков. Их привела сюда одна миссия — защищать короля, защищать Францию. Здесь слышался смех и звон клинков, голубые плащи с вышитыми крестами мелькали там и сям. Но вместе они составляли нечто гораздо большее, чем их долг. И как бы ни было смешно, я представляла их всех девушками — такими же, как я.
Un pour tous, tous pour un. Один за всех — и все за одного. Этими словами папа заканчивал все свои сказки на ночь, когда я была маленькой.
Отец улыбнулся, и на его лице промелькнуло странное выражение.
— Ох, Таня! Я бы так хотел, чтобы у тебя было то, что было у меня. — Его взгляд стал далеким, пряди волос прилипли к лицу, в руке клинок — готовый ответить на призыв к оружию, если таковой поступит.
— Papa, — позвала я. Он не ответил. Он был далеко. — Papa!
Он моргнул.
— Ты никогда не хотел вернуться?
— Куда вернуться?
— В мушкетеры.
— Нет больше мушкетеров.
Он нахмурился. Я открыла рот, но он не дал мне заговорить:
— Да, существуют мушкетеры гвардии, они до сих пор охраняют короля… Но настоящие мушкетеры, мои мушкетеры — они уже в прошлом. — Тень скользнула по его лицу. — У нынешних слишком много славы, слишком мало чести. Мальчишки, которые не могут равняться со своими предшественниками и слишком заняты полировкой своих клинков. Вот что происходит, когда получаешь слишком много звонких монет. В наши времена сражаться за короля значило не просто сражаться за монархию. Мы сражались за Францию! Сражались друг за друга. Защищали своих братьев. Иногда, — пробормотал он так тихо, что мне пришлось напрячься, чтобы расслышать его, — я вообще забывал, что король существует.
Бо издал тихое ржание и затопал копытами в знак протеста.
— А, месье Бо! Уже доел свой овес? — Отец подошел к стойлу, держа в руке яблоко. Я посмотрела на Бо, он посмотрел на меня. — Ты сегодня разговаривала с мамой?
Заминка в папином голосе заставила меня насторожиться. Он стоял ко мне спиной, вытянув руку, пока Бо счастливо хрустел яблоком.
— Да… а что?
— Сегодня к обеду мы ждем гостя… точнее, гостей.
— Гостей? — Он обернулся ко мне, ссутулившись. У меня внутри все сжалось. — Ты меня не заставишь! Я не соглашусь! Ни за что!
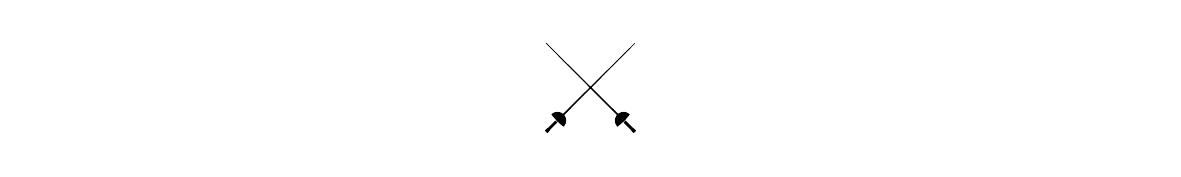
Я была сложена не так, как Маргерит или остальные девушки в нашем городке, — мне не нравилось, как я выгляжу в изысканных платьях. У меня не имелось округлостей там, где им положено быть. Мои движения не были плавными и грациозными, тело состояло из мускулов и сухожилий — то, что нужно для фехтовальщика.
Но не для юной девушки, которую оценивают, будто свинью на ярмарке.
Мои и его родители наблюдали за нами через окно. Они все еще сидели у стола, за послеобеденным бокалом вина — все, кроме папы, который отказался от дара лозы после того, как ушел из мушкетеров.
Шомоны были друзьями моего дяди… и главной целью моей мамы в ее попытках сбыть меня замуж. Она планировала эту встречу с тех самых пор, как ее брат обмолвился, что у Шомонов есть сын примерно моего возраста. Об этом-то дядя и писал в том письме: скоро Шомоны прибудут в наш городок, и он надеется, что его письмо дойдет вовремя, и сожалеет, что мы узнаем об этом в последнюю минуту. Это было, конечно, чересчур прямолинейно, но мама готова была простить ему что угодно за шанс устроить мое будущее.
Воздух в саду был напоен сладкими ароматами, и я надеялась, что они перебьют запах пота, который от волнения лил с меня градом и безжалостно скапливался в складках лифа.
Жак остановился у начала цветочных клумб. Щеки у этого юноши розовели всякий раз, когда родители упоминали в разговоре его непревзойденные достоинства, а искусством этим они владели в совершенстве. Его мать умудрялась свернуть на эту дорожку, даже беседуя на совершенно посторонние темы, например о внешности придворных фрейлин: «Одна из фрейлин вдовствующей королевы такая невзрачная, что на последнем балу в сезоне у нее не было ни единого приглашения на танец! Бедняжка! Но Жак, настоящий кавалер, пригласил ее танцевать целых два раза! Такой добрый, такой заботливый юноша! Даже мадам де Тревиль так сказала. Она сама ко мне подошла, представляете? Пару месяцев назад она открыла подготовительную школу для девиц на выданье — все аристократы Парижа выстроились к ней в очередь! Полагаю, вы об этом не слышали в вашей… в вашем райском уголке. Должно быть, она нацелилась устроить брак между одной из своих подопечных и нашим Жаком. Но она должна понимать, что он весьма востребован. Старший сын и с такими прекрасными манерами!»
В начинающих сгущаться сумерках Жак повернулся к окну; мадам Шомон помахала ему рукой. Моя мама в свою очередь перехватила мой взгляд и кивнула на Жака.
Я неловко переступила с ноги на ногу. На мне были домашние туфли, в которых легко было поскользнуться на неровном газоне.
— Они знают? — спросила я у мамы в день их приезда, втискиваясь в неудобное голубое платье, украшенное золотыми завитками вышивки.
В ее глазах, которые я видела в зеркале, промелькнуло понимание. Руки, разглаживавшие складки на рукаве, застыли.
— Они знают только то, что рассказал им твой дядя.
— А именно?
— Когда он предложил им эту встречу, они спросили, почему не видели тебя на балах сезона. Он ответил, что мы не отпускаем тебя в Париж, потому что ты слишком слаба. Что ты болела, но уже выздоравливаешь.
— Ты хочешь, чтобы я врала им? Врала про… про…
Она потянулась рукой, чтобы поправить заколку в моих волосах, ее движения сделались резкими. Заколка больно кольнула мне голову.
— Я свою часть работы выполнила. Теперь ты должна выполнить свою. — Я покачала головой. — Таня, — сказала мама, встряхивая меня за плечи, — мы должны кого-то найти. Ты разве не понимаешь?
Я понимала, конечно. Ее слова постоянно крутились у меня в голове. Она сватала меня парням из нашего городка столько раз, что и не счесть. По мере того как головокружения становились все тяжелее и мои надежды таяли, ее слова видоизменялись и множились. И хотя она не говорила этого вслух, я знала, о чем она думает, что на самом деле означает каждая заколка в моих волосах, каждая лента в лифе платья. Не имело значения, что она вышла замуж по любви.
У больных девушек не бывает поклонников. Больные девушки должны сражаться, чтобы получить то, что им причитается. Но это сражение гораздо тяжелее схватки на шпагах.
Так что я кивнула в маме ответ, а потом мило улыбнулась Жаку, притворившись, что поправляю юбку, а на самом деле нащупывая поручень, который папа установил для меня вдоль забора как раз на такой высоте, чтобы можно было опираться на него незаметно. Этот забор был слишком высоким, чтобы держаться за его столбики, в отличие от забора перед домом.
Если бы кто-то задался целью найти место, где усилия моих родителей идеально сочетаются, он нашел бы это место в саду. Аккуратно подстриженные, ухоженные кусты были любимчиками моей матери, потому что они походили на те, что росли в Лувре — главной резиденции короля. А яркие цветные пятна — всполохи голубого и красного — были творением моего отца.
Я замялась, не зная, что сказать:
— Ну что ж, обед получился… интересный.
Интересный? Я что, правда сказала «интересный»?
Подол моего платья зашуршал по траве, когда мы обходили куст, подстриженный в форме цветка.
— А ты… — заговорил Жак.
— Я всегда думала… — начала я.
— Пожалуйста, продолжай.
— Я… я всегда думала, что он какой-то странный, — закончила я, кивком указывая на куст.
Он сдвинул брови:
— Почему же?
— Тебе разве не кажется странной мысль о том, что куст, напоминающий цветок, кому-то кажется более красивым, чем сам цветок?
С горящими щеками я посмотрела на Жака в полумраке. Уходящий свет прорисовал на его лице резкие линии, которых там на самом деле не было.
— А ты что хотел сказать?
— Не желаешь ли присесть? — спросил он. Мы подошли к скамейке, с которой открывался вид на цветы.
Его лицо обрамляли мягкие, детские локоны, глаза были бледно-голубыми. В их глубине не таилось страсти, тихо тлеющей огнем. Но не было в них и жестокости. Ничего такого, что оттолкнуло бы меня. В его лице была доброта, хотя, возможно, я сама себя настроила так, чтобы ее увидеть. Он пригласил на танец девушку, от которой все отвернулись. Пусть мне недоступна любовь, мне будет достаточно и доброты. А доброта — это тоже в своем роде любовь.
— У меня что-то на лице?
— Нет! — заверила его я, пожалуй, чересчур громко.
— Хорошо. — Он прочистил горло. — Полагаю, тебе известно, зачем я здесь: я достиг того возраста, когда пора задуматься о поиске невесты. Моим родителям дали понять, что и ты уже задумываешься о браке.
Его фразы отдавали канцелярщиной. Но не каждому дано стать поэтом. Если он не говорит на языке любви, это не означает, что в нем напрочь отсутствует способность к этому чувству.
— Это правда. — Я помедлила, но он ничего не сказал. — Ты еще что-нибудь хочешь обсудить?
— О делах договариваются наши родители. — Он махнул рукой в сторону дома. — Что тут еще обсуждать.
— Что ж. — Я сглотнула, чтобы унять лихорадочное чувство, которое поднималось у меня в груди и стремилось выйти через горло. У него не было желания знакомиться со мной. Ему не было дела до того, что мне нравится, а что нет, есть ли во мне что-то, что он когда-нибудь сможет полюбить.
Именно тогда, в порыве отчаяния, желая быть где угодно, но только не здесь, я совершила ошибку. Не подумав, я сморгнула слезы и резко вскочила.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Черные лепестки распустились перед моим взором — куда более знакомые, чем любой цветок в саду, и куда более темные, чем сердцевина подсолнуха.
Передо мной возникло обеспокоенное лицо Жака, его пальцы слегка сжали мой локоть, усаживая меня на место. Однако мир вокруг меня продолжал бешено вращаться.
— Что-то не так? Мне позвать…
— Нет! — выкрикнула я, а потом попыталась натянуть на лицо самое любезное выражение, какое могла. — Нет, — повторила я, на этот раз мягче. — Не беспокойся.
— Н-не беспокоиться? — запинаясь, повторил он, переводя взгляд с меня на дом и обратно.
Я поджала пальцы на ногах. Это не слишком помогло унять головокружение, поскольку я уже сидела, но это действие было таким естественным и знакомым, что темный ужас, сжимавший мне грудь, начал понемногу отступать. Глубокий вдох, медленный выдох.
Когда мое зрение вновь сфокусировалось, я посмотрела на Жака. Мне хорошо удавалось скрывать боль. Всего-то и требовалось, что сжать зубы. Стиснуть кулаки так, чтобы ногти впились в ладони.
— Я думаю, надо позвать наших родителей, — сказал он.
— Прошу, не надо. Они ничего не смогут сделать.
Он впился в меня взглядом в подступившей темноте:
— Что ты имеешь в виду?
У меня уже было готово оправдание. Но я смотрела ему в глаза — скорее колодезная вода, чем синее небо. В глаза юноши, который подарил танец одинокой девушке, юноши, за которого я могла бы выйти замуж. Которого могла бы попытаться полюбить со временем.
— Иногда у меня кружится голова. Все не так уж страшно, — добавила я, заметив тревогу на его лице.
— Так ты… больна?
— Нет, — поспешно ответила я. — Со мной все хорошо, правда, я просто…
— Ты не обязана объяснять.
Я осеклась:
— Так ты… понимаешь?
Облегчение охватило меня всю — от макушки до кончиков пальцев ног.
— Разумеется. Давай я помогу тебе вернуться в дом.
Он подал мне руку, и я нерешительно потянулась к ней, мои пальцы наткнулись на его рукав — темно-синяя ткань, почти черная в сумерках. Он не дрогнул.
Я снова попыталась заглянуть ему в глаза. Но тени слишком сгустились, так что мне оставалось лишь представлять себе то, что я могла бы в них найти. При таких условиях его глаза могли сказать мне все, что мне хотелось услышать.
— Таня! — Когда мы вошли, мама проводила нас в гостиную. — Ты показала месье Жаку наш сад?
— Он очарователен, мадам.
Жак подвел меня к кушетке с набивным рисунком в виде роз, переплетающихся стеблей, в бледно-розовых и светло-зеленых оттенках.
— Ты пришла в себя? — спросил он. Я кивнула. — Еще раз спасибо за экскурсию по саду. — Он повернулся к маме: — Мадам, не будете ли вы так добры сказать, где мои родители?
— Я попросила мужа проводить их в салон. Он находится в передней части особняка.
Как будто мы живем в огромной усадьбе, а не в простом деревенском доме. Едва Жак скрылся из виду, она подскочила ко мне и стала поправлять одну из заколок у меня в волосах.
— Почему он спросил, пришла ли ты в себя? У тебя был приступ головокружения?
— Все нормально.
— Он заметил? Сказал что-нибудь? — В ее голосе прорезалась истерическая нотка.
Я не знала, что отвечать, поэтому просто повторила:
— Все нормально!
Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться:
— Что случилось?
Выражение маминого лица менялось по мере того, как я пересказывала подробности нашей прогулки с Жаком и пыталась унять ее тревогу, стараясь при этом не оглядываться через плечо в страхе, что сейчас войдут Шомоны.
— Надеюсь, ты не рассказала ему, что с тобой уже давно такое происходит, — выдавила она.
— Он знает лишь, что иногда у меня кружится голова. Он сказал, что все понимает.
— Сказал, что все понимает? — переспросила она, чеканя каждое слово.
— Ну… да.
Мама издала сердитый отрывистый смешок:
— Он — сказал — что — все — понимает? Таня, как он может понять? Как это вообще возможно?
Глаза налились жгучими слезами, я съежилась на кушетке.
— А что еще я могла сказать или сделать? Maman, прошу тебя, — взмолилась я, протягивая к ней руки. Когда мы в последний раз прикасались друг к другу, не считая тех моментов, когда у меня подгибались ноги и ей приходилось меня поддерживать? Когда она в последний раз брала меня за руку не потому, что я нуждалась в помощи?
— Что у вас тут происходит? — Папа неспешно вошел в дверь и резко остановился, увидев нас: маму, которая вся была как натянутая струна, и меня, мечтающую о том, чтобы сбежать в конюшню к шпагам и спрятаться там от всех. По моим щекам скатилось несколько слезинок. Я его разочаровала. Трусиха, побоявшаяся встретиться с неодобрением.
— Где Шомоны? — спросила мать.
— Мальчик захотел переговорить с родителями, так что я оставил их одних. До чего напыщенная у него мамаша. — Он подмигнул мне. — Если хочешь знать мое мнение, она довольно неприятная.
— Томá!
— Да в чем дело, ma chère?
— Он знает, Томá.
— Кто и что знает?
Мама не успела ответить. Едва отец умолк, дверь открылась. Это был Жак. Я встала, ухватившись рукой за спинку кушетки, чтобы удержать равновесие. Я должна была доказать ему, что я нормальная. Убедить его, что покрасневшее от слез лицо — это просто здоровый румянец.
— Мадам. Месье. Мадемуазель, — нараспев произнес Жак.
— Месье, мы думали, что вы удалились в салон побеседовать с вашими родителями, — проговорила мама.
— Моя мать попросила дать ей минутку собраться. Ей кажется, что мы уже слишком задержались.
— Но выезжать ночью опасно! — возразила мама. — Вам нужно отдохнуть. Мы рассчитывали, что вы останетесь на одну, а может, даже на две ночи.
— При всем уважении это было до того, как… — Жак остановился и бросил взгляд на меня.
— Советую вам быть осторожнее с формулировками, месье. — Взгляд отца сделался острым, как клинок.
Жак вздернул подбородок:
— Уверяю вас, месье, я не хотел проявить неуважение.
Мама дернула папу за руку и пробормотала что-то о том, чтобы найти месье и мадам Шомон, после чего потащила его за собой в направлении салона. Она была так взволнована, что даже не подумала о том, что оставляет нас наедине.
Край кушетки больно врезался мне в спину. Я не шевелилась. Не потому, что кружилась голова, а потому, что я будто примерзла к месту. Я была словно глыба льда, ожидающая, когда ее превратят в лебедя.
— Мадемуазель, я должен откланяться. — Жак отвесил вежливый полупоклон.
Наконец ко мне вернулся голос:
— Как ты мог притвориться, что все в порядке? Когда мы были в саду?
Его лицо скривилось в выражении, которое сочетало в себе веселье и замешательство.
— Ничего подобного! У тебя случаются эти, как их… приступы головокружения? Так их называет твоя мама? От них тебе плохо, и они мешают тебе ходить? Это неприятно. Мне жаль, что тебе приходится страдать.
— Я ничего не понимаю.
Он засмеялся. Не издевательски, не резко, но сами его слова звучали как прелюдия к чему-то ужасному, как пощечина:
— Это я ничего не понимаю. Очевидно, что я ни за что не сделал бы тебе предложение.
— Но… твоя мама говорила, что ты добрый. Ты танцевал с…
— Одно дело — потанцевать на балу с некрасивой девушкой, которая осталась без приглашений, и совсем другое — жениться на такой, как ты. Несмотря на твое состояние, ты должна это понимать.
Даже сейчас я не видела в его глазах злобы. Ни отвращения, ни жестокости. Он не считал, что поступает плохо. Не считал, что сказал что-то неправильное.
В гостиную влетела мадам Шомон. За ней по пятам следовала моя мать.
— Мы уезжаем, — бросила мадам Шомон сыну. — Твой отец пошел за кучером, чтобы подготовить экипаж.
Ее взгляд заскользил по комнате, глаза сузились, и в них сверкнули молнии, когда она заметила меня в моем углу.
— Что ты о себе возомнила? Это что, какой-то коварный план — соблазнить моего сына и распространить твою ужасную болезнь на его потомство? Ты решила опозорить нашу семью? Какой низкий политический трюк. Я, конечно, прекрасно осведомлена о дворцовых интригах и скандалах, поскольку провожу в Париже достаточно времени, но ты превзошла даже самых жадных до власти выходцев из низшей знати…
— Оставьте мою дочь в покое. — В дверном проеме появился мой разъяренный отец.
Мадам Шомон осеклась:
— Я, должно быть, ослышалась? Ни один воспитанный человек не стал бы разговаривать с дамой моего положения в таком тоне!
— Мне повторить, что я сказал? — Папа сделал шаг в комнату. — Я буду только рад.
— Мерси, мадам де Батц! Позвольте поблагодарить вас за восхитительный ужин, — вмешался Жак. — Мы более не будем злоупотреблять вашим гостеприимством.
— Мадам Шомон, — засуетилась мама, — произошло недоразумение…
Та окинула ее взглядом, от которого мне захотелось провалиться сквозь землю. Это был не гнев, хотя в уголках ее глаз горели искры ярости. Нет, это было глубочайшее, почти осязаемое презрение. Она пробежала глазами по всей фигуре моей матери, с головы до пят. Как будто мама совершила преступление, родив меня на свет, и за это должна быть смешана с грязью. Раньше я думала о том, что выгляжу ничтожеством в глазах моей матери. Но я оказалась не готова к тому, что мать, обернувшись ко мне, посмотрит на меня так, будто видит впервые в жизни.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Удар. Раньше попадание клинка в цель приносило облегчение. Но не в этот раз. Сколько бы вдохов-выдохов я ни делала, у меня не получалось расслабить тугой зажим в плече, окаменевшие мышцы рук.
— Это твоя вина. Ты забил ей голову своими историями. Ей такое не светит.
УДАР. Клинок врезается в ткань. Клинок врезается в дерево. Прищурившись, я могла представить себе, что у манекена лицо Жака — открытое и закрытое одновременно, уверенное, что ему-то нечего утаивать.
В следующий миг я вздрогнула, клинок со звоном упал на пол. Одно дело — черпать в гневе и разочаровании силы для тренировок, и совсем другое — представлять свою мишень с лицом юноши, воображать, как кромсаешь его до тех пор, пока он не рухнет на пол. Пока не поймет, что натворил.
Голоса рядом с конюшней умолкли. Тишину нарушало лишь мое прерывистое дыхание.
— Она еще молода. Она могла бы…
— Она твоя дочь. Если бы она проводила больше времени за изучением того, что нужно девушке, мы бы не оказались в такой ситуации!
— С чего ты решила?
— Для начала она сумела бы манипулировать этим юным кривлякой.
— Дорогая моя, наша дочь, скорее всего, последний человек во Франции, который научится кем-либо манипулировать. Она для этого слишком добрая. Она никогда не станет использовать свой огонь, свою силу, чтобы причинить вред другим. — В голосе отца словно прозвучало какое-то предупреждение, но мама продолжала наседать и спорить.
Я бы рассмеялась, если бы мне не хотелось плакать: в этот самый момент я представляла себе мальчика на месте тренировочного манекена. Разве я добрая? Я никто; я воплощение всех недостатков. Просто мой отец слишком снисходителен ко мне.
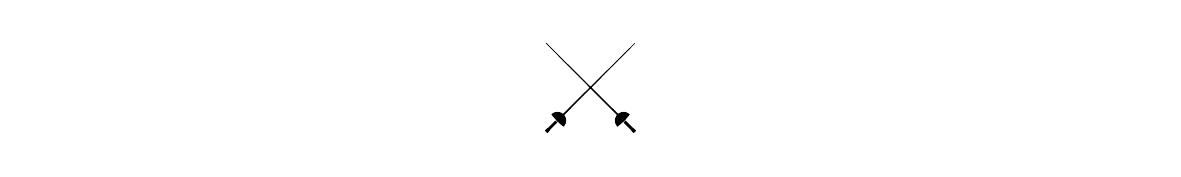
— Увечная девчонка не лыком шита, а? — Мужчина приближался ко мне в темноте. Но на этот раз мои руки были пусты: ни кочерги, ни шпаги. Ничего, что помешало бы ему вонзить клинок мне в сердце.
Я бесполезна. Безнадежна.
— Таня.
Я резко проснулась, комнату заливал утренний свет. Папа стоял у окна, ставни были открыты. Все казалось слишком ярким.
— Три дня! Уже три дня прошло с тех пор, как эти грубияны уехали, а ты до сих пор почти не выходишь из комнаты. Ты только один раз тренировалась в конюшне. Упиваясь горем, ты себе не поможешь.
— Я не упиваюсь горем, — пробормотала я.
— Тогда вставай. Пора на тренировку!
— Я не могу. — Я уткнулась лицом в подушку, наволочка была мокра от слез, или от пота, или от того и другого вместе.
— Ты же понимаешь, что тебе станет хуже, если ты не будешь практиковаться и особенно если не встанешь с кровати. Вся проделанная работа пойдет насмарку. — Я посмотрела на отца. Чем дольше я остаюсь в кровати, тем сильнее будет кружиться голова, когда я в конце концов встану: факт, о котором мое тело ни за что не позволит забыть. Факт, который за все эти годы папа тоже выучил. — Ты слишком сильная, чтобы сдаться. Где моя отважная дочь?
Но я не сильная; я чувствовала себя слабой и усталой. Тем не менее я с кряхтением заставила себя подняться. Свесив ноги с кровати — пальцы были лиловато-серыми, — я попыталась встать.
Папина рука метнулась вперед, чтобы поддержать меня, когда я споткнулась. Ноги дрожали под моим собственным весом.
— Ты предупреждал, да? Что от лежания в кровати станет только хуже. Говори, не стесняйся, — с горечью произнесла я, когда он обнял меня за талию.
В его глазах отразились мои. Он сглотнул:
— Нет, Таня. Конечно, нет.
Где-то глубоко в груди кольнула боль. Прошло всего несколько дней с тех пор, как я была в фехтовальной, но мне казалось, что миновала вечность. Знакомое першение в горле от сена, восхитительный скрип половиц. Темные глаза Бо следили за мной, когда я шла через проход. Папа подвел меня к старому стулу, который держал в конюшне как раз для таких случаев. Я будто вернулась в свою худшую форму. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать: все эти годы я могла только сидеть и смотреть, как упражняется отец. Время от времени я практиковалась в работе с клинком сидя, разучивая техники без шагов. Я ненавидела это чувство беспомощности. Мне будто снова было двенадцать.
— Таня. — Папа расчесывал гриву Бо гребнем с редкими зубьями, борясь с упрямыми колтунами. — Нам надо поговорить о том, что произошло.
— Я думала, мы пришли тренироваться.
Он положил гребень на табурет, стоявший рядом:
— Надо было как-то выманить тебя из спальни.
— Ты соврал мне!
Я знала, что сейчас он откинет с лица пряди волос, и так он и поступил.
— Не всякая ложь — зло, моя дорогая. Если за ней стоят добрые намерения, она может не навредить, а помочь.
Уголки моего рта скривились в недовольной гримасе, которую мама терпеть не могла. Она говорила, что, когда я хмурюсь, я слишком похожа на отца. Леди не должна хмуриться. И уж точно не должна корчить гримасы.
— Ты сейчас о нем, да?
— Ты знала, как это важно, — сказал папа. Я вздернула брови. — Как это важно для твоей матери, — поправился он. — Я знаю, что он не был, просто не мог быть главным претендентом на твою руку. Да и с чего бы, если его главное достижение — танец с кем-то там на балу? Однако…
— Ты думаешь, дело в этом, Papa? — Я отчаянно боролась со слезами злости, которые сами собой наворачивались на глаза. — Papa, прошу, скажи, что ты понимаешь меня. Я не могла врать ему, ты видел его лицо? Я просто не могла.
— Твоя мама всего лишь хочет позаботиться о том, чтобы ты была устроена. Я знаю, сейчас эти проблемы кажутся такими далекими, но, Таня, пойми, она волнуется за тебя. И как бы я ни хотел, чтобы ты нашла свое счастье, в чем бы оно ни заключалось, я вовсе не обрадуюсь, если ты в итоге окажешься в каком-нибудь монастыре. Если бы я считал, что такая жизнь принесет тебе радость, — пожалуйста, но это не то, чего ты хочешь, а я не хочу, чтобы ты зависела от благосклонности родственников. Но самое главное, ты не должна остаться одна.
— Но я не виновата, что молодые люди шарахаются от меня, как от чумной!
— Таня, — перебил он, — хватит.
Если бы я только могла отпустить вожжи. Но я знала, что произойдет, если я перестану сдерживаться: у меня закружится голова, перед глазами поплывут круги, а земля начнет уходить из-под ног.
— Не то чтобы я совсем не хотела замуж, — объяснила я. — Или не хотела встретить кого-то. Но как я могу влюбиться в того, кто даже не знает меня с этой стороны? Моя болезнь — не вся я, но это важная часть.
— Брак не всегда строится на любви. Конечно, он может с нее начаться. Или продолжиться ею. Но есть и еще кое-что. Это партнерство. Супруг — это человек, который помогает тебе стать лучше — и рядом с ним, и порознь. Это человек, который признает твои сильные стороны и восхищается ими. И хотя мне тяжело признавать, что твоя мама права в этом отношении, брак обеспечивает определенную степень безопасности. — Отец встал осторожно, словно у него что-то болело. — А тебе нужна безопасность. Особенно теперь, когда…
— Когда что?
Он остановился, слова будто застряли у него в горле:
— Неважно.
— Papa…
Он вздохнул, его лицо сделалось кротким:
— Боюсь, я позволил тебе вырасти в уверенности, что Франция — безопасная, неприступная крепость. Все эти истории, которые я тебе рассказывал, — о победах над врагами, кто бы они ни были и откуда бы ни пришли… Но герои не всегда побеждают, ma chère. И бывает так трудно, так невыносимо трудно, когда герои и злодеи хотят одного и того же, или по крайней мере им так кажется. У каждого своя правда.
Говоря все это, он вертел на пальце одно из своих колец, на металлической поверхности играли блики. Во мне разыгралось любопытство, хотя кулаки все еще были сжаты от злости.
— Мне нужно уехать, меня пригласили посетить очередную академию фехтования, — сказал он.
— Но, Papa, а как же…
— Грабители не вернутся. Вламываться в один и тот же дом дважды — значит напрашиваться на пристальное внимание маршалов. Кроме того, я и так уже долго откладывал важную работу. Полгода — более чем достаточно.
— Работу? Разве разъезды по академиям фехтования и ублажение аристократов можно назвать работой? Ты ведь сам говорил, что они смешны! Ты просто хочешь повидаться с друзьями, с братьями по оружию. Ты скучаешь по тем временам, когда был мушкетером.
Он не понял. Его не было дома в ту ночь, когда кочерга стала единственной преградой между мной и опасным незнакомцем. В последнем отчаянном порыве я скрестила руки на груди:
— Maman ни за что тебя не отпустит!
Эти слова заставили его усмехнуться.
— Ты похожа на нее больше, чем тебе самой кажется. Час назад у нас с ней состоялся точно такой же разговор. — Он умолк ненадолго, а потом склонился надо мной и поцеловал в лоб. — Я вернусь завтра до заката. Ты даже не успеешь толком на меня позлиться.
Он оседлал Бо, но, прежде чем взобраться в седло, оглянулся на меня через плечо:
— Сегодня вечером возьми шпагу с собой в спальню.
— Но Maman…
— Не обязательно ей рассказывать. Я буду спокойнее, зная, что у тебя под рукой есть чем защитить себя и мать.
Он взял в руки поводья и поправил подпругу.
— Если ты так уверен, что грабители не вернутся, от кого нам тогда защищаться?
Он потянулся ко мне и сжал мою руку:
— Жаль тебя расстраивать, но твой отец превращается в старого параноика. Отнесись к нему снисходительно, будь так добра.
Я не смогла защитить нас. И все же он смотрел на меня так, словно верил в меня, считал меня сильной. У меня не было братьев по оружию, на которых я могла положиться в трудную минуту. Но у меня был папа. И как бы мне ни хотелось с ним поспорить, схватить Бо под уздцы и заставить его остаться, я ничего не сделала. Потому что, хотя он и оставил службу в Доме короля, мы с ним были мушкетерами. Он и я. Может, наш дом и не походил на дворец, но мы все равно готовы были защищать его. И защищать друг друга.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Свеча на комоде почти догорела, фитилек слабо мигал в лужице растопленного воска. После папиного отъезда я попыталась отвлечься полировкой клинков, но вскоре меня позвала мать. Я поспешила на зов, чтобы она не поняла, что я была в конюшне, но она будто обо всем догадалась и засадила меня за унылое вышивание. А потом я проспала ужин. Точнее, меня к нему не разбудили.
Таня.
Очнувшись ото сна, я села в кровати.
Таня.
Передо мной заплясало видение незваных гостей в плащах и с плотоядными ухмылками. Я судорожно вздохнула и потянулась за шпагой. Папа рассчитывает на меня.
Прежде чем выйти в коридор, я осторожно выглянула за дверь. Потом прошла вдоль стены, пробежав по ней пальцами: вот стык обоев, вот полка.
— Maman? — Я нерешительно остановилась на пороге ее спальни.
Мама спала, укутавшись в одеяла, словно в саван. Виднелся лишь краешек лица. Когда я попятилась, у меня внезапно скрутило живот от мысли, что я без всякой причины ворвалась к ней, и я запнулась о ковер. Я чуть не выронила шпагу, но в последний момент подхватила снова.
— Таня, — пробормотала мать, переворачиваясь на другой бок. Темные волосы рассыпались по плечам. Она произносила мое имя с какой-то необычной нежностью. Она не проснулась.
Таня.
По моей голой шее побежали мурашки, и я оглянулась в поисках источника этого низкого, мягкого голоса. На этот раз меня звала не мать. Но в кор
