автордың кітабын онлайн тегін оқу Русское

Эту книгу
автор с глубоким почтением посвящает тем,
кто сейчас восстанавливает монастырь
в Оптиной пустыни
Генеалогическое древо
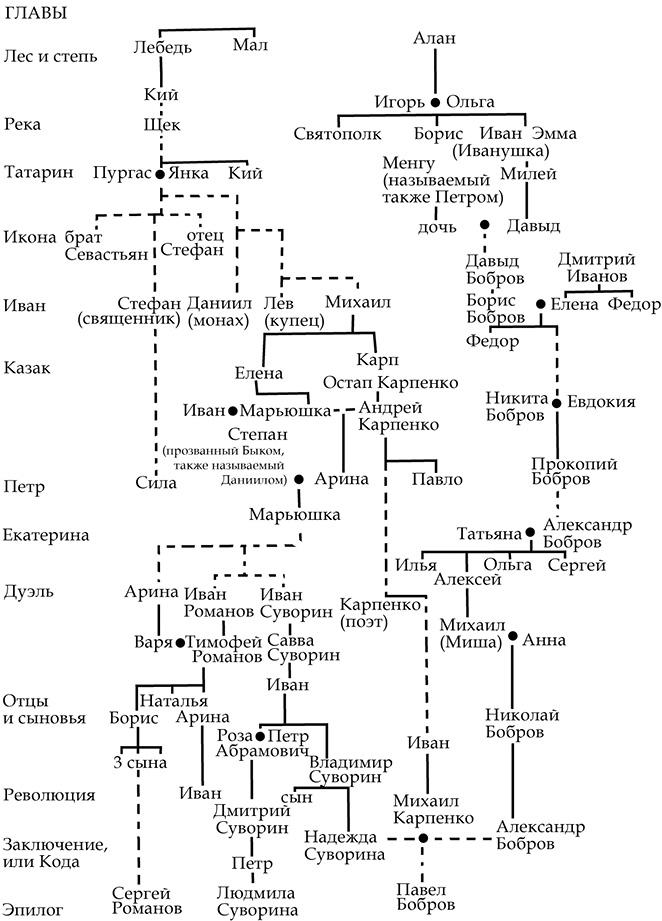

Предисловие
Село, затем город Русское
Два поселения, носящие в этом повествовании название Русское (первое на юге, а второе, основанное позже, — на севере), — целиком вымышлены, впрочем, само это название действительно можно найти на карте. Каждое из этих вымышленных местечек представляет собой сплав черт, присущих, соответственно, русскому Югу и русскому Северу. В северном Русском, где происходят основные события романа, старый город и монастырь отчасти отдаленно напоминают древний город Суздаль, в котором и были написаны несколько глав этой книги. Чудотворные ключи я увидел под стенами древней Изборской крепости, на северо-западе России. Усадьба Бобровых весьма походит на имение, принадлежавшее семье Пушкина.
Роман «Русское»
«Русское» — исторический роман. Семейства Бобровых, Сувориных, Романовых, Ивановых, Карпенко, Поповых и персонаж по фамилии Пинегин вымышлены. Однако, прослеживая их судьбы на протяжении столетий, я помещал их в историческое окружение, среди лиц, которые существовали или, по крайней мере, могли существовать, и событий, которые происходили или, по крайней мере, могли происходить на самом деле.
Я, насколько возможно, старался показать читателю исторический фон тех или иных событий; сведения, которые я привожу для его удобства в романе, надеюсь, окажутся достаточно информативными, но в то же время не будут раздражать его излишними подробностями. Время от времени я позволял себе чуть-чуть «сжать», сократить изображаемые события, чтобы упростить ход повествования, но, полагаю, нигде не исказил исторической правды.
Пытаясь хоть сколько-то передать ощущение удивительного богатства и своеобразия русской культуры, я счел себя вправе обильно заимствовать из неисчерпаемых источников — русского фольклора и литературы. За результат, каким бы он ни вышел, разумеется, всецело несу ответственность я один; впрочем, надеюсь, что у читателей, знакомых с предметом, возможно, возникнет чувство, что они встретили на этих страницах своих старых друзей.
В тех случаях, когда топонимы менялись, я опять-таки опирался на собственное суждение, иногда используя исторические формы, иногда, для ясности, современные.
Краткие итоги
Изначально эта книга писалась в 1987–1991 годах: за это время я несколько раз ездил в Россию и в общей сложности провел там много месяцев. Путешествуя как частное лицо, я смог не только побывать в Москве и в Ленинграде, но и увидеть северо-западные области страны, вплоть до Кижей и Балтийского моря, средневековые города Золотого кольца вокруг Москвы, Киев, Чернигов и Украину. Мои странствия по югу России привели меня в Одессу, в Крым, на берега Дона, где традиционно селились казаки, на Кавказ и в среднеазиатские города Хиву и Самарканд, расположенные в пустыне. Благодаря друзьям мне удалось посетить город Гусь-Хрустальный, находящийся примерно рядом с вымышленным северным Русским. Союз писателей также любезно свозил меня в старинную Рязань и показал место, где располагалась первая, еще более древняя Рязань, сожженная татаро-монголами, — оно произвело на меня пронзительное и скорбное впечатление.
Однако наиболее важным показался мне тот проведенный в России день, когда, опять-таки благодаря Союзу писателей, я смог побывать в только что возрожденной монашеской обители — Оптиной пустыни. Мы прибыли туда тотчас же после знаменательного события: накануне монахи обрели мощи знаменитого старца Амвросия Оптинского, жившего в XIX веке, и в то самое утро, когда мы приехали в монастырь, служили по сему случаю торжественный благодарственный молебен. Мне, иностранцу, ставшему свидетелем этой трогательной в самой своей простоте сцены, было дано на мгновение узреть истинную Россию, и я раз и навсегда уверился в том, что, если мы хотим понять хоть что-то в настоящем и вероятном будущем этой удивительной страны, необычайно важно как можно глубже погрузиться в ее прошлое.
Благодарности
Я хотел бы выразить глубокую признательность профессору Института славянских и восточноевропейских исследований Лондонского университета доктору Линдси Хьюз и аспирантке Йельского и Висконсинского университетов мисс Кэти Поттер, которые, разделив, прочитали всю рукопись этой книги и исправили ошибки. Если в романе остались какие-то неточности, погрешности и несообразности, то все они — исключительно на моей совести.
Мне хотелось бы также поблагодарить профессора Йельского университета Пола Башковича, предложившего мне написать роман о России.
Мне хотелось бы также высказать глубокую признательность Эдварду Казинцу и сотрудникам славянского отделения Нью-Йоркской публичной библиотеки, сотрудникам библиотеки Батлера Колумбийского университета и сотрудникам Лондонской библиотеки за их неутомимую помощь, неизменную поддержку и дружеское расположение. Мне хотелось бы особо поблагодарить членов нью-йоркского Синода Русской православной церкви за рубежом и преподавателей Крествудской Свято-Владимирской духовной семинарии, которые помогли мне получить многие книги, необходимые для моей работы.
Я хотел бы также выразить признательность мистеру Джону Робертсу, любезно порекомендовавшему меня многим из тех, кто впоследствии оказал мне помощь и поддержку, а также члену Союза писателей Москвы господину Владимиру Стабникову, которому я в значительной мере обязан тем, что мои путешествия по России состоялись, и который дал мне множество полезных советов и всячески ободрял и поддерживал меня в моем начинании. Я также благодарен сотрудникам Государственного Эрмитажа, любезно организовавшим для меня индивидуальные экскурсии.
Я бы хотел упомянуть также о множестве людей и на Западе, и в СССР, которых не могу перечислить здесь поименно и которые частным образом оказали мне большую помощь и гостеприимство; я никогда не устану благодарить их.
Мне бесконечно посчастливилось иметь такого литературного агента, как Джилл Колридж, и двух редакторов — Бетти А. Прешкер, сотрудницу издательства «Краун Паблишерс», и Рози Чизем, сотрудницу издательства «Сенчери»: их терпение, поддержка и неизменная, неутомимая помощь сделали возможной появление этой книги.
Я глубоко признателен своей жене Сьюзан за доброту и терпение, проявленные ко мне в то время, пока я вынашивал, обдумывал и лелеял этот творческий замысел.
Пользуясь случаем, еще раз приношу особую благодарность Элисон Борзуик за профессиональное составление карты.
И наконец, я хотел бы высказать признательность архимандриту и монахам Оптиной пустыни, открывшим моему взору незабываемые образы России.
Глава первая
Лес и степь
180 год н. э.
В степи этой ночью было тихо. Тихо было и в лесу.
Ветер пролетал над землей, едва касаясь.
В избе, одной из шести сбившихся в стайку в маленькой деревушке у реки, спала, обняв ребенка, мать.
Она не ощущала приближения опасности.
Высоко в озаренном звездами летнем небе время от времени медленной, ленивой чередой проплывали бледные облака, отражающие мягкий свет месяца, виднеющегося на юге.
Пышные, белесоватые, низко нависающие, появлялись они, подобно всадникам с востока, из неизвестно каких бесконечных степей; величественно, неспешно скользили над крохотной деревней на речном берегу и, оставив позади эти избы, продолжали свое странствие над темным лесом, тоже, возможно, тянувшимся бесконечно.
Деревушка располагалась на юго-восточном берегу широкой полноводной реки. Дубовые и липовые, сосновые и березовые леса постепенно сменялись здесь полянами и широко раскинувшимися лугами, окраинами огромной, могучей степи. А за маленькой речкой на северо-западном берегу простирался лес, густой, темный и непроходимый.
Три семьи, обитатели этой деревеньки, пришли сюда пять лет тому назад и, обнаружив здесь древнее, давным-давно заброшенное укрепленное поселение, сплошь заросшее мелким кустарником, расчистили его, установили частокол на защищающем его низком земляном валу, а внутри построили пяток изб. Поблизости распахали два больших поля, неровными полотнищами вторгшихся в границы леса. За ними вскоре одна за другой запестрели лоскутным одеялом росчисти поменьше.
В нескольких сотнях сажен земля по обоим берегам реки заболачивалась, и болотца эти тянулись на много верст.
Ветер пролетал над землей, едва касаясь. Он словно ласкал верхушки деревьев, и древесные кроны, озаренные снизу, бледно мерцали в звездном свете. В лесах поблескивали воды извилистой реки и болота.
Кроме тихого шелеста листвы, ничто не нарушало безмолвия. Лишь порой завозится небольшой зверек или олень прошествует сквозь густую траву. В какое-то мгновение возле болота за кваканьем лягушек внимательное ухо могло уловить хруст веток: это по лесной опушке пробирался медведь. Однако в деревне слышался лишь шелест деревьев да время от времени шорох колосьев, стоило ветерку провести невидимой рукой поверх длинного полотна ячменного поля, тотчас на миг покрывавшегося рябью, будто все его охватывала дрожь.
Иногда поле замирало, а иногда колосья наклонялись в другую сторону, словно ветер с востока лениво затихал, чтобы спустя мгновение снова заколыхать спелый ячмень.
Это происходило в 180 году — а как будто и не в 180-м, ведь, хотя в будущем тот год пометят именно таким номером, христианский календарь еще не использовался. Далеко на юге, в римской провинции Иудея, где жил Иисус Назаретянин, ученые раввины подсчитали, что сей год — 3940 от Сотворения мира. Кроме того, то был сто десятый год со дня разрушения Иерусалима. В остальной Римской империи шел двадцатый и последний год правления Марка Аврелия и первый год единоличного правления Коммода. В Персии считали 491 год эры Селевкидов.
А какой год протекал у жителей крошечной деревеньки на опушке леса? Насколько известно истории — никакой. О присвоении годам длинных номеров, как это принято в цивилизованном мире и фиксируется в письменных текстах, здесь и слыхом не слыхивали.
Это была земля, которая однажды станет известна под названием Россия.
Ветер пролетал над землей, едва касаясь.
Она спала, прижав к себе маленького сына. Тревожные мысли, которые беспокоили ее накануне, покинули ее во сне легко и бесследно, точно бледные облака, растворяющиеся вдали над лесом, за рекой. Она спала безмятежно.
В избе расположились на ночь двенадцать человек. Пятеро из них, в том числе Лебедь и ее сын, лежали на широких полатях, закрепленных поперек над большой печью. В эту теплую летнюю ночь печь не топили. Воздух был напоен сладковатым, земляным, довольно приятным запахом, исходившим от людей, которые весь день проработали в страду в поле. К нему примешивался свежий аромат трав, приносимый ветром сквозь квадратный открытый оконный проем.
Она лежала на самом краю полатей, в соответствии со своим низким статусом, ведь она была младшей из жен своего мужа. Она была уже немолода, ей исполнилось двадцать семь. Лицо у нее было широкое, в бедрах она уже раздалась, округлилась. Густая светлая коса ее свешивалась с края деревянного настила.
Рядом с ней, положив головенку на материнскую пухлую руку, спал ее пятилетний сын. До него были у нее и другие дети, но все они умерли, он остался у нее один-единственный.
Замуж она вышла пятнадцати лет и всегда знала, что муж взял ее в жены только потому, что она была сильной: ей полагалось работать. Но жаловаться ей было особо не на что. Муж оказался человеком незлым. Высокий, все еще пригожий в свои сорок лет, с обветренным лицом, выражавшим кротость и даже какую-то задумчивость, обычно, едва завидев ее, он оживлялся, в его светло-голубых глазах появлялась веселая, озорная искорка, и он кликал ее: «А вот и моя мордовка!»
У него это словцо было почти ласковым. Но в чужих устах оно звучало совсем по-другому.
Ведь Лебедь не считалась полноправным членом племени. В глазах мужнина клана она была полукровкой из-за происхождения ее матери. Кем была та? Одной из лесного народа? Мордовкой?
С незапамятных времен по лесам и болотам, простиравшимся на сотни верст к северу, были рассеяны финно-угорские народы, к числу которых принадлежало и племя ее матери. Широколицые, со смугловатой кожей представителей монголоидной расы, они охотились и ловили рыбу в этих бескрайних пустынных землях и жили в крохотных хижинах и землянках жизнью почти первобытной. Во дни солнцестояния они водили хороводы и высокими, резкими, несколько гнусавыми голосами монотонно распевали во славу неяркого солнца, которое чем дальше на север, тем реже показывалось зимой, а летом лишало землю ночного покоя, погружая мир в долгие, белые сумерки, и размывало линию горизонта вспышками бледных зарниц.
С недавних пор народ ее мужа — светловолосые люди, говорящие на славянском языке, — стал основывать в этом лесу, к востоку и к северу от своих исконных земель, небольшие колонии. В некоторых из этих поселений возделывали поля и разводили скот, как это делал клан ее мужа. Славяне и первобытные финно-угорские народы, коли случалось им сталкиваться, враждовали редко. Земли и охотничьих угодий здесь хватило бы и народу, числом превосходящему их в десять тысяч раз. Вступали они и в смешанные браки вроде того, что некогда заключила ее мать. Но жители деревушки все равно с презрением смотрели на лесных людей.
Ее муж шутил, величая ее по названию большого мордовского народа, чьи земли располагались далеко на севере, а не того маленького племени, к которому принадлежала ее мать. Но имя это — «мордовка» — обращало ее уж совсем в чужеземку, хоть и была она наполовину славянкой. А еще это слово, печально размышляла она, не давало забыть всему остальному клану, что надобно относиться к ней с пренебрежением.
И особенно ее свекрови. Вот уже почти тринадцать лет, дородная и грозная, была она для Лебеди словно туча, что вот-вот прольется ливнем и градом. Иногда по многу дней ее лицо, с тяжелыми, отвисшими щеками и крупными звериными чертами, сохраняло безмятежное, даже дружелюбное, выражение. Но затем лишь малая провинность с ее стороны — уронила веретено, разлила сметану, — и свекровь впадала в безудержный гнев. Остальные женщины в доме в таких случаях смиренно молчали, либо опустив глаза в пол, либо украдкой наблюдая за расправой. Но она знала: втайне те радуются, что сами избежали кары, что ярость свекрови обрушилась на чужеземку. Излив гнев, свекровь обычно без всякого перехода приказывала ей вернуться к работе, а потом, пожав плечами, обращалась к остальным: «Чего и ждать-то от бедной мордовки?»
Вытерпеть это было не так уж трудно, кабы не ее собственная семья. И отец ее, и мать умерли годом раньше, и у нее оставался теперь только младший брат. Именно из-за него она вчера и плакала.
Он никому не делал зла, но вечно попадал в немилость к деревенскому старейшине. На его широком, глуповатом лице вечно сияла улыбка, даже когда он напивался допьяна: и ничего он не хотел от жизни, только охотиться да баловать своего маленького племянника.
«Забудь о Кие, — говорила она ему, — да и обо мне тоже, если не будешь слушаться старейшины». Но все было без толку. Он терпеть не мог работу в полях, разрешения отлучиться не спрашивал и пропадал в лесу целыми днями, покуда сельчане раздраженно о нем судачили, а потом она замечала: вот он, пожалуйста, приземистый и сильный, вышагивает как ни в чем не бывало, на поясе висит несколько шкур, на лице сияет обычная его глуповатая улыбка. Старейшина принимался его бранить, а свекровь поглядывала на нее с удвоенным отвращением, словно это ее вина.
А теперь, надо же, накануне он — дурак дураком! — пообещал мальчику: мол, в следующий раз, как пойдет на охоту, добудет Кийчику медвежонка. Станет племянник держать его на привязи возле избы.
— Но, Мал, — напомнила она брату, — старейшина же сказал, что выгонит тебя из деревни, если ты опять ослушаешься.
В наказание за отлучки старейшина и так запретил ему охотиться на весь остаток года.
Но брат только кивнул своей большой, светловолосой головой, по-прежнему глупо улыбаясь, и не сказал ни слова.
— И что бы тебе не жениться и не оставить дурачества? — в отчаянии крикнула она.
— Как прикажешь, сестрица Лебедь.
Он с усмешкой склонил голову.
Нарочно сказал так, чтобы вывести ее из себя, ведь почти никого в деревне не называли полным именем. Малыша Кия все кликали детским, малым именем — звали Кийчиком. И ее редко звали Лебедью, с детства величали ласкательным прозвищем: Лебедушка. Прозвище было и у Мала: сельчане честили его Лентяем, когда на него злились.
— Лентяй! — не осталась она в долгу, охваченная гневом. — Остепенись да возьмись за работу!
Но Мал и не думал остепеняться. Он предпочитал жить в крохотной избе вместе с двумя стариками, сейчас уже ни на что не годными, вот разве охотившимися изредка на мелкую дичь. Втроем они пили мед, били зверя да рыбачили, а женщины посмеивались над ними, но терпели.
Вчера она еще дважды приходила к нему в поле, и во второй раз даже расплакалась, пытаясь уговорить его не ходить за медвежонком. Хотя брат и был для нее сущим наказаньем, она все равно его любила тосковала бы по непутевому, если бы того изгнали.
И каждый раз, хотя и видел слезы на глазах у сестры, Мал только усмехался, и по его крупному, широкому лицу стекали капли пота, когда он стаскивал копны сена в стог.
Вот потому-то на исходе этого долгого дня она не сразу заснула и долго ворочалась; а когда наконец погрузилась в забытье, бессознательно ощущала предвестие беды.
Но сейчас ночь исцелила ее от всех страхов, и она забылась сном без сновидений. Под простой, грубой рубахой грудь ее равномерно вздымалась и опадала. Долетавший из окна ветерок шевелил светлые вихры ее ребенка.
Никто не проснулся, когда пес, который дремал на пороге, привскочил и выжидательно уставился на две тени, проскользнувшие мимо. Никто, кроме маленького мальчика, на миг приоткрывшего глаза. Он сонно улыбнулся, и если бы его мать проснулась, то почуяла бы, как Кийчик весь дрожит от волнения. Он снова закрыл глаза, по-прежнему улыбаясь.
«Скоро!»
Ветер пролетал над землей, едва касаясь.
Но где же находилась эта деревушка, эта река, этот лес?
Здесь надо в нескольких словах пояснить, почему это волшебное место так важно.
По традиции географическая наука издавна делит гигантский материк Евразию на две части: Европу — на западе, и Азию — на востоке. Но традиция эта обманчива. На самом деле существует и более естественное разделение материка на север и юг.
Ибо через весь этот огромный массив суши, от Северной Европы, через всю Россию, через ледяные пустыни Сибири, вплоть до возвышенностей на границе с Китаем, простирающихся на север почти до самой Аляски, протянулась величайшая равнина мира.
Протяженность великой Северо-Евразийской равнины с запада на восток составляет одиннадцати с лишним тысяч километров. Она проходит от Атлантического до Тихого океана, образуя ряд огромных, соединенных между собою тектонических плит, которые покрывают шестую часть всей суши на нашей планете и по размерам могут сравниться с территорией США и Канады вместе взятых. На севере большая часть этой равнины ограничена холодным Северным Ледовитым океаном. От его берегов она, кое-где достигая в ширину более трех тысяч километров, простирается на юг — через гигантские зоны тундры, леса, степи и пустыни до своей южной границы. Можно считать, что именно эта граница и делит Евразию пополам.
Ведь если Северная Евразия представляет собой огромную равнину, то Южная Евразия, простирающаяся с запада на восток, включает в себя Среднюю Азию, древнюю Персию, Афганистан, Индию, Монголию и Китай. А север словно стеной отделяют от юга протянувшиеся полумесяцем могучие горные гряды, среди которых можно насчитать несколько высочайших вершин мира — от западноевропейских Альп до величественных азиатских Гималаев и прочих восточных горных хребтов.
Поэтому трудно понять, отчего географы когда-то решили поделить Евразию на запад и восток.
Если продвинуться вглубь на треть великой равнины, остановившись примерно к северу от современного Афганистана, то можно оказаться перед простирающейся с севера на юг, от тундры до краев пустыни, длинной чередой низких древних гор. Это Урал. В них принято видеть границу между Европой и Азией.
Однако, по правде говоря, за исключением нескольких весьма скромных вершин, эти пологие горы часто поднимаются в высоту всего на десятки метров. Никакие усилия воображения не помогут воспринимать их как «водораздел» между континентами: они едва ли образуют даже рябь на этой океанской глади суши. Границы между Европой и Азией не существует — равнина представляет собой единое целое.
Там, где она охватывает Северную Европу, равнина очень узка, всего-то каких-нибудь шестьсот пятьдесят километров в ширину. Затем, переходя на территорию Восточной Европы, она начинает расширяться, точно клин. Северную ее границу теперь образует большой холодный Финский залив, часть Балтийского моря, притаившегося под изогнутым выступом Скандинавии. Южную, горную границу ее формируют величественные Балканы и Карпаты, охраняющие Север Греции. А потом она, широко раскинувшись, и вовсе забывает о границах и пределах.
Россия: место, где равнина бесконечна.
Россия: место, где встречаются Восток и Запад.
Россия: пограничная земля.
Здесь, где начинается Россия, северная граница необозримой равнины постепенно вздымается кверху, по направлению к Северному Ледовитому океану. В этих северных краях берет начало величайший лес всего мира — холодное, темное царство хвойных деревьев, именуемое тайгой, которое простирается на тысячи километров до берегов Тихого океана. Середину равнины занимает гигантский смешанный лес. А на юге начинается бесконечная, поросшая травой степь, и в этом месте она не обрывается на юге пустыней или горным кряжем, а выходит на приветное, солнечное побережье, подобное средиземноморскому.
Ибо южную границу центральной части России образует теплое Черное море.
Черное море, расположенное, так сказать, над восточной оконечностью Средиземного, напоминает закрытый сосуд. Мощная гряда южных гор охватывает его, подобно огромной плотине: на юго-западе его обнимают Балканы, на юге — горы современной Турции, на юго-востоке — устремляющийся в вышину Кавказ. Между Балканами и турецкими горами пролегает узкий пролив, соединяющий Черное море с его более могучим и полноводным соседом. В своей черноморской части этот пролив называется Босфором, а в южной — Дарданеллами.
Море это имеет внушительные размеры и простирается примерно на девятьсот семьдесят километров с запада на восток и шестьсот пятьдесят километров — с севера на юг. В него впадают бесчисленные реки, среди них, на западе, к северу от Греции, — величественный Дунай. В водах этого моря содержатся следы серы, и потому, быть может, оно когда-то и было наречено Черным.
Посреди северного, русского берега далеко в теплые воды моря вдается напоминающий своими очертаниями плоского ската или камбалу широкий полуостров. Это Крым. По обеим его сторонам, разделенные почти шестьюстами пятьюдесятью километрами, из далеких лесов по степи вливаются в Черное море две гигантские реки. На западном берегу — это широкая река Днепр, на восточном — могучий Дон.
Таким образом, между двумя этими речными системами, Днепром и Доном, начиная от Причерноморской степи и до северных лесов, раскинулась гигантская, древняя, исконная Русь.
Россия: пограничная земля.
Ибо великая равнина не кончается, а простирается и простирается все дальше и дальше, уходя даже на восток. На ее южной границе, к востоку от Черного моря, гигантская гряда Кавказских гор протянулась еще на девятьсот семьдесят километров. Знаменитый своими винами и своими воинами — грузинами, армянами и многими другими — Кавказ с его сияющими пиками на сотни метров возвышается над любыми вершинами Альп и Скалистых гор.
Естественной границей Кавказа служит любопытный природный феномен: второе из двух морей, окруженных полумесяцем горной гряды с юга. Оно имеет гигантские размеры, простирается с севера на юг, своей формой примерно напоминает полуостров Флорида, но по длине превосходит его в два раза — и горный кряж огромным полумесяцем отвесно спускается книзу, охватывая его своими уступами, точно петлей. Это Каспийское море.
С научной точки зрения — это самое большое в мире озеро, ведь стока из него нет. Его окружают степь, горы и пустыня, его вода убывает, испаряясь в воздухе пустыни. А на северном берегу его питает самая известная река России.
Волга-матушка.
Свое великое странствие начинает она далеко-далеко, в заповедных лесах, в самом сердце России. Там русло ее описывает гигантский изгиб, прорезая уединенные северные леса, а потом поворачивает к югу; так, объяв и напитав собой исконные русские северные земли, река делает поворот и несет свои воды по Евразийской равнине на восток, а потом и на юг, и наконец медленно течет дальше, из леса, по волнуемой ветром степи к далеким пустынным берегам Каспийского моря.
Но и за пределами волжской дельты великая равнина все тянется и тянется, постепенно делаясь все более и более негостеприимной. На юге простерлись ужасные пустыни. На севере властвуют темная тайга и вечная мерзлота, в конце концов подчиняя себе всю равнину. До сего дня эти огромные земли остаются почти необитаемыми. За Волгу, через Урал, по ледяным пустыням Сибири, к далекому Тихому океану — равнина тянется более чем на четыре с половиной тысячи километров.
А где же находилась деревня с ее речкой и лесом?
Нетрудно сказать. Она располагалась на окраине южнорусской степи, в нескольких десятках верст к востоку от великой реки Днепр и примерно в пятистах верстах от устья этого великого потока в северо-западной части теплого Черного моря.
Однако, сколь ни странным это может показаться, если бы какой-нибудь чужеземец в то время спросил, как добраться до данного места, едва ли нашелся бы хоть кто-нибудь, кто сумел бы ему это объяснить.
Ибо Государство Российское в ту пору еще не существовало. Древние цивилизации Востока: Китай, Индия, Персия, — находились далеко-далеко, к югу от мощной горной гряды, образующей южную границу равнины. В глазах китайцев, индийцев и персиян пустынная равнина была бесплодной землей.
На западе могущественная Римская империя распространила свое влияние на средиземноморское побережье и даже далеко на север, вплоть до Британии. Однако римляне остановились на опушке тех лесов на востоке, что росли на великой Евразийской равнине.
Ибо что знали римляне о лесе? Лишь то, что к востоку от Рейна обитают воинственные германские племена, а к северу от Балтийского моря — балты, летты, эсты, литва, о которых доходили до римлян только смутные слухи. Этим все и исчерпывалось. О славянских землях, раскинувшихся за владениями германцев, они знали мало, а о финно-угорских народах, обитавших в обширных лесах за Волгой, — совсем ничего. О тюркских и монгольских племенах, которые жили в сердце неизмеримой, необъятной Сибири, за лесом, и слыхом не слыхивали, ни одна весть о них, даже переданная едва слышным шепотом, не проникала из бесконечной степи.
А что знал о степи Рим? Нельзя отрицать, что в Восточном Средиземноморье Рим вторгся даже в пределы Армении, в отроги Кавказских гор; много лет были знакомы Риму маленькие порты на северном побережье Черного моря, куда его корабли приходили за мехами или рабами из внутренних районов этих земель или затем, чтобы встретить караваны, побывавшие на таинственном Востоке и пересекшие ради того пустыню. Но гигантская равнина, лежавшая позади этих небольших гаваней или армянских земель, оставалась для римлян terra incognita — неизвестными краями, населенными варварами, полной опасностей степью, непроходимыми реками. Составленные Геродотом, Птолемеем, Плинием карты классической древности с их детально показанными городами, дорогами и границами начинали полагаться на слухи или обрывались, не успев даже приблизиться к маленькой деревушке.
Да и сами ее жители не могли бы объяснить, где их дом.
Даже сегодня, повергая в замешательство иностранцев, россияне с трудом могут указать нужное направление. Спросите, проходит ли дорога на восток или на запад, на север или на юг и на сколько километров — и русский не сумеет дать ответ. Да и зачем ему это на бескрайней равнине, где один бесконечный горизонт сменяет другой, столь же бесконечный?
Однако он может сказать вам, как текут реки.
Потому-то и жители крохотной деревушки знали, что их маленькая речка впадает в другую маленькую речку, а та спустя непродолжительное время впадает в могучий Днепр. Они знали, что где-то далеко, за южной степью, Днепр впадает в море.
Но только это они и знали. Лишь пятеро из них видели Днепр.
Не желая погрешить против истины и стремясь верно передать тогдашнее положение вещей, мы не можем говорить о России, еще не существовавшей в ту пору; не в силах мы и указать ориентиры, по которым можно было бы определить таковое положение. Мы можем сказать лишь, что деревушка эта находилась на землях к северу от Черного моря, где-то к востоку от реки Днепр и к западу от реки Дон; немного восточнее леса и немного западнее степи; на одной из тысяч рек, не нанесенных ни на какую карту. Едва ли кто-то смог бы сообщить более точные сведения, да и кому было здесь до них дело?
Ветер пролетал над землей, едва касаясь, и летняя ночь опустилась над бескрайним пространством. На западной окраине великой равнины сгущались сумерки. Здесь, в южной деревушке, сияла звездами полночь, хотя дальше, к северу, ближе к полярным широтам, все еще не рассеялся бледный сумрак. На востоке, возле Уральских гор, час был самый ранний, стояла глубокая ночь. В Центральной Сибири занимался рассвет; на берегах Тихого океана утро вступило в свои права, а еще дальше, на северо-восточной оконечности огромного массива суши напротив Аляски, уже настал полдень. Ночью над бескрайней равниной могли бушевать грозы, проливаться дожди, неистовствовать ураганы, и никто их не замечал. В паре тысяч верст к северу от деревушки над лесом разразилась гроза с громом и молнией, но здесь царила тишина. И неужели хоть кто-то знал, какие грозовые облака проносились над лесными чащобами, какие шатры разбивали в степи, какие огни горели на бескрайней равнине в бесчисленных чертогах ночи?
Маленький мальчик проснулся с улыбкой.
Ветер задувал в избу, солнечный свет, проникнув сквозь квадратный оконный проем, большим бледным четырехугольником лежал на земляном полу.
— Уже проснулся, ягодка моя?
Она подошла к полатям, где спал ребенок, приблизив к нему широкое лицо. Позади нее в горнице суетились люди. В одном углу висела на длинном деревянном крюке, прикрепленном к стропилам, колыбель с младенцем.
Горница была просторная. Стены ее, глиняные, на деревянном каркасе, были грязно-серого цвета. Такой оттенок они, как и во всех остальных избах этой деревушки, приобрели из-за того, что в домике с длинной дерновой крышей не было дымохода: дым из большой печи невозбранно заполнял горницу, и только потом его выпускали, подняв ставень над маленьким отверстием в потолке. Таким образом, помещение быстро нагревалось, а его обитателям закопченные стены представлялись чем-то давно знакомым и желанным. Однако сегодня огонь в печи не разожгли. Воздух в горнице был чист и прозрачен, царила приятная прохлада.
В избе были еще два помещения: за печью — сени, через которые попадали в горницу, а с противоположной от сеней стороны — еще одна каморка, служившая одновременно мастерской и клетью. Здесь стоял ткацкий станок, всевозможные бочонки, лежали мотыги, серпы, а на стене, на почетном месте, висел топор, принадлежащий хозяину дома. Вся изба, выстроенная на дубовых сваях, вершков на десять была вкопана в землю, и потому, чтобы выйти наружу, приходилось выбираться, как из неглубокой ямы.
Мать умыла мальчика водой из бурого глиняного кувшина. Он не отрываясь смотрел мимо нее на полосу сияющего солнечного света, простершуюся на полу.
Но думал он при этом о чем-то другом.
Она улыбнулась, заметив, как завороженно глядит он на залитый солнцем пол.
— Как мы говорим про солнечный свет? — тихо спросила она.
— Придет в дом — не выгонишь колом. Пора придет — сам уйдет, — послушно произнес нараспев он.
Он посмотрел в окно. Ветер шевелил его светлые волосы.
— А как говорим о ветре?
— Без рук, без ног, а дверь отворяет.
Он уже выучил наизусть с десяток таких речений. Женщина знала сотни простеньких, непритязательных загадок, присказок, присловий, поговорок, пословиц — вроде тех, где солнечный свет сравнивался с непрошеным гостем, а ветер — с невидимым пришельцем. Во всех этих бесчисленных изречениях народ с восторгом предавался словесной игре, творя и обогащая свой язык.
Через мгновение она его отпустит. Он просто изнывал, так ему хотелось выбежать за дверь и посмотреть, вдруг медвежонок уже здесь?
Она быстро заглянула ему в рот. У него недавно выпали два молочных зуба, но на их месте выросли новые. Еще один шатался, но пока ни один больше не выпал.
— Полон хлевец белых овец, — блаженно пробормотала она.
А потом отпустила его.
Он бросился к двери, пробежал через сени и выскочил наружу.
Напротив избы был разбит крохотный огород, где накануне он помогал матери вытаскивать большую репу. Справа крестьянин укладывал сельскохозяйственные орудия на старую деревянную телегу с мощными колесами, выточенными из одного куска дерева. Слева, немного подальше, у реки виднелась маленькая баня. Она была построена всего три года тому назад и предназначалась не нынешним обитателям деревни, у которых была своя баня, побольше, а предкам. В конце концов, маленький Кий знал, что мертвые любят попариться не меньше живых, даже если увидеть их невозможно. Всю его коротенькую жизнь ему только и твердили, что предки гневаются, если не получают положенного почета и внимания.
— Ты же не хочешь, чтобы о тебе забыли, когда ты уйдешь, ведь правда? — спросила его одна из жен его отца, и он подумал, что конечно же не хочет, чтобы о нем забыли и чтобы самый образ его изгладился из памяти его односельчан и канул в небытие.
Он знал, что мертвые рядом, что они следят за ним, и точно так же знал, что под углом амбара, стоящего перед домом старейшины, жил крохотный, сморщенный деревенский домовой, дедушка его собственного отца, и что домовой, дух его прадеда, принимал самое деятельное участие во всем, что происходило в деревне.
Он вышел из избы. Ничего. Он посмотрел налево, посмотрел направо. Бани и хижины, все как всегда, ни следа медвежонка. Лицо у него тотчас же вытянулось от досады, он и поверить не мог, что его так обманут, разве не видел он ночью, как Мал со стариком, крадучись, выходят из деревни?
Крестьянин, грузивший вещи на телегу, брат одной из его мачех, обернулся и посмотрел на него:
— Тебе чего, мальчик?
— Ничего, дядюшка.
Он знал, что тайну никому выдавать нельзя.
Желудок у него словно налился холодной свинцовой тяжестью, безмятежное голубое утреннее небо помрачнело. Он хотел было расплакаться, чувствуя, что плач принесет облегчение, но, помня, что Мал взял с него клятву молчать, не дал воли слезам, а, закусив губу, повернулся и с грустью ушел назад в избу.
Там его бабушка бранила за что-то женщин, но он уже привык к таким сценам. Его взгляд упал на бубен его матери, висящий в углу; бубен был покрашен красной краской. Он любил красное; красный цвет представлялся ему теплым и дружелюбным, ведь в славянском языке «красный» и «красивый» — однокоренные слова. Кий не отрываясь глядел на грубое лицо своей бабушки: какие у нее большие щеки, ни дать ни взять два куска сала. Она заметила, что внук на нее смотрит, и в свою очередь злобно уставилась на него, а потом велела матери вывести его из избы прочь, мол, нечего тут путаться под ногами.
— Иди поиграй, Кийчик, — ласково сказала мать.
Он снова вышел из избы и тут увидел Мала.
Для Мала ночь выдалась неудачной. Вместе с одним охотником постарше он поставил в лесу ловушку на медвежонка, и им почти посчастливилось. Он поймал бы медвежонка, если бы в последнюю минуту не потерял голову: сделал неловкое движение — и разгневанная медведица-мать бросилась за ним и прогнала. Стоило Малу вспомнить про свой позор — и он невольно багровел от стыда.
Сегодня он собрался помочь мужчинам убрать сено, то есть заслужить одобрение старейшины тяжелым трудом и избежать неприятных разговоров с Кием.
Мальчик и в мыслях не держал, что его дядя спешит мимо избы, лишь бы не вести никаких лишних бесед. Он подскочил к Малу и выжидательно воззрился на него снизу вверх, закинув голову.
Мал с виноватым видом посмотрел налево, потом направо. К счастью, его односельчанин, нагружавший телегу, куда-то отлучился, и они остались одни.
— Ты привел его? Где он? — воскликнул Кий.
Стоило ему завидеть дядю, как надежда снова ожила.
Мал помедлил и ответил уклончиво:
— Он в лесу.
— А когда ты приведешь его сюда? Сегодня? — Глаза у мальчика засияли от восторга.
— Скоро. Как зима наступит.
Мальчик помрачнел от недоумения и разочарования. Зимой? До зимы еще жить да жить...
— Почему зимой?
Мал минуту подумал.
— Я его поймал, накинул ему на шею веревку и так вел, Кийчик; но тут налетел ветер и унес его. Я ничего и поделать не мог.
— Ветер?
Лицо у малыша словно осунулось. Он знал, что ветер — древнейшее из всех божеств. Его дядя частенько говаривал ему: «Бог солнца велик, Кий, но ветер — древнее и могущественнее». Ветер дул днем и ночью, когда солнце уходило на покой. Ветер дул над бескрайней равниной, когда ему заблагорассудится.
— А где он сейчас?
— Далеко-далеко, в лесу.
Ребенок слушал его со скорбным видом.
— Но снегурки приведут его назад, — продолжал дядя, — вот увидишь.
Ну почему он лгал? Он смотрел сверху вниз на своего доверчивого племянника и отлично понимал почему. По той же причине, по какой поселился с двумя стариками и ослушался деревенского старейшину. А все оттого, что все его презирали, и, еще хуже, оттого, что ему было стыдно. Вот и не смог сказать он правду мальчишке, который так ждал обещанного медвежонка. «Я глуп и ни на что не годен», — подумал Мал. Да еще и лентяй к тому же. Собирался же весь день до седьмого пота работать в поле, но сейчас больше всего ему хотелось убежать назад в лес, лишь бы не признаваться себе, что он обманщик и бездельник. Прежняя решимость покидала его.
Однако, возможно, еще оставалась надежда.
— Но я знаю, где ветер его прячет, — добавил он.
— Правда? Правда знаешь? — Лицо Кия озарилось радостью. — Расскажи мне!
— Глубоко-глубоко в чаще лесной, в тридевятом царстве.
— А можно туда попасть?
— Только если знать дорогу.
— А ты знаешь? — Само собой, опытный охотник вроде дяди знает дорогу даже в волшебные края. — Как туда добраться?
— Идти на восток, — усмехнулся Мал. — Далеко-далеко на восток. Но я туда и за день доберусь, — похвастался он и на мгновение сам в это поверил.
— Тогда ты его приведешь? — взмолился мальчик.
— Может быть. Когда-нибудь, — посерьезнел Мал. — Но это наша с тобой тайна. Никому ни слова.
Мальчик кивнул.
Мал двинулся дальше, радуясь, что покончено с этим тягостным разговором. Может быть, через несколько дней он придумает, как половчее поставить другую ловушку на медвежонка. Не хотелось огорчать мальчика, ведь тот ему доверял. Уж найдется, как помочь делу.
Мал приободрился. Сегодня будет славная работа в поле.
Кий, задумавшись, тоскливо смотрел ему вслед. Он слышал, как женщины смеются над его дядей Малом, как мужчины его бранят. Он знал, что в деревне Мала величают лентяем. Неужели дяде и вправду нельзя доверять? Кий поднял глаза к бескрайнему, пустому небу, не зная, что и поделать.
Женщины расположились на золотистом поле широким клином вроде того, что образует в летнем небе стайка диких утиц.
В «острие» клина, сопровождаемая с обеих сторон мерно выступающими женщинами, высокая и крупная, шла свекровь Лебеди. Жена деревенского старейшины умерла прошлой зимой, и потому она теперь считалась старшей женщиной селения.
День выдался жаркий. Они работали уже несколько часов, и время клонилось к полудню. В жатву женщины одевались в одни только простые платья, наподобие льняных рубах, да лапти, плетенные из березового луба. Каждая несла серп.
Лебедь обливалась потом, но на душе у нее царил покой, вселяемый равномерным ритмом монотонной полевой работы под солнцем. Хоть иногда эти женщины обращались с нею пренебрежительно, все они в каком-то смысле приходились ей родней: другая жена мужа, сестра другой жены, сестры мужа и их дочери, тетки и двоюродные сестры этих дочерей. Каждую полагалось называть особым, неповторимым именем, выражавшим сложную степень этого родства и надлежащую меру почтения, да еще использовать это имя в уменьшительной форме, столь любимой всеми славянами, и потому эти имена превращались в ласкательные обозначения: «матушка», «сестрица», «золовушка», — да и как еще обращаться друг к другу этим бедным, слабым существам, затерянным на огромной, бескрайней равнине?
Это были ее родичи. Пусть они и называли ее мордовкой, она была одной из них. Она была частью общины — рода, как говорили славяне юга, или мира — так называли общину славяне севера. Землей и деревней они владели сообща, лишь домашний скарб каждого общинника считался его собственностью, а голос старейшины был для них законом.
Теперь свекровь призывала к себе женщин, величая их ласковыми, нежными именами. «Идите ко мне, доченьки, идите, лебедушки, — призывала она, — давайте жать». Даже Лебедь она мягко окликнула: «Пойдем, невестушка».
По-своему Лебедь любила даже свою бранчливую свекровь. «Ешь, что дают, слушай, что говорят», — строго поучала ее старуха. Но если оставить в стороне ее вспышки ярости, иногда она бывала и добра к невестке.
Лебедь оглянулась. Позади нее муж вместе с другими мужчинами взваливал сено на телеги, стоящие посреди луга. Она заметила среди них и брата. На краю поля тихо отдыхали три самые древние деревенские старухи. Она поискала взглядом Кия. Только что он сидел рядом со старухами, но, может быть, пошел посмотреть, что делают мужчины.
Высоко стоит солнце светлое,
Не спалит оно землю-матушку.
Женщины запели и взмахнули серпами, еще раз склонившись, словно творя молитву величайшей богине, что даровала всем им хлеб, — матери сырой земле.
Великая славянская богиня явилась здесь в своем прекраснейшем облике, ведь деревушка лежала на окраине местности с лучшей почвой, какую только можно было найти на великой равнине, — черноземом.
Подобной земли не сыскать было на всей Евразийской равнине.
На севере, южнее тундры, залегал торфяной глей, малопригодный для земледелия; дальше, южнее лесов, почва представляла собой песчаный подзол, серый там, где произрастали северные лиственные леса, и бурый южнее, где шелестели широкой листвой высокие деревья. На таких почвах урожаи тоже собирали довольно скудные. Однако ближе к степному поясу появлялась совсем другая почва. Это был чернозем, жирный, плодородный и мягкий как пух. И тянулся этот черноземный пояс на сотни и сотни верст — от восточного побережья Черного моря, на восток по равнине, за великую реку Волгу, и уходил далеко в земли Сибири. Славянам, жившим на опушке леса, достаточно было расчистить землю под поле, а потом постоянно ее засевать: на этой плодородной черной земле они могли растить хлеб много лет, пока не истощится почва, и тогда они оставляли поле, которое постепенно зарастало травой, и расчищали другое. Такой способ земледелия был примитивным и утомительным, но на черноземе деревня могла существовать много-много лет, людям не приходилось переезжать на свежие пахотные земли. А потом, к чему волноваться — разве и лес, и равнины не бесконечны?
Как раз когда женщины замолчали, допев одну песню и еще не затянув другую, она увидела, что к ним идет Мал. Красное лицо его поблескивало от пота.
— Что, лентяй, еще работку ищешь? — насмешливо крикнула одна из ее товарок. Даже свекровь рассмеялась, и сама Лебедь невольно улыбнулась. По немного виноватому выражению его лица было понятно, что он под каким-то предлогом потихоньку отлучился отдохнуть. Ее только удивило, что маленький Кий не пришел вместе с ним.
— А где Кийчик? — спросила она.
— Не знаю. Утром я его и не видал ни разу.
Она нахмурилась. Куда же запропастился мальчишка? Она обернулась и крикнула свекрови:
— Можно мне уйти поискать Кия? Он куда-то пропал.
Дородная старуха, почти не прерывая жатвы, бесстрастно взглянула на Лебедь и ее ни на что не годного братца. Потом покачала головой, мол, работа не ждет.
— Сходи спроси у старух, не видели ли они его, — тихо пробормотала она Малу.
— Хорошо.
И он послушно зашагал — размеренно, не торопясь — к краю поля.
Мал всегда забавлялся, сравнивая житье-бытье сельчан. Век мужчине выдавался, может быть, и насыщеннее, но короче. Рос парень и набирался сил — при этом либо худел, либо полнел. А когда силы покидали мужчину, тот попросту умирал. Но женщинам была уготована другая доля. Сначала, белокожие и стройные, грациозные как лани, они расцветали, а потом, все без исключения, толстели: сперва раздавались в бедрах, как его сестра, затем в поясе, выпуклым становился живот. И так неизменно все тучнели и округлялись, загорелые от солнца, напоминая формами кто грушу, кто яблоко, год за годом, пока те из них, что повыше ростом, не обретали величественности и дородности — как вот свекровь Лебеди. Но постепенно, не утрачивая своей уютной округлости, начинали жены умаляться, все уменьшаясь и уменьшаясь в размерах, и вот в старости окончательно усыхали, словно маленькое коричневое ядрышко в ореховой скорлупке. И вот сухонькая бабка, с морщинистым загорелым лицом и сияющими голубыми глазами, будет влачить старушечье свое существование еще много лет, пока так же просто, как упавший с ветки орех, не канет в сырую землю. Такова судьба всех женщин. Настигнет она, в конце концов и его сестрицу Лебедь. Глядя на старух, Мал всегда ощущал нежность и сочувствие.
На краю поля сидели рядком три бабушки. С доброй улыбкой он по очереди обратился к каждой из них.
Лебедь смотрела издали, как он говорит с ними, и удивлялась, почему так долго. Наконец он вернулся, ухмыляясь.
— Старые они, — пояснил он, — разум у них немного помутился. Одна говорит, вроде видела, как он возвращался в деревню вместе с другими ребятишками, другая думала, он на реку пошел, а третья — что в лес убежал.
Лебедь вздохнула. Она и представить себе не могла, что бы это Кию делать в лесу, и сомневалась, что он мог уйти на реку. Остальные дети вернулись в избу под надзор одной из девиц. Может быть, и он с ними.
— Сходи посмотри, не убежал ли он в деревню, — попросила она.
А поскольку это означало отложить работу, Мал с радостью зашагал прочь.
За жатвой женщины продолжали петь. Лебедь любила эту песню: пусть даже медлительная и скорбная, она была так прекрасна, что, напевая ее, женщина забывала о своих тревогах:
А кто землю пашет,
Тот в нее и ляжет,
Смерть придет-нагрянет,
Лиха неминуча.
Ни огонь, ни вода,
Ни залетные ветра,
Только мать сыра земля
Приберет свое дитя.
Женщины медленно продвигались вперед длинной чередой, нагибаясь, чтобы срезать тяжелые ячменные колосья. Когда их серпы рассекали буреющие стебли, над полем слышался тихий свист, шуршание и шелест. Тонкая пыль от упавшего ячменя стояла над землей легким, благоуханным облачком. И Лебедь, как это часто бывало, охватило чувство умиротворения и одновременно печали, словно какая-то часть ее души погибла навеки, не в силах вырваться из плена этой медлительной, тяжелой жизни, из великого безмолвия бескрайней равнины: печаль она ощущала оттого, что из монотонного, однообразного этого бытия не было исхода, а умиротворение — оттого, что пребывала среди своих родичей и жила так, как всем от века назначено.
Мал вернулся не скоро. Он улыбался обычной своей глуповатой улыбкой, но ей показалось, что она заметила в глазах его тревогу.
— Он там?
— Нет. В деревне его и не видели.
Как странно! Она-то решила, что Кий ушел с остальными, и тут забеспокоилась. Она снова обратилась к свекрови:
— Кийчик куда-то запропастился. Позволь мне пойти его поискать.
Но старуха только взглянула на нее не без презрения:
— Дети вечно куда-то пропадают. Придет, никуда не денется.
А потом добавила, уже более злобно:
— Пусть твой братец его поищет, что ж ему без дела-то маяться.
Лебедь с грустью наклонила голову.
— Сходи на реку, вдруг он туда убежал, — попросила она.
На сей раз она заметила, что брат зашагал быстрее.
Работа двигалась споро. Женщина знала, что вот-вот наступит время полуденного отдыха. И подозревала, что ее свекровь нарочно задерживает их и не пускает отдохнуть, чтобы никуда она, Лебедь, не ушла. Она оторвалась от работы, подняла голову и устремила взгляд на бесконечный горизонт. Теперь он словно издевался над нею — насмешливо, под стать ее свекрови: «Ничего ты не сделаешь; как боги распорядятся, так и будет». Она снова склонилась над полосой.
На сей раз Мал вернулся быстро. Вид у него был обеспокоенный.
— Нет его на реке.
— Ты уверен?
Он-де столкнулся со стариком, вместе с которым ходит на охоту, и тот все утро пробыл на берегу реки. Уж точно старик бы заметил Кия, если бы он там объявился.
Она почувствовала укол страха.
— Думаю, он ушел в лес, — предположил Мал.
В лес. Он никогда не забредал туда один, только с нею. Она в ужасе уставилась на брата:
— Что ему там делать?
— В толк не возьму.
Он явно лукавил, но было ясно: выспрашивать, почему он обманывает, не стоит.
— В какую сторону он мог пойти?
Мал задумался. Он вспомнил, как опрометчиво сказал мальчику этим утром: «Как туда добраться? Идти на восток. Далеко-далеко на восток. Но я туда и за день доберусь».
— Может быть, он на восток пошел, — покраснев, произнес Мал. — Куда — я и сам точно не знаю.
Она бросила на него презрительный взгляд:
— На, возьми. — Она сунула ему в руки серп. — Жни! — приказала она.
— Да это ведь бабья работа, — запротестовал он.
— Жни знай, дурак! — закричала она на него и зашагала к свекрови, а ее товарки, видевшие эту сцену, расхохотались. — Отпусти меня Кия искать! — снова взмолилась она. — Мой брат отправил его в лес!
Ее свекровь поначалу даже не удостоила ее взглядом, но посмотрела на дальний конец поля. Мужчины там прервали работу, и несколько из них, включая мужа Лебеди и деревенского старейшину, шли по направлению к ним.
— Пора роздыху! — объявила она женщинам, а потом бросила Лебеди: — Можешь идти!
Когда к ним подошли муж и старейшина, Лебедь кратко объяснила им, в чем дело. Старейшина, крупный, седобородый человек с маленькими глазками, в которых словно навеки поселилось нетерпение, не выказал особого сочувствия. Но ее муж, более мягкий и участливый, озабоченно наморщил лоб. Он вопросительно взглянул на старейшину:
— А не пойти ли и мне тоже?
— Мальчишка объявится. Не мог он уйти далеко. Пусть она его ищет, — произнес старейшина скучающим тоном.
Она заметила, как на лице мужа на миг изобразилось облегчение. Она все понимала и не винила его, ведь ему надо было позаботиться о других женах и детях.
— Я пойду, — тихо сказала она.
— Если не вернешься после роздыха, я сам за тобой пойду, — с улыбкой пообещал муж.
Она кивнула и отправилась на поиски.
Как же приятно, как покойно было в лесах! В вышине, в сияющем голубом небе время от времени проплывали пышные белоснежные облака, поблескивая в лучах полуденного солнца. Они пришли с востока, из-за зеленого леса, из неизвестно каких бескрайних, исстрадавшихся без влаги степей. На опушке леса, по которой шагал мальчик, ветер нежно наклонял высокие травы, и они шелестели под его дуновением, словно перешептываясь. С полдюжины коров паслись в тени, то тут, то там перебиваемой солнцем.
Прошло уже немало времени с тех пор, как Кий ускользнул от старух. Сейчас он весело шагал по знакомой тропинке, которая вела в чащу. Опасности он не чувствовал.
Все утро он размышлял о медвежонке. Его дяде Малу было точно известно, где тот прячется — в сказочном царстве далеко-далеко на востоке. И разве он не сказал, что добраться туда может за день? Но Кий, как бы мал он ни был, отчего-то точно знал, что дядя его туда не пойдет. И чем дольше он об этом раздумывал, тем больше убеждался, что знает, как поступить.
По мере того как долгим утром становилось теплее, поле, на котором работали женщины, все сильнее мерцало от жары. Кий бродил без цели туда-сюда, вялый и ко всему равнодушный, пока наконец, как в тумане, словно следуя мановению чьей-то невидимой руки, не побрел прочь и не обнаружил, что шагает в сторону лесов.
Он знал дорогу. «На восток» означало двигаться от реки по тропинке, по которой мать и другие женщины ходили за грибами. А придет время, и снова все отправятся по этой тропинке — по ягоды. Именно с востока приплывали белые облака.
Он не знал, долго ли ему идти; но если его дядя мог добраться туда за день, то и ему это было под силу.
«Ну, может быть, за два дня», — храбро подумал он.
И вот, в белой рубахе, перехваченной полотняным поясом, в лаптях из березового луба, все еще сжимая в кулачке ячменный колос, сорванный на поле, маленький пухленький мальчик двинулся по тропинке в сосновый лес с детской мечтательной решимостью.
Примерно в двухстах саженях тянулись чередой маленькие полянки, куда женщины ходили за грибами, — в укромной тени росли грибки целыми россыпями, — и Кий довольно улыбнулся, дойдя до этого места. Дальше грибных полян он никогда не заходил, но теперь уверенно углубился в лес.
Узенькая тропинка вела вниз по склону, то по опавшей сосновой хвое, то по узловатым корням, а потом вновь шла в гору, сквозь подлесок. Он заметил, что среди дубов и буков сосны стали попадаться реже, зато начали встречаться ясени. Белки опасливо следили за ним с деревьев. Одна, у самой тропинки, хотела было скакнуть прочь, но передумала и вместо этого принялась внимательно разглядывать его, сидя на задних лапках и похрустывая какой-то беличьей снедью. Через некоторое время лес поредел. Все шорохи и шелесты словно бы затихли. Тропинка здесь заросла травой. Еще несколько саженей — и тропинка повернула направо, потом налево. Показалась еще одна небольшая сосновая рощица.
Маленький Кий блаженствовал. Его переполнял восторг: ведь он решился на подвиг и проник в неведомые земли.
Он прошел немногим более половины версты, когда тропинка сузилась, заведя его под густую лиственную завесу. Мальчик стал пробираться дальше, и деревья сомкнулись у него за спиной, потянуло сырой прелью.
И тут прямо перед ним внезапно блеснуло темное озерцо.
Было оно невелико, примерно десяти аршинов в ширину и тридцати в длину, и все окружено деревьями. Ничто не тревожило поверхности водоема. Однако, пока мальчик разглядывал водную гладь, слабое дуновение ветра подняло на воде едва заметную рябь. Набежавшая волна устремилась к ребенку и с чуть слышным плеском лизнула берег, черную землю и заросли папоротника.
Кий знал, что это значит. Он осторожно оглядел заводь и ее окрестности.
Наверняка тут обитают русалки, и, если не остеречься, того и гляди выплывут из глубины и защекочут до смерти. «Берегись русалок, Кий, — шутливо предупреждала его мать, — ты такой смешливый, оглянуться не успеешь, как они тебя на дно уволокут!»
Не спуская глаз с поверхности воды, мальчик стал обходить опасный омут и очень обрадовался, когда тропинка повела его прочь от обиталища русалок. Вскоре густой лес сменился дубовой рощей. Тропинка вилась между деревьями, пока не вывела его на большую пустую поляну. Справа виднелась купа берез. Кий остановился.
Какая тишина вокруг! А над ним — высокое голубое небо, пустое и безмолвное. В какую же сторону ему идти?
Он подождал несколько мгновений, пока над поляной не проплыло облако. Кий внимательно проводил его взглядом, пытаясь понять, куда его уносит.
Путь на восток лежал прямо перед ним. Он снова зашагал.
И тут ему впервые захотелось, чтобы кто-то пошел вместе с ним. Несколько раз он окидывал взглядом поляну, надеясь, что мать его нагонит. Ему казалось совершенно естественным, что она должна внезапно появиться рядом с ним. Но она не показывалась.
Он снова углубился в лес. Тропинка исчезла; на короткой траве под буками, кажется, не протоптали дорожек ни люди, ни звери. Лес был пуст, и это было странным. Он замер в растерянности. Не повернуть ли ему назад? Знакомое поле и реку он словно бы оставил позади давным-давно. Неожиданно ему очень захотелось обратно, домой. Но тут же вспомнился тихий омут, мимо которого ему предстоит пройти, а там стерегут его русалки.
Деревья теперь росли тесно; пугающие и неприступные, они уходили ввысь и закрывали небо, так что в просветах между древесными кронами едва виднелись крохотные участки голубизны, словно гигантскую голубую чашу неба грубо разбили на тысячи осколков. Кий поднял глаза к этим голубым осколкам и снова помедлил. Но как же медвежонок? Нет, он не сдастся. Маленький мальчик закусил губу и двинулся вперед.
И тут ему почудилось, будто услышал он матушкин голос:
«Кий, мальчик мой, — казалось, позвала она его, и слова ее негромким эхом разнеслись по чаще. — Кий, ягодка моя!» Она умоляла его вернуться. Личико ребенка озарилось улыбкой: а вот она, матушка. Он обернулся.
Но ее за спиной не было. Он прислушался, уже сам позвал ее, еще раз прислушался.
Его окружало безмолвие. Слегка подул ветер, листья зашелестели, верхние ветви неуклюже закачались. А что, если это не она звала его, а всего-навсего стонал ветер? Или это дразнят его русалки, живущие в омуте?
Он печально побрел дальше.
По временам тоненький луч солнца, проникая сверху, поблескивал в светлых волосах ребенка, прокладывавшего себе путь по лесу, под высокими деревьями. Иногда ему мнилось, будто за ним следят чужие глаза, а вдали, в глубокой тени, притаились и подстерегают его странные существа, безмолвные, бурые и серые; но как ни оглядывался он, как ни озирался, ничего не мог приметить.
Но в следующий миг он чуть было не бросился назад.
Ведь, когда он в очередной раз остановился, всматриваясь в полутьму и пытаясь понять, что же там мелькнуло, внезапно над головой его раздался громкий, хриплый, зловещий крик, а когда он обернулся в ужасе, темная тень обрушилась сквозь листву в вышине у него над головой.
— Баба-яга! — вне себя от страха вскрикнул он.
Что ж, было чего пугаться. Все дети боялись ведьмы Бабы-яги. Того и гляди прилетит по небу в ступе с помелом, схватит длинными тощими руками, вцепится когтями, утащит всех без разбора, мальчиков и девочек, унесет к себе в избушку на курьих ножках и съест. Того и гляди... В ужасе, как завороженный, он глаз не мог отвести от страшного зрелища.
Но оказалось, что это всего-навсего птица. Шумно хлопая крыльями, камнем упала она сквозь листву, ломая ветви в вышине.
Но потрясение оказалось невыносимым. Мальчика охватила дрожь. Он расплакался, сел на землю и стал снова и снова громко звать мать. Однако мгновения тянулись, долгие и безмолвные, ничто не нарушало покоя лесной чащи, и он замолчал и постепенно успокоился.
Это была всего-навсего птица. Что часто повторял ему дядя? «Охотнику в лесу бояться нечего, Кий, если он осторожен. Только детям и женщинам в лесу бывает страшно». Он медленно встал и нерешительно побрел дальше, сквозь темный лес.
И только спустя некоторое время он заметил, что слева открывается вид на иную местность, где деревья росли не так густо, а свет легче пробивался сквозь древесные кроны. Вскоре Кию показалось, что этот новый лес озарился золотистым сиянием, и, привлеченный этим сказочным светом, он стал пробираться к нему через чащу.
Там было теплее. Верхушки деревьев уже не уходили в поднебесье. Ноги утопали в сочной высокой траве. Попадались кочки, поросшие мхом. Он ощутил прикосновение жаркого солнца к своему лицу, услышал жужжание мух и почувствовал, как его укусил крохотный комарик. На душе у него сделалось светлее. Из-под ног у него метнулась малюсенькая зеленая ящерка и исчезла в траве.
Он так обрадовался, попав в это приветное место, что сперва даже не замечал, в какую сторону идет.
На самом деле, сам того не ведая, Кий шел уже почти час, и время приближалось к полудню. Он по-прежнему не ощущал ни голода, ни жажды, а от радости, что выбрался из темного леса, позабыл об усталости. Оглядываясь, он теперь уже не различал темного леса; более того, когда он описал полный круг, залитое солнцем место показалось ему незнакомым и странным. Поблизости поблескивали под солнцем стволы берез. Маленькая птичка, сидя на ветке, пристально глядела на него, словно от жары не в силах была вспорхнуть и улететь; внезапно и он, утомленный палящим солнцем, почувствовал, будто попал в сказку. Впереди подлесок становился гуще, виднелись низкие заросли камышей.
И тут он увидел сияние.
Свет лился откуда-то из-под земли, из-под спутанных клубком древесных корней. Внезапная вспышка этого яркого света заставила его зажмуриться. Кий сделал шаг, чтобы рассмотреть его получше. Свет, льющийся из-под земли, не ослабевал. Мальчик подошел совсем близко, и тут его осенило.
«А вдруг, — подумал он, — так можно попасть на тот свет?»
Наверняка это возможно, недаром славянское слово, которым жители деревушки именовали потусторонний мир, звучало совершенно так же, как слово, обозначающее сияние, солнечные лучи, блики огня. А Кий знал, что домовой и другие предки обитают под землей. Вот и здесь, в таинственном месте, сияние исходит откуда-то из-под земли. Что, если там и вправду лежит дорога на тот свет?
Подойдя поближе, он обнаружил, что источник света — это струйки крохотного, полускрытого от глаз ручья, там, где на них падают лучи полуденного солнца. Ручей вился по подлеску, то пропадая в какой-нибудь впадине, то вновь появляясь в высокой траве неподалеку от того места, где исчез. Однако этот свет, хоть и отражался от маленького ручейка, не делался менее волшебным в глазах мальчика. Более того, когда он разглядывал сияющую поверхность ручья, поблескивающие стволы берез, густую пышную траву, его посетила другая мысль, еще более волнующая. «Я дошел до тридевятого царства, — подумал он, — вот оно какое!» Он наверняка добрался до ворот в сказочное, потаенное тридевятое царство, ибо есть ли на свете место, более волшебное и прекрасное, чем это?
Дивясь своей удаче, пошел он дальше вдоль русла речушки-невелички: сначала пробирался по кустам, а затем увидел два низких валуна, в расщелине между которыми рос куст ореха-лещины. Там он остановился и дотронулся до камней: они были теплые, почти горячие. Внезапно ему захотелось пить, он мгновение помедлил, опасаясь воды из волшебного ручья, но потом, когда жажда сделалась невыносимой, стал на колени в траву и зачерпнул прозрачной воды в ладони. Какая же она была чистая и сладкая!
Затем, желая лучше осмотреть местность, он принялся карабкаться на один из валунов. Прямо над ним выдавался небольшой выступ. Он пошарил рукой, стремясь ухватиться за что-нибудь и удержаться на камне.
Пальцы его сомкнулись вокруг змеи.
Он и сам не мог бы объяснить, как через мгновение оказался в полутора саженях от валуна, дрожа всем телом. Кий судорожно, конвульсивно подергивал головой, вертясь налево и направо, в страхе оглядывая деревья, ручей, валуны и пытаясь понять: вдруг и на них скрываются змеи и сейчас на него бросятся? Травинка коснулась его ноги, и он подскочил от ужаса.
Однако змея лежала на валуне неподвижно. Какое-то время он выжидал, его била дрожь. На земле ничто не шелохнулось, хотя высоко в небесах, не взмахивая крыльями, бесшумно парил канюк, высматривая добычу.
Когда любопытство пересилило ужас, мальчик снова принялся медленно взбираться на валун.
Змея была мертва. Она лежала на широком выступе, свернувшись кольцом. Голова у нее была размозжена, череп пробит, — может быть, это орел проломил ей голову клювом? Он понял, что это гадюка, ведь в его родных краях водились несколько видов этих тварей, и, хотя она уже не могла причинить ему вред, он невольно содрогнулся, глядя на нее.
Но, все еще глядя на ядовитую гадину, он внезапно понял нечто важное и, хоть страх его до сих пор не улегся до конца, немного успокоился и даже улыбнулся. Да, он и вправду попал в сказочное царство. Змея лежала в тени куста, который рос в расщелине между двумя валунами. А куст был ореховый.
— Значит, я смогу найти своего медвежонка, — произнес он вслух.
Ведь мертвая змея могла открыть ему одну из величайших тайн — научить его волшебному языку.
Волшебный язык был безмолвным. На нем говорили все деревья, травы и цветы, и даже некоторые камни и реки; случалось, что говорили на нем и звери. А овладеть этим потаенным языком можно было разными способами — об этом сказала ему не кто-нибудь, а его бабушка, а уж ей ли не знать? «Научиться этому языку можно четырьмя способами, Кий, мальчик мой. Если спасешь змею из огня или рыбу из сетей, они могут открыть тебе эту тайну. Или если найдешь в лесу в полночь в день летнего солнцестояния цвет папоротника. Есть и третий способ: если пашешь землю, найдешь лягушку и возьмешь ее в рот. А еще если найдешь мертвую змею под ореховым кустом, зажаришь ее и съешь ее сердце».
«Если я заговорю на языке деревьев и зверей, они скажут мне, где мой медвежонок», — подумал он. И, довольный, посмотрел на страшную змею. Незадача была только одна, как ее зажарить? Ведь огонь он развести не мог. «Может быть, — заключил он, — я смогу отнести ее в деревню».
Он не отводил глаз от змеи. Она лежала совсем рядом с ним и явно издохла совсем недавно. Если бы не размозженная голова, могло бы показаться, что она свернулась на камне, живая, и, чувствуя тепло нагретого солнцем камня сквозь подошвы лапотков, он подумал, невольно вздрогнув, что то же самое тепло ощущает и змея.
Нет, не дотащить ее до дома.
Но тут ему в голову пришла простая и утешительная мысль, перед его внутренним взором словно открылся широкий, свободный путь сквозь глухие леса. «Вернусь-ка я в деревню за дядей Малом. Он придет и поможет мне зажарить змею».
Вот так легко все устраивается. На миг ему показалось, что его странствия завершились и он уже благополучно вернулся домой. С облегчением Кий слез с валуна к ручейку, бегущему у его подножия, и повернул назад по своим же собственным следам вдоль русла этой маленькой речушки. Теперь, когда он возвращался из своего удачного похода, места, где приоткрылась для него дверь в тридевятое царство, представлялись ему уже не такими волшебными — скорее, знакомыми.
Прошло какое-то время, прежде чем он понял, что заблудился.
Повернув в лес у сияющей заводи, он шел, выбирая направление по проплывающим облакам. Так почему же тогда ему внезапно показалось, что это место он видит впервые? Деревья словно вытянулись и росли гуще, чем прежде. Впереди то там, то сям виднелись камни и кустарники, которых прежде он не встречал в лесу. Сейчас он обрадовался бы, даже если бы перед ним открылся вид на зловещую русалочью заводь. Он снова поднял голову, надеясь увидеть облака. Ему было невдомек, что с утра ветер постепенно менял направление.
И только тогда наконец маленький мальчик медленно поддался страху. Он все более и более ясно осознавал, что заблудился, и чем отчетливее это понимал, тем сильнее и сильнее охватывал его пронизывающий холод. Он остановился, посмотрел направо, посмотрел налево, увидел лишь бесконечные ряды высоких деревьев, уходящие во все стороны, и понял, что все безнадежно.
Ему не выбраться. Он позвал мать, четыре, пять раз прокричал ее имя. Но крики его затихли в лесу, замерли, никем не услышанные. Ему показалось, что сам этот день решил заманить его в ловушку, заточить в лесу под бескрайним голубым небом, а сейчас с насмешкой наблюдает за ним сверху. Может быть, он никогда не вернется домой. Заметив рядом поваленное дерево, мальчик сел рядом с ним. Прислонившись спиной к лежащему стволу, слишком расстроенный, чтобы двигаться дальше, он почувствовал, как на него нахлынула одна волна отчаяния, другая, и расплакался.
Он позвал на помощь еще дважды, но не получил ответа. Рядом с поваленным деревом рос большой гриб. Кий протянул руку и погладил его бархатистую шляпку, пытаясь хоть чем-то утешиться, а потом еще немного поплакал. Наконец его сморило от плача, голова отяжелела и опустилась на грудь.
Увидев своего медвежонка, он поначалу не мог понять, наяву это происходит или во сне.
Медвежонок явно отбился от матери и бежал вприпрыжку, непомерно большие лапы его заплетались на бегу, так что он поминутно спотыкался, торопясь нагнать медведицу. Медвежонок прошел всего саженях в десяти от того места, где сидел полусонный Кий.
Протирая глаза, Кий с трудом встал на ноги, ущипнул себя, чтобы убедиться, что не спит, и проводил медвежонка взглядом. Неужели он и вправду в конце концов нашел своего медвежонка? Он сам не верил своей удаче. Медвежонок еще не скрылся из виду, он спешил за удаляющейся бурой тенью, наверняка за своей матушкой. Бурое пятно исчезло за деревом.
Забыв обо всем на свете, мальчик бросился за ними. Им владела одна-единственная мысль: проследить, куда они идут. Вне себя от волнения, сбиваясь с ног, он кинулся вслед медведям.
Он бежал за ними сначала через лес, потом по поляне, затем через другой лес. Он и думать забыл о том, насколько ушел от дома. Время от времени он различал их очертания и застывал в страхе, что они его заметят. Но по большей части он шел на тот шум, хруст и шорох, который производили звери, то большими прыжками, то короткими перебежками пробираясь сквозь подлесок. Он не знал ни далеко ли он ушел от дома, ни как найдет обратную дорогу. Он слишком приблизился к своей вожделенной цели, чтобы думать о чем-то еще. Он нетерпеливо продвигался вперед.
Несколько раз он чуть было не потерял их из виду. Посреди дубовой или буковой рощи, которая казалась ему бескрайней, его внезапно обступало безмолвие. Он вдруг осознал, что вокруг него со всех сторон теснятся деревья, неотличимые друг от друга. Тогда он остановился, перешел на медленный шаг и брел так какое-то время, затем замер и наконец различил смутный шелест, долетающий откуда-то издалека.
Он не чувствовал опасности, ведь, увидев столько волшебных знамений: сокрытую заводь, свет в ручье, исходящий из потустороннего мира, змею под ореховым кустом, — он понимал, что день выдался волшебный и что духи леса ведут его к цели.
В очередной раз упустив медведей из виду и вслушиваясь в лесное молчание, он заметил справа, за завесой берез, яркое солнечное пятно и решил, что там скрывается поляна. Не побежал ли туда медвежонок? Кий двинулся в ту сторону.
И тут он заметил вспышку света среди деревьев впереди, не слишком высоко. Что-то поблескивало между нижними ветвями. Что именно — он не видел: частый березняк не давал разглядеть, но на этом блестящем предмете плясали солнечные лучи, перебегая то туда, то сюда и вспыхивая яркими цветами: красным, серебряным, золотым. Что же это может быть?
Внезапно, охваченный радостью, он понял, в чем дело. Кто же еще может обитать в лесах и так сверкать? Кто же еще может оберегать сокровища, которых так жаждут люди, и, само собой, в этот миг стережет его медвежонка? Кто же еще, как не редчайшее, прекраснейшее чудо из чудес лесных?
Только жар-птица.
Оперение у жар-птицы разноцветное. Оно сияет и переливается даже во тьме. У того, кто изловчится и вырвет из жар-птицыного хвоста длинное перо, исполнится любое желание. Жар-птица приносила тепло и счастье. Разумеется, медвежонок сейчас где-то рядом с ней и ждет Кия. Сияющий свет словно манил его, подзывал поближе.
Он двинулся вперед и остановился саженях в пяти. Разглядеть жар-птицу толком ему не удавалось, но она не улетала, а переливалась всеми цветами радуги, словно бы поджидала Кия. С негромким радостным криком мальчик кинулся на поляну.
Всадник, глядевший на него из-под стального шлема, был неподвижен. Обод шлема украшали несколько разноцветных драгоценных камней, они-то и сверкали на солнце, переливаясь, как жар-птица. Лицо у всадника было смуглое, с крупным орлиным носом. Волосы черной гривой ниспадали из-под шлема на плечи. А в черных, миндалевидных глазах застыл холод. За спиной у него висел длинный, изогнутый лук.
Маленький мальчик глядел на него, не отводя глаз. Этот воин, величественный и грозный, восседал верхом на вороном скакуне, кожаная сбруя коня была богато отделана. Конь его, пощипывавший траву в тени на опушке, лениво поднял голову и посмотрел на Кия.
Лицо всадника по-прежнему ничего не выражало.
И вдруг он камнем, точно хищная птица, бросился на ребенка.
Высоко-высоко в бескрайнем голубом небе тяжелое полуденное солнце беспощадно палило землю; впрочем, под слабым дуновением знойного ветра едва слышно перешептывались сухие, высокие, в пояс, ячменные колосья, которые раздвигала Лебедь, уходя с золотистого поля. Даже на лесной опушке пахло пыльным ячменем. Из-под ячменных колосьев выскользнула полевка и спряталась под древесным корнем.
Может быть, малыш просто забрел в тень под деревьями, на самой опушке? Лебедь шла и нежно звала-выкликала: «Кийчик, где ты, моя ягодка? Кийчик, где ты, голубчик?»
Пасущиеся коровы подняли головы, но даже не соизволили пошевелиться. Высоко в небе, над распростертым внизу полем, над лесной опушкой пролетел канюк, высматривая добычу. Кия не было.
Она пошла по тропке, ведущей на грибные поляны. В полуденном лесу царило то же безмолвие, что и в поле, а солнце пробивалось сквозь плотную древесную листву, врываясь в лесной полумрак резким, слепящим светом. Она снова позвала: «Кийчик, утенок мой! Ты где?»
На шее у нее висел на шнурке крохотный талисман, вырезанная из сосны фигурка уточки, давний материнский подарок. Она поцеловала амулет.
На полянах, где собирали грибы, Кия не было.
Дальше, к заводи. «А не упал ли Кийчик в омут? — подумала Лебедь. — Вдруг он там, под толщей неподвижной, темной воды?» Вгляделась в водную гладь, но маленького тельца под водой не увидела. «Да и с чего бы ему лезть в воду?» — успокаивала себя она.
Зов ее громким эхом разнесся по безмолвным лесам.
Тропинка привела ее на поляну. Еще и еще раз она звала его, надеясь, что сын откликнется. Не мог же маленький в самом деле уйти так далеко?
В дальнем конце поляны стеной стояли березы, и перед их белоснежными с черным стволами женщина замерла на миг, склонив голову. Береза — дерево священное, людям благоволит: попроси ее о помощи — не откажет. Теперь Лебедь точно знала, что идет на восток, и не догадывалась, что ее сын, не подозревая, что ветер переменился, побрел, следуя за облаками, в противоположную сторону, на запад. Пара волков, словно две бледно-серые тени, притаились возле дерева и пристально следили за ней. Сердце Лебеди застыло. Неужто Кий попался серому волку? Да нет, волк не нападет на человека теплым щедрым летом.
Она шла, в душе ее исподволь возникали смутные образы, неотвязные, неотступные, о них пели песни и говорили сказки — птицы радости и печали, вещие и опасные птицы. А то мнился ей огонь: дома, в печи, огонь греет да тешит; здесь, в лесу, огонь гонит да губит. Злой огонь и добрый слились в одно пламя — как его разделить?
И деревья то виделись ей добрыми стражами, что хранят, берегут дитятко и в урочный час вернут, а миг — и вот они чужие, темные, грозные. В дубовой роще почудился ей жалобный голосок, доносящийся откуда-то слева; прислушалась, и окликнула его в ответ, и снова прислушалась, а потом двинулась дальше.
Как будет она жить без него? Вот и опустеет местечко на полатях подле печи. Чем же утешиться, чем избыть пустоту? Мужем ли ей утешаться, его добротой? Нет. Другое дитя зачать? Видела своих односельчанок, потерявших дитя. Плакали, убивались, а потом смирялись. Рожали других детей, а бывало, хоронили и тех, рожденных взамен. Что ж, жизнь рода никогда не прервется. Но что с того, что род будет жить вечно, что это за утешение для матери? Случалось Лебеди испытывать и горе, и тревогу, как и любой рожавшей жене, но такого дикого страха она доселе не знала. Ужас терзал ее, причинял нестерпимую боль.
Взлететь бы, как Бабе-яге, под самый купол небес, окинуть бы взглядом и лес, и степь, и все, что движется внизу! Лишь бы отыскать сыночка, лишь бы вытащить его своими чарами, лишь бы вернуть домой!
День перешагнул за полдень, а она брела дальше на восток, и в голове ее бились две мысли. Виданное ли дело, чтоб малое дитя забралось так далеко, а значит, коли все еще жив, то блуждает в лесу совсем поблизости... Эх, знать бы где...
Вторая мысль была неизмеримо страшнее.
К востоку лес обрывался, открывалась новая беда — степь.
Ох, выходит Кийчик из-под защиты деревьев и стоит на открытом месте, средь высоких трав. Как спастись ему от палящего солнца? Травы поглотят его, не разглядеть, никогда не выберется он из степи. А сколько злого зверя гуляет по степным просторам? В лесу летом ни волк, ни медведь не опасны, к человеку милостивы, а в степи гадюки, дикие псы, да мало ли какая напасть маленького поджидает!
Лебедь вышла из леса и пошла по краю — между лесом и степью, все кричала и звала, чтобы было ее слышно и в степи, и в лесу. Далеко забрело дитя; может, устало, спит сейчас в тенечке, под защитой деревьев?
Перед ней, насколько хватало взгляда, раскинулась огромная, ничем не ограниченная равнина — степь. Безмолвие летнего полдня простиралось до горизонта и исчезало за ним. Свет точно свинцовой тяжестью падал на землю, чуть мерцающую под его палящими потоками. Островки пожухлой, но кое-где еще сохранившей зеленую свежесть травы и осоки обещали: скоро степь вступит в свои права. Дальше стелился ковыль — высокая трава с длинными, развевающимися по ветру соцветиями-метелками, которыми он покрывался весной, — и владениям его конца-краю не было. Сейчас эти выбеленные солнцем метелки сливались воедино, как будто над желтой дымкой иссушенных жарой трав лежал слой белого пуха. Дальше равнина казалась коричневатой, а еще дальше блестела в лучах солнца под линией горизонта, отливала сиреневым. Каждому, кто выходил из лесу на эту раскаленную равнину, представлялось, что степь молчит, таится, падает в непробудный сон, спасаясь от невыносимого зноя.
Но нет. Где-то у ног Лебеди в траве стрекотал кузнечик. Взлетел и парил в воздухе лесной жаворонок, храбро распевая в горячем небе. На опушке леса росли гиацинты и ирисы, уже увядшие от летней жары, а среди желтой, пожухлой травы темнел лоскут зеленой и сочной: там обитала стайка сурков.
Несколько раз звала она Кия, но не услышала ответа и не увидела ни единого его следа. Она повернула налево и пошла на северо-восток вдоль опушки леса. Перед ней немного правее — возможно, на расстоянии трех верст — возвышался небольшой, но ясно различимый холм. Это был могильный курган, неведомо кем и когда насыпанный. Ее собственное племя курганов не насыпало.
Время шло, но, как ни странно, курган в мерцающей дымке зноя словно не приближался. Степь частенько обманывает путников, насылает на них морок при помощи обманчивого света, но сегодня все вокруг было особенно зловещим и угрожающим. Изящный журавль-красавка с иссиня-черной шеей и белой спиной спешил к себе в потаенное гнездо. Она порой заходила обратно в лес, кричала там и аукала, а после снова возвращалась в степное пекло.
Наконец курган все же приблизился, а в степные владения вошел тоненький мысок леса. По рощице этой она и побрела.
Стоянка кочевников открылась перед ней прямо за деревьями. В какой-нибудь сотне шагов Лебедь увидела разбитый лагерь.
И сын ее был у них в руках.
Пять кибиток, крытых корой, были расставлены кругом, от них на бескрайнюю, раскаленную, сияющую степь ложилась пыльная тень. Несколько кочевников спешились и отдыхали под кибитками.
Двое оставались верхом. Один из них был белокур, другой — темноволос. Черноволосый всадник сказал своему товарищу, предводителю маленького отряда:
— Брат мой, давай искать деревню.
Белокурый всадник смотрел на ребенка, которого его названый брат держал перед собой на холке своего могучего вороного скакуна. Мальчик, бледный от страха, беспомощно озирался. Пригожий малыш.
Длинные иссиня-черные волосы его похитителя поблескивали на солнце, почти такие же гладкие, как бока его вороного коня.
Деревня наверняка находилась неподалеку от тех мест, где бродил ребенок. Отыскать ее, захватить молодых мужчин и мальчишек, и пусть деревенские беспомощно выкрикивают проклятия им вслед. Из угнанных в полон вырастят не рабов, а воинов и примут их в члены клана. Так и случилось в детстве с двоими из тех кочевников, что отдыхали под кибитками. «Странный народ, — подумал черноволосый, — бога войны не знают, но обучи их воевать — и окажутся они и смелы, и решительны». И мальчишка этот, возможно, когда-нибудь станет гордостью клана.
Однако в этот жаркий день ему не хотелось совершать набег на деревню.
— Я не для того пришел сюда, — тихо сказал он.
Темноволосый склонил голову.
— Твой дед не дожил до старости, — мрачно ответил он. — Не зря его прозвали Оленем.
В устах степных кочевников это была высшая похвала. Среди них старик считался существом, лишенным чести, — храбрецы погибали в битве, не успев состариться.
В тот же день, чуть раньше, когда солнце достигло зенита, белокурый воин, стоя на вершине возвышавшегося поблизости кургана, вонзил в землю свой длинный меч. Ибо это был могильный холм его деда, убитого в схватке в этом безлюдном месте и забытого всеми, кроме членов его семьи, которые раз в несколько лет возвращались в этот отдаленный уголок степи, чтобы воздать честь покойному. Меч и сейчас виднелся на холме, из кибиток можно было различить даже перекрестье его рукояти, и блеск железа напоминал о благородном клане воинов.
Кий не отрываясь смотрел на всадников. Таких людей он прежде никогда не видел, но кое-что о них слышал. Он догадался: всадник на вороном скакуне — скиф.
«Вот поймает тебя скиф, — сказал ему однажды отец, — живьем с тебя шкуру сдерет и на конскую сбрую пустит». Кий со страхом поглядывал на удила. Едва он взглянул в холодные глаза темноволосого воина, как тотчас же понял: жди беды — и явно эти двое решают, как бы половчее содрать с него кожу. Малыш дрожал всем телом. Однако при виде светловолосого всадника в душе его затеплилась надежда. Ему было очень страшно, а все же никогда еще не видал Кий человека прекраснее.
Побратим скифа, высокий белокурый кочевник, был коротко стрижен. Черты его лица были правильны, утонченны, почти изящны, выражение лица — открытое и привлекательное. Но когда его светло-голубые глаза сверкнули гневом, он сделался поистине ужасен, страшнее темноволосого, смуглого скифа рядом с ним. Мужи этого племени способны были вселять ужас, и многие писатели древности упоминали об этом.
То был алан, представитель величайшего из всех сарматских племен, а могущественный клан, к которому он принадлежал, слыл одним из самых гордых, и называли они себя «бледными» или «сияющими».
С незапамятных времен кочевники приходили с востока, из азиатских земель, расположенных за тем огромным полумесяцем горных кряжей, что образовывал южную границу великой Евразийской равнины. Верхом преодолели они горные перевалы, возвышавшиеся над Индией и Персией, проскакали по окутанным мерцающей дымкой предгорьям, словно изливавшимися водопадом на великую равнину. Появлялись они и из пустыни, окружавшей Каспийское море севернее Волги, а оттуда двигались в плодородную степь к северу от Черного моря, в земли по берегам Днепра и Дона. Они вторгались в Восточное Средиземноморье и на Балканы, доходя едва ли не до Греции.
Первыми, в глубокой древности, с востока пришли киммерийцы, номады железного века. Затем, около 600 года до новой эры, появились скифы, индоевропейский народ с примесью монгольской крови, говоривший на языке иранского происхождения. Потом, примерно в 200 году до новой эры, земли эти приглянулись другому, еще более сильному и могущественному народу — сарматам; они ограничили владения скифов небольшой территорией и подчинили их себе.
Все эти кланы воинов являлись с востока. Иранским именем «Дон», означающим «вода», они нарекли реки Дон, Днепр и даже протекающий намного западнее Дунай. Воинственные кочевники — повелители степей.
От Черного моря до самого леса славяне боялись сияющих аланов, но и восхищались ими. Некоторые славянские племена пахали для них землю; были и такие, что платили им дань. И вправду, ни пределов, ни границ не ведали они в своих странствиях; и в сказаниях своих говорили они, что изъездили всю бескрайнюю степь — от земель, где встает теплое солнце, до земель закатных.
Алан посмотрел на небо. Полуденная жара еще не спала, но вскоре их спутники, отдыхавшие под кибитками, проснутся, и они двинутся дальше.
— Мы вернемся сегодня, — тихо промолвил он. — Мальчишку повезешь ты.
Кий не сводил глаз с высокого воина. В отличие от своего побратима-скифа, алан пользовался стременами. Он носил мягкие кожаные сапоги и широкие шелковые штаны. Сбоку к его седлу были приторочены длинный меч и аркан, любимое оружие его соплеменников, а к бедру был пристегнут кинжал с рукоятью, оканчивавшейся навершием в виде кольца. Кольчуга и остроконечный шлем были перехвачены ремнями поверх боевой выкладки, лежащей на земле возле кибиток, рядом с двумя длинными копьями, с ними аланы шли в смертоносные атаки. Его полотняный кафтан был расшит маленькими незамкнутыми золотыми треугольниками, а на шее у него красовалось ожерелье из крученых золотых нитей, которое оканчивалось двумя золотыми драконами. С плеч алана ниспадал длинный шерстяной плащ, заколотый огромной фибулой, богато отделанной восточными драгоценными каменьями. Узоры были не клановые — а личные.
Скиф был одет совсем иначе. Спину Кия царапали золотые и серебряные нашивки на кожаной куртке всадника. Смуглую руку, удерживающую его на холке коня, украшал браслет с изображениями богов и фантастических животных, он сверкал так, что резал Кию глаза. Малыш разумеется не знал, что браслет был сработан удивительными греческими мастерами. На боку у скифа висел изогнутый меч с рукоятью также греческой работы.
Но особенно восхитили ребенка их кони. Иссиня-черного скакуна, на котором его везли, он, конечно, не мог разглядеть, но чуял его невиданную силу и мощь. А конь алана представлялся ему существом едва ли не божественным.
Он был серебристо-серый, с черной гривой, с черной полосой вдоль спины и с черным хвостом, этот конь. Эту благородную масть аланы именовали «инеем». Кию казалось, что конь едва ступает по земле, словно не удостаивает ее своим прикосновением. Словно не поскачет он сейчас, а полетит.
И воистину это было так, ибо во всем племени аланов не сыскалось бы более резвого скакуна. Хозяин звал его Траяном, по имени римского императора, молва о воинских подвигах которого разошлась по берегам Черного моря и которого даже расселившиеся на широко раскинувшихся, обширных землях сарматы стали почитать как малого бога. Трижды Траян, быстроногий, с уверенной поступью, спасал в бою жизнь алана. Однажды, когда тот был ранен, конь ускользнул от врагов и бросился его искать. Соплеменники хвалили алана и его скакуна: «Траян ему дороже жены».
Сейчас Траян стоял неподвижно, но от дуновения легкого ветерка, пролетающего над степью, маленькие золотые диски, висящие на его узде, закачались и тихонько зазвенели. На каждом диске была вырезана тамга — эмблема клана, к которому конь принадлежал — точно так же, как и его хозяин. Тамгой этого клана был трезубец, священный знак, висевший над очагом в родовой башне клана, в сотнях верст к востоку.
Скиф тоже смотрел на Траяна, с трудом подавив вздох. Его соплеменники погребли бы столь божественно прекрасного коня в могильном кургане вместе с его хозяином, когда тому придет час пасть в битве. Аланы же, хотя и слыли искусными наездниками, обычно довольствовались тем, что хоронили вместе с воином конские удила и сбрую.
Его отец сражался вместе с аланами в наемных войсках Рима, и потому они и побратались еще в детстве. Не бывало уз священнее, их нельзя было разорвать. Много лет странствовали они вместе и бились на поле брани бок о бок. Никогда, ни в чем скиф не предал алана. Он твердо знал, что, если потребуется, отдаст за друга жизнь.
Однако сейчас, когда он в тысячный раз разглядывал Траяна, в его суровых, безжалостных глазах появлялось странное, мечтательное выражение. «Если бы он не был моим братом, — подумал скиф, — я убил бы его, и даже сотню таких, как он, ради подобного коня». Скакун горделиво воззрился на него в ответ. Вслух скиф произнес:
— Брат мой, не дашь ли ты мне двоих из наших людей разграбить деревню? А потом я поскачу вслед за тобой и нагоню тебя завтра на закате.
Алан нежно погладил холку своего коня.
— Не проси у меня этого сейчас, брат, — отвечал он.
Скиф замолчал и задумался. Оба они знали, что алан не в силах был отказать названому брату ни в чем: он готов был преподнести скифу любой дар, сделать любое одолжение, пойти ради него на любую жертву. Таков был их обычай, так повелевала им честь. Если бы скиф по всем правилам попросил отдать ему коня, алан согласился бы пожертвовать Траяном. Но названый брат не мог злоупотреблять своим правом: ему надлежало знать, когда просить нельзя. И потому сейчас темноволосый, смуглый воин склонил голову и сделал вид, что и вовсе не упоминал о налете на деревню.
Маленький Кий присмотрелся и закричал.
Она шла к ним по лугу в лучах беспощадного, палящего полуденного солнца. Высокая, пожелтевшая, увядающая трава царапала ее голые ноги.
Лебедь не знала, пощадят они ее или убьют, но терять ей было нечего. Когда она подошла поближе, что-то подсказало ей, что старший в отряде — красавец-алан, но до конца она не была в этом уверена. Двое воинов бесстрастно глядели на нее. Даже кони их не шелохнулись.
Кий инстинктивно начал вырываться, но смуглая рука скифа, до сих пор державшая его словно бы небрежно, сжалась железными тисками. Но ребенок даже представить не мог, что теперь, когда мать нашла его, страшные всадники не подпустят его к ней.
— Кий, мальчик мой! — позвала она.
Он откликнулся. Но почему же эти всадники словно бы ее не замечают?
Лебедь заглянула им в глаза: темные — у одного, светло-голубые — у другого, и оба в равной мере жестоки и безжалостны. Скиф медленно потянулся за мечом, но рука на миг замерла перед самым лицом ребенка и легла на гриву коня.
Ее отделяло от них лишь десять шагов. Она видела, как личико Кия при виде нее озарилось радостью и надеждой и как он сморщился от досады и беспомощности, готовясь заплакать, не в силах до нее дотянуться. Несколько кочевников возле кибиток и их лошади с любопытством глядели на нее, но никто не шевельнулся. Тогда Лебедь остановилась, сложила руки на груди и так замерла, крепко стоя на земле и не сводя глаз с двоих всадников.
По высокому, сладко пахнущему ковылю пробежала рябь. Солнце нещадно пекло над головами, шлем скифа поблескивал в жарких лучах. Никто не произнес ни слова.
Алан знал немного по-славянски. Глядя на нее сверху вниз, со спины могучего Траяна, он промолвил наконец:
— Что тебе нужно?
Лебедь даже не взглянула на него. Она смотрела на своего сына, которого скиф держал на холке своего коня, и молчала.
— Возвращайся в деревню. Мальчик наш.
Она глядела не в глаза Кию, а на его круглые щечки. Она глядела на его маленькие пухленькие ручки, вцепившиеся в черную гриву могучего коня. Но по-прежнему не произносила ни слова.
Ибо молчание куда сильнее слов.
Алан смотрел на нее. «Что она может знать о той судьбе, — думал он, — что ожидает мальчика за горизонтом?» Что она может знать о шумных, многолюдных греческих и римских портах на Черном море, о высоких серых утесах, сияющих, словно расплавленная лава, над южным морем, о гладких, горбатых мысах, похожих на медведей, которые пришли испить морской воды? Что может знать жалкая славянка, живущая на опушке леса, о шумных торжищах Крыма, куда отовсюду свозили зерно на продажу, о караванах, идущих на восток, о заснеженных вершинах Кавказа, о кузницах на горных перевалах, где закалялись клинки, или о зеленых виноградниках на склонах гор? Она никогда не видела огромных табунов великолепных, божественных коней, пасущихся у подножия этих гор, или горделивых каменных башен, воздвигнутых его народом.
Вскоре, через несколько лет, этот мальчик станет воином и, может быть, оседлает коня, подобного Траяну. Он сделается одним из них, сияющих аланов, военную тактику которых — атаки и притворные отступления — заимствовали даже римляне. Сам император Марк Аврелий отказался недавно от попыток завоевать их. Разве римляне не приняли с радостью их помощь в борьбе с неукротимыми парфянами?
Что бы он только не увидел, чего бы только не узнал: мог бы побывать в киммерийских царствах или скифских поселениях в Крыму, мог бы беседовать с греками, римлянами, персами, иудейскими поселенцами в портах, мог бы познакомиться с представителями иранских и азиатских народов, пришедшими из далеких-далеких краев. Он, этот малыш, мог бы снискать славу, сражаясь с персами на востоке или с беспокойными готами, нападавшими с севера. И самое главное, он мог бы ощутить несказанную, ни с чем не сравнимую свободу, даруемую бескрайней степью: испытать восторг бешеной скачки, заключить нерушимый союз товарищества, связывающего названых братьев.
А какая жизнь ожидает его, останься он славянином? Прозябать в лесу да платить дань или перебраться на юг и пахать землю на хозяев — властителей степи. А сделавшись членом их клана, дитя может стать повелителем воинов.
Так размышляя, глядел он сверху вниз на женщину, которая желала вернуть свое дитя.
— Мальчик наш.
Маленький Кий услышал эти слова и взглянул сначала на алана, а потом на мать. Он пытался понять, хочет алан его убить или нет. Уж конечно, если б хотели, то уже давно бы прикончили. Но что теперь с ним будет? Он никогда больше ее не увидит? В мире словно не осталось ничего, кроме резкого запаха конского пота да горячих слез, внезапно хлынувших у него из глаз.
Кочевники, отдыхавшие у кибиток, поднялись, засуетились и принялись запрягать лошадей. Алан отвернулся от Лебеди и окинул взглядом расстилавшуюся перед ним степь. Лебедь не двинулась с места.
Темноволосый скиф следил за ней бесстрастно, точно змей. Конь его затряс головой. «Наверное, деревня где-то неподалеку», — подумал скиф. Он страстно жаждал ее разграбить. Дважды он предлагал налет, но дважды получил отказ от побратима. Он плотнее обхватил рукой добычу. «Поедем, брат мой», — тихо промолвил он.
Алан помедлил. Не было причин медлить. Но оттого ли, что путь впереди лежал долгий, оттого ли, что юный пленник должен был проститься с прошлым и начать новую жизнь, оттого ли, что мать все смотрела и смотрела на свое дитя, не в силах отвести от него глаз, он подъехал поближе и, достав из-за пазухи маленький амулет, повесил его на шею мальчику. То была волшебная птица симург, глаза которой смотрели один — в прошлое, другой — в будущее. Теперь все было правильно, он кивнул скифу, и оба повернули коней прочь.
И тут лицо Кия исказилось. Он рванулся, пытаясь хоть глянуть на нее из-за руки скифа, намертво, неослабевающей хваткой прижимающего его к коню.
— Мама!
Она задрожала всем телом, исступленно желая броситься вслед за всадниками. Но ясно было: поддайся она своему порыву — и ляжет мертвой под мечом скифа. Лишь неподвижность и молчание были ей защитой.
— Мама! — еще отчаяннее крикнул мальчик.
Теперь их разделяли уже тридцать шагов.
Она не двигалась с места. Алан и скиф медленно повернули коней в густую высокую траву, на восток. Семьдесят шагов. Сто. Она глядела на его маленькое круглое личико с расширенными от ужаса глазами, на темного коня, что навсегда уносил от нее Кийчика.
— Мама!
Она неотрывно смотрела на него. Вот уже почти скрылась его фигурка в высоких зарослях ковыля.
Теперь за всадниками покатились кибитки, потянулись верховые кочевники. Они и взгляда не бросили на мать, стоящую неподвижно и смотрящую им вслед.
А та мысленно молилась — с того самого мгновения, как впервые увидела их; и хотя все молитвы ее оказались тщетны, она не прекращала молиться. Молилась богу ветра, дующего ей в лицо. Молилась богу грома и молнии, богу солнца, терзающего их обоих палящими лучами. Молилась матери сырой земле, повсюду, куда бы они ни пошли, лежащей у них под ногами. Всем богам молилась она, которых только знала. Но пустые голубые небеса взирали на нее сверху равнодушно, никакого дара ей не обещая. Небеса сияли тем же безжалостным, металлическим блеском, как глаза всадника.
Повозки исчезли в колышущихся травах. Пыль улеглась. Голубое небо медленно удалялось от нее. И тогда она, все еще не прекращая молитвы, безмолвно склонила голову, признавая волю судьбы и смиряясь с нею.
Въезжая на небольшой холмик и оглянувшись, алан увидел крохотную фигурку вдали, по-прежнему не сходящую с места и глядящую им вслед.
И тут он почувствовал к ней жалость, ведь не прошло и года, как и он лишился единственного сына.
Когда скиф услышал, о чем просит его побратим, глаза его сверкнули.
— Дважды сегодня, брат мой, — промолвил он, — ты сказал мне: «Не проси», когда я хотел напасть на деревню. Но чтобы ты уверился в моей любви к тебе, проси что хочешь, и я отдам тебе желаемое. Ведь разве мы вместе не опустили острия наших мечей в кубок, полный крови? Разве не поклялся я ветром и клинком, что разделю судьбу твою в жизни и в смерти? — Легким движением он, подняв мальчика с холки своего коня, передал его алану. — Он твой.
Потом он стал ждать.
Если бы это не нанесло ущерба его чести, алан, может быть, и вздохнул бы. Но вместо этого, едва заметно улыбнувшись, он произнес:
— Мой верный брат, ты совершил вместе со мной это дальнее странствие, дабы почтить память моего деда, и делал все, что я просил, не только сегодня, но и много, много раз. И ни разу ничего не просил взамен. А посему я молю тебя: попроси у меня любой дар, дабы я мог доказать тебе свою любовь.
Он знал, что обязан преподнести названому брату дар, и знал, какой дар тот назовет.
— Брат мой, — торжественно ответствовал скиф, — я прошу у тебя Траяна.
— Тогда он твой.
Произнести эти слова было невыносимо трудно. Но, даже страдая, он испытывал прилив гордости, ибо отдать столь прекрасного коня было воистину деянием благородного человека.
— Последний раз проскачу на нем! — весело воскликнул алан.
Не ожидая ответа, алан повернул Траяна и, направляя одним легким прикосновением, пустил его вскачь по степи, без усилий удерживая перед собой ребенка.
Маленький Кий изумленно оглядывался, инстинктивно цепляясь за гриву великолепного коня, и тут алан сказал ему на славянском языке: «Ну вот, малыш, ты идешь к себе в деревню, но всю свою жизнь будешь помнить о том, как летел верхом на Траяне, благороднейшем из всех скакунов сияющих аланов».
Мальчик и не подозревал, что на глазах у алана выступили слезы. Он испытывал лишь радостное возбуждение и восторг, каких никогда не знал прежде.
Так и случилось, и Лебедь, в отчаянии глядящая в пустоту, внезапно увидела, как к ней, словно бог ветра, летит Траян, едва касаясь земли. Почти небрежно, не говоря ни слова, алан опустил ребенка к ее ногам и ускакал, растворившись в степной мерцающей дымке.
Не веря себе, она схватила мальчика, а тот прижался к ней.
Она почти не заметила, как спустя мгновение он резко дернулся у нее в объятиях и, указывая на удаляющегося всадника, крикнул: «Я хочу к нему!»
Прижав ребенка к груди, чтобы его не отняли у нее опять, она поспешила назад в лес.
Лебедь не сразу вернулась в деревню. Вместо этого она нашла тихое местечко у реки. Рядом рос священный дуб, которому она вознесла благодарственные молитвы, а потом, ей так хотелось побыть наедине со своим сыном, и она села в тени и смотрела, как он играет у воды, а затем, утомившись, уснула.
Из лесу они вышли только вечером. Большое ячменное поле было убрано. Как два маленьких облачка, медленно плывущих по бескрайнему простору неба, двинулись они по широкому безлюдному полю.
Урожай собрали. Лишь в одном углу поля, по обычаю, оставили ячменный сноп — в дар Велесу, богу скота и прибытка. В дальнем конце поля стайка маленьких девочек играла в ладушки, стоя кружком и смеясь, а когда они вошли в деревню, гуси, пасущиеся возле изб, приветствовали их своим обычным гоготом.
Первым, кто встретил Лебедь в деревне, был ее муж. Его лицо осветилось радостью, когда он поднял мальчика высоко над головой; ее свекровь тем временем вышла из избы и сухо ей кивнула.
— Я тебя искал, — произнес он. Без сомнения, так все и было. И вправду, человек он был добрый и потому вправду мог отправиться на поиски и искать их несколько дней: вот разве что забот у него невпроворот, от них не оторваться.
— Я его нашла, — просто сказала она.
Потом она рассказала ему про всадников, и они отправились к деревенскому старейшине, а тот заставил ее поведать историю еще раз.
— Если они снова явятся, — медленно проговорил он, — придется нам опять перебираться на север.
Маленькая община уже переселялась на север пять лет тому назад, чтобы не платить дань степным кочевникам.
Но в этот день делать уже было нечего, разве что праздновать сбор урожая.
Юноши и девушки уже вышли из деревни и принялись кататься и кувыркаться на краю поля. Перед избой старейшины женщины уже заканчивали вязать из ячменных колосьев фигурку старика. У него была длинная, кудрявая борода, которую они как раз намазывали медом. Это был бог поля, и они намеревались отнести его туда, где поле смыкалось с лесной опушкой, на границу двух миров.
И только теперь, когда стали собираться сельчане, в дверях своей избы показался Мал. Заметив Лебедь и ребенка, он смутился было, но Кий сам подбежал к нему.
— Я видел медвежонка, — закричал он, — я его видел!
Лебедь оттащила Кия, а Мал покраснел как рак.
Когда сельчане стали выходить на поле, Лебедь почувствовала, что муж ни на миг от нее не отходит. Она не заглядывала ему в лицо, как ему того хотелось (в этом она была совершенно уверена), но знала, что на лице его появилось особое, нежное выражение. Глаза у него горели нетерпением, как у юноши, — это она тоже знала наперед. Он так и норовил к ней прикоснуться, она не могла этого не заметить. Длинная мужняя рука обхватила ее предплечье и мягко сжала. Она поняла этот знак, да и давно ждала его.
Она шла и шла вперед. Другие женщины наверняка тоже приметили этот жест. Рука у мужа сильная, подумала Лебедь, хотя и костлявая. Идя вперед без остановки, лучше всего можно было скрыть свое нежелание разделить его страсть. Ну, придет он к ней сегодня ночью, вот и все. Она подтолкнула мальчика, чтобы тот не мешкал и был у них на глазах, и так, воссоединившись, ступили на поле.
Когда солнце стало медленно опускаться, освещая деревья, а по сжатому полю заструились длинные тени, начались песни и пляски. Под предводительством ее свекрови женщины закружились в хороводе и затянули жатвенную песню:
Ячмень-батюшка,
Стерня-матушка,
Уж мы жали дочиста,
Наломались досыта,
Ай ты, матушка-стерня,
Верни силушку сполна.
Теплые лучи заходящего солнца заиграли на жидком меде, стекающем с ячменной бороды полевика, и она ярко засияла.
На краю поля за сельчанами безмятежно и блаженно наблюдали три бабушки, слишком старые, чтобы петь или плясать. Взглянув на них, Лебедь украдкой улыбнулась. Она знала: и ее эта доля не минует. Ей подумалось: ведь говорят, что бог-полевик, когда поле сожнут, усыхает, сморщивается, превращается в крохотного человечка. Смертные тоже усыхают, умаляются и уходят жить под землю, как покровитель рода — домовой. Такова судьба. Природу нельзя подчинить; будь ты мужчина или женщина — прими свое время сева и время сбора урожая. А что там станется с ней, Лебедью, судьбу волнует мало. Потеряй она сегодня свое дитя — кому бы до того было дело, как бы горько ей ни было. Столько их умирает, детишек. Никто их и не считал. Но все ж кто-то да вырастет, выживет, и потому и деревня, и род все живут себе да живут в вечном, неизменном и жестоком своем коловращении, как времена года кружат себе и кружат по равнине без конца и края.
Допела со всеми песню — и вернулась к Кию. Сидя на земле, он теребил талисман, подаренный всадником; всем сердечком своим он был не с ней, а скакал по широко раскинувшейся степи. Едва и взглянул на нее, когда она подошла ближе.
А теперь прямо перед нею склонился над ребенком ее муж, улыбающийся, горящий нетерпением.
И ее порою влекло к нему; случалось, что весной и жизни без него не было. Однако, хотя он и вправе был ей приказать, хотя именно мужчинам принадлежала власть в деревне, она-то знала: главная сила — у жены, это жены терпели, побеждали и выживали. Это жены, как и сама мать сыра земля, сберегали семя в толще почвы и производили на свет плод для бога солнца и для мужчины с его плугом.
Он улыбнулся:
— Сегодня ночью я приду к тебе.
В сумерках, когда вместо свеч зажгли щепки смолистого дерева, в избе старейшины начался пир. Из рук в руки передавали чашу любви с черпаком, до краев полную веселым шипучим медом. От всякой снеди, будь то рыба, просяной хлеб или мясо, уделялась доля домовому, который в эту ночь выбирался из своего логова под амбаром, чтобы попировать с потомками.
Когда все было съедено, деревенские жители продолжали петь и плясать. Кий глядел, как его мать пляшет перед его отцом и бьет в свой красный бубен; смотрел — не мог насмотреться, пока от жары голова его не упала на грудь, и мальчик заснул.
Дважды муж прикасался к ней, шепча: «Пойдем». Дважды качала она головой и продолжала плясать. Она тоже пила, хотя меньше, чем остальные, и теперь по всему телу разливалось приятное тепло. Возбужденная пляской, она уже почувствовала желание, но по-прежнему плясала и пила, чая мига, когда вожделение властно вспыхнет в ней.
Постепенно мужчины и женщины, с трудом держась на ногах, пошатываясь, побрели в ночь. Лебедь уже не спорила, когда муж обнял ее и повел вон из избы. Вокруг, под стенами изб, на краю поля, беспорядочно совокуплялись опьяненные медом сельчане, и не важно было, кто кому отдается, и не вспомнит никто, и вскоре забудут об этой ночи. Какая разница, чье дитя, если все тут из одного рода? Лишь бы род не угас!
Они спустились к реке мимо высоких трав, где во тьме сияли светлячки. Вместе глядели они на реку, поблескивающую в лунном свете. Эту маленькую речку сельчане наделили именем, что взяли у грозных степных всадников. Славяне знали, что могучие аланы на своем чужедальнем языке говорят о себе «русь», то есть «светлые», «сияющие». Приятно звучит это слово для славянского уха, женское это слово и другим женским словам сродни — таким, как река. Так и нарекли сельчане свою крохотную, мерцающую, поблескивающую речушку — Русью.
Это было доброе название. Несомненно, оно пришлось бы им еще более по вкусу, узнай в селе, что тем же иранским словом «Русь» или «Рось» в те далекие дни именовали еще одну реку, далеко на востоке, ту великую реку, что позднее нарекут Волгой.
Русью называли они реку, а деревушку у этой реки величали похоже: Русское.
Ночь выдалась тихая. Река сияла, несла свои воды, а притом как будто не несла, остановилась в своем течении. Они легли на траву. Высоко по усеянному звездами летнему небу время от времени проплывали бледные облака, подобно всадникам в неспешной процессии; они отсвечивали в неярком отраженном свете месяца, показавшегося на юге, — и кто знает, какой медведь или лиса, волк или жар-птица пробирались по темному, глухому лесу, какие всадники, какие кочевники сидели у походных костров в бескрайней степи?
Но единственным звуком, который слышала Лебедь, был шепот листьев, когда ветер пролетал над землей, едва касаясь.
Глава вторая
Река
В лето от Рождества Христова 1066-е, в месяце январе, в небе появилось ужасное знамение. Наблюдали его по всей Европе.
В хрониках англосаксонского королевства Англии, которому грозило вторжение Вильгельма Нормандского, сие знамение описывали как несомненное предвестие бедствий и катастроф. Видели его во Франции, в Германии и по всему побережью Средиземного моря. В Восточной Европе, в недавно основанных государствах Польше и Венгрии, ужасная звезда царила на ночном небосводе. А еще дальше, в той пограничной области, где лес смыкается со степью, а широкий Дон несет свои воды к теплому Черному морю, огромная красная комета каждую ночь озаряла белоснежные безмолвные снега, и люди гадали, какое же новое зло обрушится на мир.
А как изменился этот мир за прошедшие века! За девять столетий войн, политической борьбы и катаклизмов, что отделяли его от правления Марка Аврелия и Траяна, западная цивилизация из античной сделалась средневековой, и переходу этому сопутствовали значительные перемены. Рим принял христианство, но вскоре небывало широко раскинувшаяся империя, поделенная между западной столицей, Римом, и восточной, Константинополем, пала под напором многочисленных варварских племен.
Они пришли из монгольских земель к северу от Великой Китайской стены, волна за волной накатывались они с востока, пересекли южные горные цепи, имеющие облик огромного полумесяца, и помчались по пустыне и степи гигантской Евразийской равнины. Часть этих завоевателей принадлежала к белой расе, часть — к монголоидной, большинство из них были тюркоязычными; эти ужасные варвары сметали все на своем пути. Так, на Европу обрушился сначала Аттила со своими гуннами, потом авары, затем тюрки. Однако Римскую империю погубили не их внезапные вторжения, не их гигантские, недолговечные степные царства, а неуправляемая цепная реакция, которую они запустили, вторгшись во владения племен Восточной Европы, и которая вызвала Великое переселение народов. Именно в ходе этих миграций во Франции появились франки, в Болгарии — потомки гуннов болгары, в Британии — саксы и англы, именно эти миграции дали названия таким областям, как Бургундия и Ломбардия.
Когда этот процесс завершился, старый мир лежал в руинах. Рим пал. Западная Европа, хотя варвары медленно переходили в христианство, оставалась пестрым лоскутным одеялом племенных и династических регионов. Лишь в Восточном Средиземноморье и на Черном море действительно сохранялось подобие старого порядка. Ибо там, чуть севернее Греции, возле узкого пролива, что связывает воды Черного и Средиземного морей, находился величественный город Константинополь, также известный как Византий. Не завоеванный врагами, сохраняющий традиции классической культуры и восточного христианства, по своему характеру скорее греческий, нежели латинский, Константинополь оставался непобедимым и неприступным: это был город, где на протяжении всего Средневековья будет править, хотя бы номинально, римский император-христианин.
Но этим беды Запада не исчерпывались, ведь в 622 году пророк Мухаммед впервые совершил хиджру, отправившись из Мекки в Медину, и исламская вера, могущественная и притягательная, начала стремительно распространяться по миру. Мусульманские полководцы бросались в атаку с боевым кличем: «В райские кущи, мусульмане, а не в огонь!» — ведь тот, кто пал в битве, несомненно, попадал в рай. Из Аравии мусульманские войска вторглись на Ближний Восток, оттуда двинулись дальше, в Персию и в Индию, а потом на запад, в Северную Африку и даже в Испанию. Другой марш-бросок довел их до ворот Константинополя. На протяжении столетий христианская Европа будет трепетать при одном упоминании имени пророка.
И наконец, мир ожидало еще одно испытание — появились викинги.
Пираты, купцы, колонизаторы, авантюристы — эти скандинавские мореплаватели начиная примерно с 800 года врываются на историческую сцену. Они заняли большую часть Центральной Англии, основали колонии в Исландии и в Гренландии и даже достигли побережья Северной Америки. Они создали герцогство Нормандское и, предприняв дерзкую вылазку, дошли до Средиземноморья.
Группа шведских викингов, основав торговые колонии по берегам Балтийского моря, как раз и отправилась вниз по рекам внутренних восточных, удаленных от побережий районов, где жили славяне.
Иногда этих скандинавов именовали варягами. Они основали гигантскую, протянувшуюся с севера на юг сеть торговых поселений, стали покупать и обменивать товары в славянском Новгороде на севере и плавать на юг по Днепру, Дону и Волге. На побережье Черного моря возле устья Дона они учредили факторию под названием Тмутаракань. И вот, потому ли, что были они белокожие и светловолосые, потому ли, что в этих южных странах торговали и сражались бок о бок с белокурыми аланами, или по какой-то иной, неизвестной нам причине в южном мире, куда они столь дерзко ворвались, эти скандинавские пираты и купцы вскоре получили то же древнее иранское имя, что до сих пор носили некоторые аланы, имя, означающее «светлый» или «сияющий», — «русы».
И так родилось новое государство — Русь.
Из-за высокого частокола мальчик, снедаемый лихорадочным волнением, глядел на огромную красную звезду.
Далеко внизу во тьме лежала широкая река Днепр; лед, сковавший ее по краям, тускло отражал кроваво-красный свет звезды. За спиной у мальчика замер в молчании город Киев.
Прошло почти два века с тех пор, как этот древний славянский город на Днепре сделался столицей государства Русь. Расположенный на поросших лесом холмах в одном дне пути от окраин южной степи, он был сборным пунктом, откуда все товары, доставленные из северных земель, отправлялись дальше по реке — к далекому Черному морю и южнее.
«Что же звезда предвещает городу?» — гадал мальчик. Наверняка это знамение, ниспосланное Богом.
Русь уже приняла христианство. В благословенное лето Господне 988-е Владимир, князь Киевский, был крещен, а крестным отцом его согласился стать не кто иной, как сам римский император Константинополя. Разве уже за одно это крещение не нарекли бы Владимира Святым? И разве не говорили люди, что двое из его сыновей, молодые князья Борис и Глеб, также были причислены к лику святых?
История их гибели, за каких-нибудь полстолетия до описываемых событий, тотчас же сделалась народной легендой. В расцвете своей молодости оба князя встретили наемных убийц, подосланных их коварным старшим братом, со спокойствием и смирением, не преступили против братской любви и предали свои души Господу. Гибель их, горестная, но возвышенная, глубоко тронула славянские сердца, и князья Борис и Глеб стали святыми покровителями земли Русской. Их именовали страстотерпцами, и на могилах их творились чудеса исцеления.
За прошедшие века Киев украсился множеством церквей. Улицы его оглашали не только крики и шум, доносящиеся с торговых ладей на реке, но и монотонные песнопения монахов и священников в ста церквях, а приземистые, в византийском стиле купола самых величественных храмов горели пламенем в лучах солнца. «Когда-нибудь, — уверяла знать, — мы сравнимся с самим Царьградом». Так именовали в здешних землях столицу римского императора Константинополь. И даже если, как неохотно признавали летописцы, в сельской местности и оставалось немало смердов, приверженных язычеству, со временем и они присоединятся к великому братству христианских народов.
А что означала звезда для этого мальчика? Не грозила ли она ему какой бедою? Не ждут ли его тяжкие испытания?
Ведь грядущий год обещал сделаться самым важным в его жизни. Ему исполнилось двенадцать. Он знал, что отец подыскивает ему место в свите одного из князей; ходили слухи и о его предстоящей помолвке. А еще более взволновало его известие, что отец этим летом посылает караван на восток, по степным землям. Неделями он умолял отца разрешить ему отправиться вместе с отряженными туда людьми. «Я доскачу верхом до великой реки Дон», — мечтал мальчик. Его мать была против этого рискованного предприятия, но всего неделю тому назад отец обещал подумать, и с тех пор мальчик ни о чем ином и не помышлял. «А когда вернусь, то начну обучение ратному делу и стану воином, — решил он, — как батюшка».
Его так захватили мысли о предстоящем путешествии, что он не заметил, как к нему приблизились двое и стали рядом с ним.
— Проснись, Иванушка, деревцем станешь!
Звали его Иваном, но чаще кликали ласково — Иванушкой. Он едва заметно улыбнулся, но взгляда от звезды не отвел. Он знал, что братья пришли дразнить его. Младший из двоих, Борис, был светловолос и добродушен с виду, и в свои шестнадцать уже отпустил бородку. У старшего, Святополка, было удлиненное, серьезное лицо и темные волосы. Ему исполнилось восемнадцать, и он уже был женат. Борис с минуту улещивал брата, пытаясь заманить его назад в дом, но Святополку это надоело, и он пнул Иванушку:
— Нечего тут мерзнуть! Ты что, снегурочка?
Борис потопал валенками — ноги озябли. Святополк выругался. С тем они и ушли восвояси.
А красная звезда по-прежнему царила на небе. Четвертую ночь подряд созерцал ее Иванушка, стоя в полном одиночестве, не откликаясь ни на какие призывы вернуться домой. Он был мечтательным мальчиком. Частенько кто-нибудь из членов семьи заставал его на улице, устремившим взгляд в пустоту, уходил, а потом возвращался, а Иван все стоял как вкопанный — с полуулыбкой на широком лице, глаз не сводя с чего-то, ведомого ему одному. И никто не мог отвадить его от странного этого занятия, потому что такова была его созерцательная натура. Был он из тех людей, с кем мать-природа говорит своим тайным языком. И сейчас время текло себе — а он все стоял не шелохнувшись и глаз не сводил со звезды.
— Иванушка, — позвала его мать, — глупенький, у тебя же руки как лед.
Он почувствовал, как она набрасывает ему на плечи шубу. И хотя по-прежнему не мог оторваться от звезды, все же нежно пожал ей руку. А как прикоснулся к ней, обернулся и улыбнулся.
Их связывали особые узы. Как много часов провел он, сидя рядом с нею у огня в их большом деревянном тереме, и блаженно внимал, как она не то говорит, не то поет былины о героях-богатырях или рассказывает волшебные сказки о Бабе-яге или жар-птице, обитающей в глухом лесу.
Ольга была высокая и стройная, с широким лбом, но довольно мелкими, тонкими чертами и с темно-каштановыми волосами. Она была из северных славян, ее род насчитывал многих славных вождей. Когда она пела родовые сказания тихим, отрешенным голосом, Иванушка завороженно глядел на нее, не в силах отвести взор. Ее прекрасное, нежное лицо часто представало ему в мыслях; ее образ, подобно иконе, сопровождал Иванушку неизменно, повсюду, всю жизнь.
Но его отцу она порой певала другие песни. Голос ее в таких случаях делался низким, резким контральто, а самая манера — насмешливой и презрительной. Догадывался ли он о том, что ее изящное, бледное тело таит в себе сокрытый огонь, что она способна дивно преобразиться, сводя с ума, опьяняя страстью его отца? Возможно, как все на свете дети, он лишь подозревал, какие отношения существуют между взрослыми.
Иногда они увлеченно читали вместе священные книги, с трудом, но все же в конце концов торжествующе разбирали слова Нового Завета и апокрифов, начертанные квадратным уставным письмом. Он изучал гомилии великих богословов Восточной церкви — Иоанна Златоуста и Василия Великого или, еще лучше, славянских проповедников вроде святителя Илариона. Он также выучил несколько поэтических сказаний великого певца Бояна, которого знавал его собственный дед, и мог прочитать наизусть их без запинки, на радость отцу.
Но не только это особенно связывало Иванушку с матерью — он унаследовал от нее особый жест, когда она, разговаривая с кем-нибудь, медленно поднимала руку, словно подзывая собеседника и приглашая его пройти в дверь. Это изящное движение казалось почти печальным, но неизменно нежным и ласковым. Из троих братьев только Иванушка перенял у нее этот жест, но и сам не ведал: то ли бездумно подражал он матушке, то ли получил в дар по рождению. Зато он всегда помнил, что в отличие от своего мужа, Иванова отца, она была славянкой. «Значит, и я наполовину славянин», — думал он.
Но что означало быть славянином? Он знал, что славян на свете превеликое множество. На протяжении веков расселились они в бесчисленных землях. На западе живут поляки — они славяне, венгры и болгары — отчасти славяне; а двинешься дальше, на юг, так народы, поселившиеся в Греции, на Балканах, тоже славянской крови, и хотя их языки уже сильно отличались от того наречия, на котором говорили восточные славяне, жившие в земле под названием Русь, сходство по-прежнему было велико.
Была ли то единая раса? Трудно сказать. Даже на Руси существовало много племен. Те, что поселились на юге, давным-давно смешались со степными захватчиками; северные славяне заключали браки с балтами и литовцами, восточные постепенно породнились с финно-угорскими лесными жителями.
Однако, глядя на мать и сравнивая ее с отцом и с другими чужеземными приближенными правящей династии потомков скандинавских героев, Иванушка сразу мог сказать: она славянка. Отчего? Оттого ли, что она была музыкальна? Или, может, оттого, что она легко переходила от грусти к веселью? Нет, дело было в каком-то ином свойстве, особом, и для него самом славянском. «Оно присуще и крестьянам, — думал он, — ведь, даже когда они злятся и дерутся, они в мгновение ока успокаиваются и делаются покойными и смиренными. Значит, дело в том, что они добрые».
Его мать тем временем шла к дому. Иванушка еще раз посмотрел на звезду. Что она пыталась ему сказать? Некоторые священники уверяли, что звезда предвещает конец света. Разумеется, он знал, что грядет светопреставление, — но ведь не может же быть, чтобы оно наступило сейчас?
Он вспомнил проповедника, который всего-навсего месяц тому назад взволновал его до глубины души. «Воистину, дорогой мой брат во Христе, славяне поздно пришли работать на винограднике Божием, — молвил священник, — но разве не говорит нам эта притча, что те, кто явились последними, будут вознаграждены не менее, чем те, кто опередил их? Господь уготовил великую судьбу народу своему, славянам, которые по праву превозносят имя Его».
Эти слова восхитили Иванушку. Судьба. Может быть, оттого, что он приближался к порогу отрочества, он много размышлял о судьбе. Судьба. Конечно, и он сыграет свою роль в судьбе славян. И уж конечно, молился Иванушка, чтобы Страшный суд не наступил прежде, чем он не совершит великие подвиги, — ибо для славы и подвигов и родился он на свет.
Он не подозревал, что его судьба решается в этот миг.
День выдался для Игоря неудачный. Помолвку Иванушки, как ему казалось, прочно скрепленную согласием сторон, нынче расторг отец невесты, и Игорь никак не мог взять в толк почему. Знатное семейство, с которым он мечтал породниться, внезапно пошло на попятную. Происшествие это было весьма и весьма досадным, хотя в иное время он бы заставил себя о нем забыть.
А теперь еще и это. Молча глядел он на стоящего перед ним человека.
Игорь был высок ростом и внушителен. У него был длинный прямой нос, глубоко посаженные глаза и чувственный рот, волосы черны как вороново крыло, но остроконечная бородка уже поседела. На шее у него висел на цепочке маленький металлический диск с выгравированной древней тамгой его клана, трезубцем.
Происхождение многих киевских аристократов было трудно угадать. В самом деле, даже среди множества русских князей, предками которых были скандинавы, светловолосые и белокожие встречались не реже черноволосых и смуглых. Однако Игорь вел свою родословную от сияющих аланов.
Род его пришел с востока. Вместе с другими представителями аланских и черкесских кланов отец Игоря примкнул к великому воину, князю Руси, и стал вместе с ним участвовать в походах за реку Дон, а поскольку сражался он храбро (не было равного ему всадника), то был даже принят в княжескую дружину. Когда князь вернулся в свои земли, отец Игоря сопровождал его и так дошел до рек и лесов Руси. Там он женился на благородной варяжской девице, и теперь их сын, Игорь, в свою очередь служил в дружине князя киевского.
Однако, кроме воинского поприща, были у Игоря и деловые интересы. В городе Киеве можно было вести самую разнообразную торговлю. Из плодородных черноземных южных областей в города, расположенные в огромных северных лесах, можно было посылать зерно, а по реке в Константинополь перевозить меха и рабов. С запада, из Богемии, доставляли серебро, а из земель, находящихся еще дальше за нею, — франкские мечи. Из Польши и с западных окраин Руси привозили важнейшую приправу — соль. А с востока, из сказочных неведомых стран, либо речным путем, либо караванами, по степи, доставляли множество чудесных вещей: шелка, камку, драгоценности, пряности.
Торговые связи Руси и в самом деле были весьма обширны. На всем протяжении водных торговых путей, объединяющих север и юг, — от северных прибалтийских лесов до степей по берегам теплого Черного моря — располагались фактории и даже крупные города. На севере важную роль играл Новгород. На середине водных торговых путей, в верхнем течении Днепра, находился Смоленск, а к западу от него — Полоцк. К северу от Киева располагался Чернигов, а южнее, образуя форпост на границе со степью, — Переяславль. Каждый из этих городов, как, впрочем, и многие другие, мог похвастаться тысячным населением. Примерно тринадцать процентов жителей Руси были купцами или ремесленниками — куда больше, чем в феодальной Западной Европе. Таким образом, по гигантской территории, где население жило охотой (охотясь старинными, дедовскими методами) или примитивным земледелием, были разбросаны многочисленные оживленные центры торговли, экономических союзов и товарно-денежной экономики. А правили ими главы торговых династий.
Итак, будущий сват расторг помолвку Иванушки со своей дочерью. Игорь, усмирив в душе обиду, надеялся, что встреча с товарищем по торговым делам изгладит разочарование. Уже давно он намеревался снарядить караван на юго-восток, по степным землям. Там, за полноводным Доном, где Кавказские горы спускаются из поднебесья к Черному морю, располагалось на полуострове Тамань древнее русское поселение Тмутаракань. А напротив Тмутаракани, на широком полуострове Крым, что выдавался в море в центре северного берега, простирались гигантские солончаки. В последние годы эту торговлю с Тмутараканью ослабило могущественное степное кочевое племя половцев. Однако, как сказал Игорь, «если мы сможем привезти большой груз соли, то в накладе не останемся».
Все складывалось неплохо. В начале лета они собирались привести несколько ладей, груженных солью, в маленькую факторию и крепость Русское на окраине степи; там у его товарища был склад. Оттуда и отправится караван под охраной вооруженных конников. «Жаль только, я не смогу с вами пойти», — искренне заметил он.
А потом обратился к компаньону с просьбой, которая повергла того в смущение.
Человек, сидевший напротив него, был на несколько лет младше. Он был не так высок, как Игорь, но массивен — с тяжелым подбородком, крупным восточным носом, набрякшими веками и черными глазами. У него были густые черные волосы и черная борода, подстриженная широким клином, а на затылке, грозя вот-вот упасть, красовалась крохотная ермолка. Это был Жидовин Хазар.
Он принадлежал к странному племени. На протяжении нескольких столетий его предки, воинственный народ тюркского происхождения, царствовали на территории, что простиралась от пустыни на берегах Каспийского моря до самого Киева. Когда адепты ислама подчинили себе Ближний Восток и попытались перейти через Кавказские горы на великую Евразийскую равнину, именно могучие степные хазары вместе с грузинами, армянами и аланами смогли остановить их на горных перевалах. «Так что скажите нам спасибо за то, что Киев сейчас не исповедует ислам», — любил напоминать он своему другу Игорю.
Хазарское царство ушло в прошлое, но хазарские купцы и воины до сих пор курсировали по степи между Киевом и своими опорными пунктами в пустыне, а в Киеве существовала крупная хазарская торговая община, поселившаяся возле городских ворот, названных Жидовскими. Ни один из товарищей Игоря не мог бы снарядить караван и провести его по степи более умело, чем Хазар Жидовин, лишь ему, по мнению Игоря, это было под силу. В самом деле, Игорь полагал, что у его компаньона только один недостаток.
Хазар Жидовин исповедовал иудаизм.
Все хазары исповедовали иудаизм. Эту религию они приняли, когда, на вершине их могущества, правитель их решил, что примитивное язычество недостойно их нынешнего царского статуса. Поскольку халиф Багдадский исповедовал ислам, а император Константинопольский — христианство, то правитель степей, не желая предстать младшим, второстепенным союзником ни того ни другого, вполне разумно выбрал последнюю оставшуюся религию, предполагающую веру в единого Бога, и хазарские полководцы перешли в иудаизм. Вот потому-то Жидовин говорил и на славянском, и на тюркском языке и предпочитал писать на них, пользуясь древнееврейским алфавитом!
— Возьмешь с собой в поход моего младшего сына Иванушку?
Только об этом и просил его друг Игорь. Так почему же тогда хазар медлил с ответом? Ответ, впрочем, был совсем прост: брать Иванушку с собой Жидовин боялся. Слишком хорошо знал он мальчика.
«Ясное дело, — думал он. — Если на нас нападут половцы и он погибнет в схватке с ними — что ж, это понятно. Но я этого мальца знаю как облупленного. Все будет по-другому. Он чего доброго в реку свалится да утонет или еще как-нибудь пропадет по глупости. А вина на мне». Но все ж ответил уклончиво:
— Иванушка еще молод. Не взять ли мне лучше его братьев?
Игорь прищурился:
— Ты мне отказываешь?
— Конечно нет, — смутился хазар. — Если ты уверен, что этого хочешь...
А теперь внезапно смутился Игорь. В иное время он просто приказал бы Жидовину взять Иванушку с собой, и тот подчинился бы. Но сегодня сердце его уже было уязвлено расторжением помолвки, и Игорь вдруг почувствовал, как его охватывает стыд. Хазар отлично разбирался в людях, стало быть, просто не хотел возиться с его сыном. На какое-то мгновение Игоря обуял гнев на Иванушку. Воин не любил неудачников.
— Не важно. — Он встал. — Ты прав. Он еще слишком молод.
На том размолвка была исчерпана.
Или почти исчерпана, ведь, уже уходя из дома хазара, он не удержался и спросил:
— Скажи мне, что ты думаешь об Иванушке? Каков он нравом?
Жидовин минуту подумал. Мальчик ему нравился, он немного походил на одного из его собственных сыновей.
— Он мечтатель, — любезно ответил хазар.
На обратном пути Игорь почти не поднимал глаз на красную звезду. Истому христианину не пристало сомневаться, что се — знамение Господне. А долг христианина — нести любые испытания, которые на него обрушатся. «Иванушка — мечтатель», — сказал Жидовин. Игорь знал, как прозвали мальчика собственные братья. «Святополк иначе как Иванушкой-дурачком его не величает», — с грустью подумал он.
А что с дурачком делать, ему было невдомек.
Спустя три дня красная комета исчезла с небосклона, и более никаких знамений в ту зиму на небе не появлялось.
Пришла весна. В начале каждого года в этих плодородных краях землю заливала вода, и вода эта была речная. Киев по праву считался городом на воде. Они вот-вот его увидят. Длинная ладья ровно шла по течению широкого, спокойного Днепра. Четверо гребцов в такт налегали на весла, ведя ладью по направлению к городу. Игорь стоял с сыном на корме, обнимая Иванушку за плечи.
Трехсаженная ладья была выдолблена из цельного древесного ствола. «Нет деревьев выше тех, — сказал Игорь сыну, — что растут на русской земле. Любой может взять топор и вырубить себе лодку из нашего могучего дуба». И теперь, стоя рядом с отцом, мальчик думал, что никогда еще не видел такого тихого, безмятежного утра.
Иванушка одет был в простую льняную рубаху и штаны, а поверх них накинул бурый шерстяной кафтан, ведь утро было еще холодное. На ногах у него ладно сидели маленькие зеленые кожаные сапожки, которыми он очень гордился. Его светло-каштановые волосы были подстрижены коротко, «под горшок».
На рассвете они побывали выше по течению, на запрудах, где княжеские данники ловили рыбу, а сейчас, успев управиться за утро, возвращались в город, на раннюю трапезу. А после того... Иванушка ощущал дрожь нетерпения, отдававшуюся где-то в желудке, ибо настал решающий день.
Он поднял глаза на отца. Как часто он видел его на какой-нибудь караульной площадке на высоких деревянных стенах над рекой: орлиным оком взирал он на простирающуюся далеко внизу водную гладь. Теперь же, когда Игорь, высокий и худой, стоял на корме, закутавшись в длинный черный плащ, действительно могло показаться, что он вот-вот раскинет руки, как крылья, взовьется в небо и замрет над рекой и лесами, чтобы внезапно камнем ринуться сверху на ничего не подозревающую добычу.
Какой сильной была отцовская рука, приобнимающая сейчас его за шею! Впрочем, сила эта была не только мужской, земной, человечьей: подле Игоря Иванушка ощущал и иную силу, волной прибывающую из прошлого, — неуловимую, точно призрак, неотступную, словно воспоминание, но наполняющую все его существо живым, трепетным теплом. «В твоих жилах течет кровь могучих воинов, — часто повторял ему Игорь. — Они сражались как львы, мир не знал наездников, которые сравнились бы с твоим дедом и прадедом; еще до прихода хазар, когда еще и горы были юными, наши предки уже славились силой и могуществом». И сердце его начинало учащенно биться, стоило отцу добавить: «А когда-нибудь и ты тоже поведаешь об этом своим сыновьям и тем, кто придет после них». Вот что означало иметь отца и быть сыном.
А сегодня он наверняка начнет свое великое поприще, уподобившись отцу и старшим братьям, и сделается воином, богатырем.
Монах разрешит все сомнения.
Тихо скользила ладья по волнам. В утренней тишине великий поток, открываясь взору, нес свои воды на юг. Воздух был прохладен, но тих. Туман еще клубился над рекой, и ее мощное, неустанное течение едва ощущалось на поверхности. Перед Иваном расстилалась бесконечно ускользающая, но неизменная и неподвижная река. Если посмотреть на юг, серо-синие воды и бледно-голубые небеса, казалось, сливаются на горизонте, образуя нежную дымку и вдалеке делаясь неотличимыми друг от друга, тогда как на востоке золотистый солнечный свет рассеивался в тумане.
Теперь перед ними стали вырисовываться вдали очертания городских зданий, и Иванушка едва слышно вздохнул в восхищении. Как прекрасен был Киев!
На правом берегу Днепра, отвесно возвышающемся над водой больше чем на пятнадцать саженей и ощетинившемся высокими деревянными частоколами, город протянулся версты на три, сильный, могущественный и неприступный, взирая с высоты на тихие, безмятежные окрестности.
Город состоял из трех главных частей. В первую очередь это был северный участок, находящийся на невысоком холме: там стоял мощный старинный детинец с княжеским теремом и большой церковью, основанной за восемьдесят лет до описываемых событий самим Владимиром Святым и называемой Десятинной. На юго-западе, совсем рядом с ним, отделив лишь небольшим оврагом, возвели новый, куда более внушительный «город»; построили его по приказу великого сына Владимира Ярослава Мудрого, составителя «Русской правды», первого русского свода законов. С «городом Ярослава» граничил еще один участок, даже больше предыдущего; он сбегал к реке и тоже был защищен деревянными стенами. Это была окраина, так называемый Подол, где селились купцы победнее и ремесленники. А реку усеивали причалы, к которым приставали неуклюжие, массивные парусные ладьи.
Многие высокие здания в Киеве были сложены из кирпича. На Подоле почти все, исключая несколько церквей, было выстроено из дерева. Насколько хватит глаз, землю покрывали приветные лиственные леса, растущие даже на высоких, отвесных склонах, обрывавшихся над Днепром.
Повсюду в городе блестели в лучах утреннего солнца золоченые кресты с дополнительной косой перекладиной, символизирующей в восточном христианстве подножие, на которое опирались ступни Христа, и сияли золотом широкие купола церквей. Воистину, великий город сам походил на огромный, сверкающий корабль, скользящий по речным волнам.
Хотя правый берег был высок и усеян частоколами, левый был низок, и здесь, как и во многих иных местах по течению Днепра, река затопляла берега. Поблескивая на солнце, заливала она поля, принося с собой не только воду, но и плодородный ил. Каждую весну благодаря этому чудесному омовению земля возрождалась.
Когда город стал приближаться, Иван забеспокоился. Не так давно у него, слишком быстро растущего отрока, обнаружилась боль в коленях. Но самое главное — он не мог сдержать волнение.
Ведь всего неделю тому назад Игорь объявил ему: «Пора нам решить, как поступить с тобою. Возьму-ка я тебя к отцу Луке».
Это была великая честь. Отец Лука был духовным наставником его отца, и тот никогда не принимал ни одного важного решения, предварительно не посоветовавшись с ним. Говоря о старом монахе, он всегда с почтением понижал голос, уверяя, что его духовник всеведущ. И всегда отправлялся к нему в одиночестве. Даже старших братьев Иванушки Игорь никогда не привозил к отцу Луке. Неудивительно, что, когда Игорь сообщил ему о готовящейся поездке, Иванушка сначала покраснел, а потом побледнел.
Он снова и снова воображал предстоящую встречу. Добрый старик, высокий, с пышной, ниспадающей на грудь белоснежной бородой, с ангельски умиротворенным ликом, с очами, сияющими подобно солнцу, возложит длани на главу его, благословляя, и объявит: «Воля Господа, Иван, в том, чтобы ты стал великим воином». Вот как должно быть. Он посмотрел сначала на отца, потом на крепостной вал с блаженной доверчивостью во взоре.
А Игорь поглядел на сына. Правильно ли он поступает? Ему казалось, что да, но он намеревался обмануть Иванушку.
Как красивы его родители, как красивы его братья! Его охватывал блаженный трепет, стоило ему только взглянуть на своих близких. Все они собрались в палате большого деревянного терема. Свет проникал сквозь окна, забранные не стеклом, а слюдой. Свет также отражался от желтых глиняных изразцов, которыми был выложен пол, и потому вся палата, казалось, была напоена сиянием.
Со стола еще не убрали остатки утренней трапезы. У стены возвышалась большая печь; в углу напротив висела маленькая иконка Николая Чудотворца, а перед нею, на трех серебряных цепочках, — крохотная глиняная лампадка. На сундуке справа стояли, тускло поблескивая, два больших медных подсвечника. Восковые свечи в них пока не зажгли. Посреди комнаты, в тяжелом резном дубовом кресле, навощенном и отполированном до такого блеска, словно оно было выточено из черного дерева, сидела его мать.
— Что ж, Иванушка, готов ли ты?
Он был готов и с радостью смотрел на нее.
Она была облачена в богатый парчовый сарафан. Пояс ее был расшит золотом. Широкие рукава нижней рубахи словно окутывали ее нежные запястья облаками белой ткани. На одной кисти она носила серебряный браслет, украшенный драгоценными каменьями: зелеными азиатскими лалами и теплым янтарем с северного побережья Балтийского моря. В ушах у нее красовались серьги с жемчужными подвесками. На стройной шее висела на цепочке золотая лунница. Русские аристократки одевались вот так, подобно знатным гречанкам Константинополя, столицы Византии.
Сколь бледно было ее широкое чело, сколь изящно покоилась рука с обращенными долу, унизанными золотыми кольцами перстами, на резном льве, украшающем подлокотник кресла. Сколь нежно ее лицо, сколь исполнено доброты. И все же стоило ей взглянуть на него, как по лицу ее пробегала тень грусти. Отчего же она печалилась?
Оба его брата также присутствовали на проводах. Оба они, Святополк, которого сопровождала его белоликая прелестная молодая жена-полька, и Борис, были одеты в кафтаны с богато расшитыми поясами и с собольими воротниками. Иванушка старался любить их в равной мере, но, хотя он и восхищался обоими, он невольно побаивался Святополка. Говорили, что Святополк как две капли воды похож на отца, но точно ли это было так? Ведь если во взгляде Игоря читалась отрешенность и сдержанность, то лицо Святополка часто искажалось гневом и горечью. Но почему же? И хотя оба брата, случалось, награждали его затрещинами, именно рука Святополка была тяжелее и немилостивее.
По приказу отца Иванушка оделся в простую льняную рубаху, перехватив ее поясом, и порты. Вопреки желанию матери, ему все же позволили поехать в его любимых зеленых сапожках. А руки и лицо ему как следует вымыли в большом медном чане, стоявшем на умывальнике.
Игорь тоже отправился в путь в простой одежде, и его рубаху отличала от крестьянской только изящная вышитая кайма. «Богатые украшения неуместны там, куда мы едем», — сурово повторял он. Глаза у Иванушки сияли. Он был так взволнован, что смог проглотить только кусочек хлеба да чуть-чуть овсяной каши. И вот, поцеловав мать и братьев, он выбежал во двор и спустя несколько мгновений верхом на своей маленькой лошадке, чувствуя, как холодит его щеки прохладный, влажный воздух, выехал на улицу.
Там было грязно. Дома знати чаще всего представляли собой большие одно- или двухэтажные деревянные терема с высокими деревянными шатровыми крышами и службами на заднем дворе. Дома эти возводились на небольших участках земли, огороженных частоколами, и эти дворики сейчас так промокли от растаявшего снега и весенних дождей, что от наружных ворот к стойлам пришлось проложить мостки. Кое-где на улице тоже положили доски, но там, где их не было, лошадиные копыта утопали в грязи.
Иванушка на своем сером коньке трусил за отцом на почтительном расстоянии. Как же был он статен и величав: простой черный плащ ниспадал с его плеч поверх белой рубахи, и Иванушка взирал на царственную его осанку с безграничным восхищением. Игорь ехал на своем лучшем вороном коне. Отцовского коня звали именем древнего императора, но за несколько веков имя это изменилось и теперь звучало округлей, плавней: Троян.
Простой люд, встречая отца и сына, прикладывал правую руку к сердцу и кланялся в пояс; даже священники в рясах с уважением склоняли перед ними головы. Игорь был не им, холопам да смердам, чета, — если б, боже упаси, кто-нибудь убил такого знатного мужа, то должен был бы платить сорок серебряных гривен виры, а жизнь простого крестьянина, «смерда», оценивалась всего в пять.
Даже имена представители правящего класса носили не такие, как простонародье. Князья и их избранные приближенные часто получали «царские» имена с корнем «слав» — «похвала» — или «мир», то есть «вселенная». Таковы были и великий князь Владимир, и его сын Ярослав. Любили в знатных семьях и скандинавские имена вроде Рюрика и Олега. Даже супруга Игоря, хотя и была славянкой, звалась Ольгой — русский вариант скандинавской Хельги. Среди простого люда все еще были в ходу славянские имена-прозвища — Щек или Мал. Но более всего отличала знать от простолюдинов манера, в которой полагалось к ним обращаться: если смерд мог быть просто Ильюшкой, то аристократ добавлял к своему имени имя отца — отчество. Так, юный Иванушка был Иваном, сыном Игоря, или Иваном Игоревичем. Да и всех троих братьев могли величать «сыновьями Игоря», Игоревичами, ведь все знали Игоря: был он не просто знатным мужем, но дружинником самого князя киевского. Много было князей в земле Русской. Каждый торговый город на великих водных путях был под защитой и управлением своего собственного князя, а все князья числились потомками славного варяга Олега, который отвоевал Киев у хазар двести лет тому назад. Во время описываемых событий наиболее крупные города этой огромной «империи», торговые пути которой пролегали по воде, находились в руках сыновей последнего князя киевского, могущественного Ярослава Мудрого. Сыновья Ярослава избрали форму престолонаследия по старшинству: старший брат получал главный город, Киев, а остальные разбирали города поменьше — в зависимости от возраста — и приносили клятву верности князю киевскому. Так и вышло, что повелитель Игоря был старшим, или великим, князем киевским; в городе Чернигове к северу от Киева княжил его брат Святослав; осторожный Всеволод, третий по старшинству, правил в Переяславле, городе поменьше, расположенном на юге. Если один из братьев умирал, ему наследовал не сын, а следующий за ним по старшинству брат, и потому младшие братья один за другим, в порядке старшинства, постепенно получали все более и более крупные города.
Игорь служил князю киевскому. Более того, он едва ли не считался членом княжеского совета. Братья Иванушки тоже уже вошли во внешний круг дружины, хотя Борис еще ходил в отроках — был младшим помощником, не то слугой, не то оруженосцем; Иванушка приходил в восторг при мысли, что и он когда-нибудь пойдет по их стопам.
«Спешиться!» — раздался строгий приказ отца, и Иванушка вздрогнул, очнувшись от своих мечтаний. Они проехали всего несколько сотен саженей, но Игорь уже соскочил с коня и шел пешком, и Иванушка, подняв глаза, понял почему. Они достигли собора. При виде собора ему сделалось страшно.
В обнесенном стенами городе Ярослава Мудрого было немало прекрасных зданий. Кроме красивых деревянных теремов знати, там возвели монастыри, церкви, школы и чудесные ворота, выстроенные из камня, именуемые Золотыми. Они были особенно хороши, так как их венчала возносящаяся под небеса маленькая надвратная церковь Благовещенья с золотым куполом. Но нигде на землях русских не сыскать было собора более величественного, чем тот, что возвышался теперь перед ними, ведь подобно тому, как отец его, Владимир Святой, воздвиг свою великую Десятинную церковь в старом детинце, Ярослав начал строительство огромного собора в новом.
Ярослав освятил его в честь святой Софии; да и какое иное имя пристало ему, когда все знали, что величайшая церковь Византии, престол патриарха Константинопольского, — во имя святой Софии, Премудрости Божьей?
Этот новый северный народ гордо объявлял себя «русами», но веру, обычаи, самый уклад жизни он перенимал у греков. Духовенство высокого сана по большей части состояло из греков. Даже единственный славянин, красноречивый проповедник, возглавивший Русскую церковь десять лет тому назад, именовался по-гречески — Иларионом. При крещении славянским детям избиралось еще одно, крестильное имя, в честь святого покровителя — из греческих святцев. Владимир Святой — во крещении стал Василием, а сыновья его Борис и Глеб поминались в церквях как Роман и Давид. Сколь велик был представший перед ними собор! Он был возведен из красного гранита, выложенного узкими длинными полосами и скрепленного почти такими же по длине и ширине слоями розового цементного раствора. Массивная, довольно приземистая красно-розовая твердыня, задуманная поразить всякого величием и могуществом недавно обретенного христианского Бога была видна издалека. В центре ее сиял большой золотой купол, сходный с тем, что венчал Константинопольский собор, а вокруг него теснились двенадцать куполов поменьше. «Они олицетворяют нашего Господа и двенадцать апостолов», — пояснил ему Игорь. Собор был почти достроен. Только небольшие подмости с одной стороны здания свидетельствовали о том, что работы еще не окончены. С трепетом Иванушка перешагнул порог.
Если снаружи собор напоминал крепость, то внутри обширные сумеречные пространства казались целой вселенной. В стиле величественных византийских церквей с запада на восток он был поделен чередой пяти нефов; посредине проходил самый широкий, его обрамляли по обеим сторонам по два нефа поуже. На восточном фасаде располагались пять полуциркульных апсид, на западном, высоко над полом, — хоры, где собирались на молитву князья и их придворные и откуда они глядели сверху вниз на простой народ. А посреди церкви, под огромным куполом, помещалось обширное пространство, где священники в сияющих облачениях являлись прихожанам, а земля соприкасалась с небесами.
Но более всего во внутреннем убранстве этого огромного, полутемного, словно пещера, храма привлекали взор и поражали воображение не высокий купол, не пять нефов, не массивные колонны, а мозаики.
Увидев их, Иванушка затрепетал. Они покрывали все стены от самого пола, теряясь под куполом. Они изображали Богоматерь, возносящую руки в молитве, как принято показывать ее в восточной христианской традиции; Отцов Церкви; Благовещение; таинство причастия. Выполненные из кубиков синей и коричневой, красной и зеленой смальты, выделяющиеся на сияющем золотом фоне, все эти образы, величественные и внушающие благоговейный страх, взирали на бренный, исполненный тщеты мир внизу. Темноволосые, с бледными овальными лицами и черными очами, устремляли они со своих золотистых стен скорбные, но бесстрастные взоры на людскую суету где-то под ними. А в вышине царил Христос-Пантократор, Вседержитель, всеведущий, но непознаваемый, недоступный никаким земным мудрствованиям, взирал Он с главного купола, и Его большие греческие глаза прозревали все и словно не различали ничего.
В церкви земля встречалась с небом, в полутьме мерцали сотни свечей, а на стенах сияли золотые мозаики, озаряя своим великим и ужасающим светом мрак, владеющий миром.
Несколько священников нараспев читали молитву.
«Господи помилуй». Они пели на церковнославянском варианте обиходной речи, одновременно понятном и таинственном, священном.
Игорь зажег свечу и в безмолвной молитве стал у иконы рядом с одной из массивных колонн, а Иванушка тем временем оглядывался по сторонам.
Все знали историю обращения Владимира Святого: он направил послов в земли, где исповедовали три великие религии — ислам, иудаизм и христианство, — и его посланники, вернувшись из Константинополя, возвестили ему, что в греческой христианской церкви «они и сами не ведали, на земле они или на небесах».
Возводя соборы, подобные этому, императоры Константинополя — а теперь и князья Киева, которые стали им во всем подражать, — совлекали видимые, зримые небеса на землю и напоминали своим подданным, что именно они, правители, молящиеся на хорах вверху, — предстоятели вечного Господа, золотая вселенная которого, всемогущего и непознаваемого, незримо присутствует в земном мире.
Игорь, в жилах которого текла восточная кровь, обретал покой в размышлениях об этом абсолютном, непознаваемом, всевластном начале. Иванушка, наполовину славянин, инстинктивно чуждался такого Бога, тоскуя по более теплому и благому божеству. Потому-то в этом прекрасном соборе он и дрожал, словно от холода.
Спустя несколько минут он с радостью вышел из храма и отправился к воротам, за которыми начиналась тропа, уводившая по лесу к монастырю, и решалась его судьба.
Наконец они достигли монастырских ворот.
Сперва они поскакали по такой чудесной дороге, что Иванушка преисполнился восторга. Проехав мимо изб черного народа, разбросанных то там, то сям под городскими стенами, они повернули по тропе на юг, к мысу Берестово, который теперь стал предместьем Киева и на котором располагался загородный дворец самого Владимира Святого. Слева, за верхушками деревьев, можно было рассмотреть поблескивающую внизу реку, а дальше, за широким разливом половодья, по равнине простирались леса, уходящие за горизонт. Дубы и буки, уже покрывающиеся новой листвой, словно окутали всю открывающуюся взору местность мягкой светло-зеленой дымкой под омытым дождями голубым небом. Ничто не нарушало сладостного пения птиц в тишине весеннего утра, и Иванушка, блаженствуя, ехал вслед за отцом на юго-запад, по направлению к широкому мысу, где примерно в трех верстах от города находилась монашеская обитель.
И все же Иванушка по-прежнему не догадывался, зачем отец взял его с собой.
Игорь безмолвствовал, погруженный в свои размышления. Правильно ли он поступает? Даже для столь благочестивого и сурового боярина, как он, сегодняшняя поездка была необычайным шагом, ведь Игорь задумал отдать Иванушку в монастырь.
Он долго терзался, прежде чем принять это решение. Обыкновенно бояре не хотели видеть своих сыновей даже священниками, а тем более монахами. Жизнь в бедности и смирении представлялась им позорной, а те аристократы, что выбирали духовное поприще, почти всегда делали это против воли своей семьи. Бесспорно, боярин вроде Игоря мог проводить по нескольку часов в день в молитве, князь на смертном одре мог постричься в монахи, но для молодого человека похоронить себя в монастыре, приняв обет бедности, было неслыханно.
И только когда на небе взошла красная звезда, замысел его обрел отчетливые очертания. «Я не хочу сказать, что Иванушка — дурачок, — говорил он жене, — но он мечтатель. Сегодня ночью я застал его глядящим на звезду, и если бы не увел его в дом, то он бы замерз до смерти. Быть ему монахом». Игорь приложил немало усилий, чтобы стать воином, членом княжеской дружины и деловым человеком; ему ли не знать, что для этого требуется. «Не думаю, что по силам Иванушке моя стезя».
«Ты к нему излишне строг», — возразила Ольга.
Действительно ли он был чрезмерно строг к сыну? Но какой же отец стерпит — хотя в этом Игорь никогда не признался бы вслух, — что любимый сын его слаб и никчемен? И разве в душе его не звучал чуть слышно неведомый голос, повторяющий: «Мальчик похож на тебя, ты мог стать таким, как он».
И вот неделя проходила за неделей, никаких возможностей для мальчика не представлялось, и все чаще Игорь размышлял: «Может быть, хотя мне это и не по нраву, Господь избрал этого моего сына для себя». А постепенно Игорь уже начал строить планы, как сладить дела, если Иванушка и вправду примет постриг, хотя все же и печалили его эти думы.
В планы эти входили долгие беседы с отцом Лукой, которому он открывал все свои помышления. Впрочем, может, и лукавил иногда Игорь, расписывая, как влечет мальчишку духовная стезя. Он умолял старого монаха посмотреть на мечтательного мальчика и ободрить и воодушевить его, если и вправду заметит тот в отроке склонность к подобному призванию. Ведь если отец Лука сам пригласит Иванушку стать одним из братьев монастыря, как же сможет мальчишка отказаться от такой чести?
Жене он сообщил о своем выборе всего лишь за день до отъезда в Киев, и Ольга, услышав, что он задумал, побелела.
— Нет! Только не это, не прогоняй его! — взмолилась она.
— Конечно нет, — ответил он. — Он примет постриг, только если сам того захочет.
— Но ты намерен его поощрять.
— Я только покажу ему монастырь, не более.
С лица Ольги не сходило выражение скорби и отчаяния. Она тоже хорошо знала своего младшего сына. Что угодно могло завладеть его воображением.
— Он запросто может вбить себе в голову, что хочет постричься в монахи, — сказала она. — И тогда я навеки его потеряю.
— Он может остаться в Киеве, — возразил Игорь. Будучи честолюбив, он втайне надеялся, что мальчик какое-то время прослужит в одном из великих греческих монастырей на далекой горе Афон, ибо так получали высокий духовный сан. Мальчик может даже сделаться вторым Иларионом! Но жене Игорь об этом не сказал.
— Я никогда его больше не увижу.
— Все сыновья покидают матерей, — продолжал он. — А потом, если будет на то воля Божия, нам останется только смириться. И кто знает, а вдруг это и есть его дорога? Может быть, даже станет счастливее меня. — И хотя нехорошо было говорить так собственной супруге, но была в этих нечаянных Игоревых словах и своя правда. — Я только покажу ему собор и монастырь, — пообещал он ей. — Отец Лука побеседует с ним. Вот и все.
А что же сам мальчик?
«Ну, может, и вправду — увидит он монастырь, да и прикипит к нему сердцем», — подумал Игорь. Тогда и придется ему сказать Иванушке правду и открыть, что никогда мечтателю не стать боярином. А такая правда нелегка. Но к тому времени найдется и другой выход. «И тогда поглядим», — заключил он.
Так и случилось, что этим утром Иванушка приехал в монастырь.
Никогда прежде он здесь не бывал.
Они добрались до северной оконечности мыса и двигались дальше, пока не доехали до открывшейся среди леса поляны и не увидели поблизости прочных деревянных ворот. Монах в черной рясе поклонился им, когда они проезжали во двор, а Иванушка, бледный от волнения, принялся оглядываться по сторонам.
Монастырь оказался довольно невзрачным. Небольшая деревянная часовенка да несколько сбившихся в стайку домишек, где жили насельники монастыря, а рядом с ними — два низких, похожих на сараи строения: трапезная и лечебница для больных. Ничего похожего на великолепный собор, подумал Иванушка разочарованно и решил, что есть во всем облике монашеской обители что-то печальное.
Хотя солнце уже давно взошло, на темных стенах изб еще виднелись капли росы, словно деревянные срубы пропитались холодной влагой сырой земли. Между деревьями виднелись крупные валуны. Там и сям на расчищенном под двор участке попадались пятна светло-бурой грязи. Надо же, весна-красна, а паломников не покидало чувство, будто сейчас осень, пора листопада.
Не прошло и двадцати лет с тех пор, как Антоний Печерский, придя из далекой Греции, с Афона, нашел это уединенное место с его пещерами. Вскоре к святому присоединились другие жаждущие духовного подвига, и эта маленькая община, состоявшая из примерно десяти отшельников, вырыла глубоко в земле настоящие соты из крошечных келий и подземных переходов. Кельи эти теперь находились у паломников под ногами, и Иванушку охватило странное чувство при мысли, что там, внизу, под землей, молятся Богу люди святой жизни и слышат каждый его шаг наверху. Он знал, что сам Антоний жил отдельно от монашеской общины в собственной пещере, откуда являлся только по особым случаям, например, для того, чтобы потребовать у князя киевского этот холм в полное владение и затем исчезнуть снова. Однако, как гласила молва, святой дух его парит над обителью, подобно туманной дымке, стелющейся над землей. Тем временем твердые в вере монахи, возглавляемые добрым Феодосием, выстроили не только подземный, но и надземный монастырь. А одним из этих праведников стал отец Лука.
Иванушка и его отец спешились. Один монах увел их коней в стойло; другой, пошептавшись с боярином, исчез за дверью маленькой избы.
— Оттуда ведет путь в пещеры, — пояснил Иванушке отец.
Они подождали. Двое пожилых насельников монастыря в сопровождении третьего, человека лет двадцати с небольшим, медленно прошли мимо них в деревянную часовню. Иванушка заметил, что один из монахов носил на шее большую тяжелую цепь и, казалось, двигался с трудом.
— Зачем он надел на себя цепь? — прошептал он. Отец посмотрел на него так, словно он ляпнул какую-то глупость.
— Для умерщвления плоти, — сухо ответствовал он и благоговейно добавил: — Это богоугодное деяние.
Иванушка не сказал ни слова. Щекой он ощутил слабое дуновение холодного ветра.
Тут дверь избы напротив медленно отворилась, и давешний монах вышел, придерживая дверь для кого-то, идущего следом. Иванушка услышал, как отец его прошептал: «Вот он». Он затаил дыхание, увидев над порогом полу рясы. Настал долгожданный миг, наконец появится благочестивый провидец и предречет ему славную судьбу.
И тут из избы вышел маленький, щупленький человечек.
Волосы у него были седые и, хотя и причесанные, не очень чистые; да и черная ряса его, перехваченная полуистлевшим кожаным ремнем, явно нуждалась в стирке. Борода у него была всклокоченная и неопрятная. Он зашаркал к ним, а монах не отставал от него ни на шаг, словно для того, чтобы подхватить его, если тот оступится.
Лицо у отца Луки было морщинистое, мертвенно-бледное, с густыми, нависшими бровями, которые казались еще более насупленными оттого, что он так сильно сгорбился. Медленно приближаясь к паломникам, он приоткрыл рот, словно готовясь встретить высоких гостей приветливой улыбкой. Иванушка заметил, что зубы у него желтые, стариковские и многих не хватает. Очи его не сияли, подобно солнцу, как воображал прежде мальчик, отнюдь нет. Глаза у старца слезились и, кажется, слегка косили. Старец был занят тем, что, почти не поднимая глаз, глядел на свои ноги в кожаных, весьма рваных башмаках, сквозь дыры в которых виднелись его грязные ступни. Но то, как выглядел муж святой жизни, было еще полбеды.
Запах.
Те, кто долго живут в подземных кельях, не только бледнеют, уподобляясь трупам, но и пропитываются ужасным смрадом; именно волна этого смрада, окутывающего отца Луку, и оттолкнула мальчика окончательно. Запах был невыносим, и Иванушке невольно пришли на ум сырость, тлен, мертвая плоть и гниющая опавшая листва. Монах остановился рядом с ним.
Он услышал, как отец промолвил:
— Это Иванушка, — и склонил голову.
Вот, значит, каков отец Лука. Иванушка не мог в это поверить. Ему хотелось убежать. Как отец мог обмануть его столь жестоко? «Только бы, — взмолился он, — монах до меня не дотронулся».
Когда он наконец заставил себя поднять глаза, то увидел, что его отец и старый монах о чем-то тихо беседуют. Старец время от времени взглядывал на Иванушку, и глаза его оказались голубыми, взор их — куда более проницательным и пытливым, чем мальчику представилось поначалу. Отец Лука иногда устремлял взгляд на Иванушку, а потом снова опускал глаза долу.
Взрослые будничным тоном обсуждали дела самые обыкновенные, житейские: торговлю и политику Тмутаракани, цену на соль, строительство нового монастыря Святого Дмитрия в городе. Все это представлялось Иванушке странным и довольно скучным. Поэтому старец застиг его врасплох, внезапно кивнув в его сторону головой и промолвив:
— Значит, ты мне про этого молодца говорил.
— Про него самого.
— Иван, — продолжал отец Лука, словно бы ни к кому не обращаясь, но с легкой улыбкой поглядывая на мальчика. — Вот такое имя и пристало христианину.
Действительно, в те времена лишь немногие русские носили это имя, славянскую форму древнееврейского Иоанн. Однако, дав двоим старшим сыновьям в качестве домашних обычные славянские имена, а христианские имена оставив для них лишь как крестильные, Игорь по какой-то причине нарек третьего сына всего одним, христианским именем.
Иванушка заметил, что отец ободряюще улыбается ему, пытаясь вселить в него уверенность, но истолковал эту улыбку как напоминание, что ему-де надобно произвести достойное впечатление, и, как всегда в таких случаях, тотчас же словно сжался в комочек, смутился, смешался и от страха забыл обо всем на свете. Следующий вопрос старца лишь усугубил его смятение и ужас:
— По нраву ли тебе здесь?
Что он мог ответить? Он был так опечален, что, услышав прямой вопрос, не в силах был более сдерживать свои чувства и скрывать боль разочарования. Из глаз у него хлынули слезы; в ярости на отца, в безудержном отчаянии, он не в силах был поднять взгляд, и тут у него вырвалось:
— Нет!
Он почувствовал, как его отец окаменел от гнева:
— Иван!
Он оторвал взгляд от земли и встретился глазами с разъяренным отцом. Монаха же его ответ, по-видимому, нисколько не смутил.
— Что ты здесь видишь?
Вопрос снова застал его врасплох. Он казался таким простым, что, слишком взволнованный, чтобы его обдумать, Иванушка тотчас же выпалил:
— Гниющие листья.
Он услышал, как его отец ахнул от негодования, а потом, к своему удивлению, увидел, как монах протягивает бледную, костлявую руку и ласково берет Игоря за плечо.
— Не сердись, — мягко упрекнул он боярина. — Мальчик всего-навсего сказал правду.
Он вздохнул:
— Но молод он еще тут жить.
— Здесь и молодые селились, — резко возразил ему отец.
Монах кивнул, но явно без большого воодушевления.
— Случалось, — согласился он и повернулся к Иванушке.
Что будет дальше, Иванушка не мог и вообразить. Уж никак не то, что сделал старец, а он спросил:
— Что ж, Иван, хочешь ли стать священником?
Священником? Да о чем этот старик только думает! Иванушка намеревался стать героем, боярином. С открытым ртом, в ужасе уставился он на монаха.
Суховато улыбаясь, обернулся отец Лука к Игорю:
— Ты уверен, что не ошибся, друг мой?
— Я думал, так будет лучше, — отвечал Игорь, сдвинув брови от гнева и смущения.
Иванушка поднял глаза на отца. Поначалу ему трудно было понять даже, что именно они обсуждают, но постепенно, преодолевая свое внутреннее смятение, он стал осознавать: если его отец полагал, что ему надобно сделаться священником, значит его считали недостойным боярского звания. И вот к едва пережитому разочарованию оттого, что внушающий благоговейный трепет отец Лука оказался маленьким неопрятным старичком, добавилась двойная боль — оттого, что отец обманул его и отверг, даже не сообщив о своих намерениях.
Тут отец Лука достал книгу и открыл ее.
— Это литургия святого Иоанна Златоуста, — сказал он. — Можешь прочитать?
И показал Иванушке молитву.
Мальчик, запинаясь, прочел, и отец Лука тихо кивнул. Потом он достал другую книгу и показал ее Иванушке, но письмо в ней было иное, чем то, к которому привык мальчик, и он покачал головой.
— Это старинный алфавит, придуманный для славян блаженным святым Кириллом, — объяснил старец. — На самом деле есть еще монахи, которые до сих пор предпочитают старинное письмо. Но сегодня мы пользуемся алфавитом, изобретенным последователями Кирилла: большинство букв в нем греческие, а называют его кириллицей. Если хочешь стать священником, не мешало бы тебе все это знать.
Иванушка повесил голову и промолчал.
— Мы в нашем монастыре, — тихо продолжал старец, — живем согласно уставу, введенному нашим игуменом Феодосием. Сей устав мудр. Наши монахи много времени проводят за пением и молитвой в часовне, но и благотворят — например, ходят за больными. Есть и те, кто и вправду выбирает себе более суровое послушание и отшельничество в кельях или в пещерах, где подолгу остаются одни. Но таков их выбор.
— Это выбор угодника Божьего, — почтительно вставил Игорь.
На отца Луку это не произвело особого впечатления.
— Жизнь такая под силу не всем.
Он вздохнул, и вздох его напомнил Иванушке шипенье. Ему казалось, что монах дышит реже и не так глубоко, как обычные люди.
— Жизнь иноческая есть постоянное стремление приблизиться к Господу, — тихо продолжал он. Трудно было сказать, обращается он к Игорю или к его сыну. — Тот, кто неустанно взыскует единения с Господом, умаляется плотью, но прирастает духом — такова щедрость Господа нашего.
В ушах Иванушки тихий голос монаха звучал словно шелест опадающих листьев.
Тут отец Лука зашелся сухим, хриплым кашлем. И Иванушка подумал: «Он точно полова, в землю зарытая».
— И потому тело умирает, чтобы душа жила вечно.
Иванушка знал, что некоторые монахи у себя в кельях спят в гробах, дабы приуготовиться к смерти.
Он почувствовал, что отец Лука бесстрастно смотрит на него, наблюдая, как принял мальчик его слова, — но все равно не смог скрыть отвращения и желания позабыть о смерти.
— Однако это не смерть, — продолжал отец Лука, словно угадав его мысли, — ибо Христос победил смерть. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Вот потому-то, хотя плоть наша подвластна смерти, наши души живут в Духе Господнем, умаляясь пред Ним.
Но если старец произнес эту фразу с намерением утешить и успокоить мальчика, то не преуспел.
Аскетический идеал умерщвления плоти был известен издавна. Много веков ему следовали одержимые религиозным рвением отшельники христианской Сирии. Выбирая его, монахи не причиняли себе неумеренной дикой боли, в отличие от флагеллантов на Западе, но медленно, постепенно лишали себя жизненных сил, чтобы плоть, укрощенная и смирённая, не препятствовала жизни духа и служению Господу.
По-прежнему внимательно глядя на Иванушку, монах продолжал:
— Но такие крайности под силу лишь немногим. Большинство здешних иноков ведут жизнь простую и мирную, посвященную служению Господу и своим единоверцам. Воистину, именно такой устав одобрял игумен Феодосий.
Однако Иванушка слишком уж упал духом и потому не находил утешения ни в чем.
— Ты хочешь служить Господу? — внезапно вопросил старец.
— Да, конечно.
Он готов был расплакаться. О, как страстно он мечтал служить Господу! Как часто в мыслях он видел себя верхом на коне, скачущим по колышущемуся степному ковылю во имя Господа навстречу язычникам кочевых племен — без тени сомнений и колебаний.
Старец хмыкнул:
— Сын твой еще слишком мал. Он еще слишком привязан к собственному телу.
Отец Лука произнес эти слова тихо, без гнева, но явно изрекая окончательный приговор. Он отвернулся от Иванушки.
— Думаешь, монаха из него не выйдет? — с тревогой спросил Игорь.
— Господь касается всякого в положенное время. Мы и сами не ведаем, что с нами станется.
— Значит, вы не станете обучать его и готовить к священническому сану? — попробовал было Игорь получить разъяснение.
Но, не отвечая, отец Лука обернулся к Иванушке и возложил длань ему на голову, то ли благословляя мальчика, то ли нет, — кто знает.
— Вижу, ты отправишься в странствие, — промолвил он, — из которого вернешься.
С этими словами он снова отвернулся.
«В странствие?» — лихорадочно соображал Иванушка. Неужели он говорил о путешествии на Дон? Наверняка все так и есть. И не сказал ни слова о том, что Иванушке надлежит сделаться священником. По крайней мере, остается надежда.
Тем временем старый инок довольно сурово воззрился на Игоря.
— Ты слишком много постишься, — резко сказал он.
— Но разве поститься запрещено? — изумленно переспросил Игорь.
— Пост есть десятина, которую мы платим Господу, всего десятая часть, и не более. Будь умереннее в соблюдении постов. Ты слишком строг к самому себе.
— А молитвы?
Иванушка знал, что его отец подолгу молится на рассвете, а потом три или четыре раза в течение всего дня.
— Молись сколько хочешь, коль скоро не забываешь о делах, — жестко ответил монах. Он помолчал, а затем продолжил: — Эти посты пришли в нашу Церковь с латинского Запада, через Моравию. Я не из тех, кто вечно бранит Запад, но слишком усердно поститься мирянину глупо. Если хочешь упорствовать в неумеренных постах, перейди в Римскую церковь и прими ее обряд, — добавил он с легкой улыбкой.
Более десяти лет тому назад между Восточной и Западной христианскими церквями, то есть между Константинополем и Римом, произошел раскол. Несогласия касались главным образом понимания Божественного начала и Святой Троицы в христианской вере, хотя определенную роль в этой схизме сыграли также особенности богослужения и теологические тонкости. Папа притязал на высшую власть в мире, а Восточная церковь воспротивилась этому. Однако разрыв между церквями в ту пору был еще не столь глубок.
Незлая насмешка монаха лишь напомнила: Игорь — его духовное чадо и потому обязан его слушаться.
— Я сделаю, как ты велишь, — ответствовал боярин. — А что же сын мой: если не быть ему священником, то кем тогда?
Отец Лука даже не взглянул в сторону Иванушки.
— Один Господь ведает, — ответил он.
1067
Киев златоглавый был прекрасен. Впрочем, одно препятствовало процветанию земли Русской: правители ее придумали политическую систему, которая не давала ей развиваться. Причиной тому стала особая форма престолонаследия — лествичное право.
Ведь когда княжеский род принял решение, что города будут передаваться не от отца к сыну, а от брата к брату, никто не мог предвидеть катастрофических последствий такого выбора.
Поначалу, когда городом правил тот или иной князь, он мог сажать на княжение своих сыновей в городах поменьше, давать им уделы, расположенные на подвластных ему землях. Но когда он умирал, им приходилось отказываться от своих владений в пользу следующего по старшинству князя, зачастую даже не получая ничего взамен. Хуже того: если один из братьев князя умирал до того, как ему даровали удел, то его детей совершенно исключали из длинной череды тех, кто мог рассчитывать на наследство. Существовало немало таких безземельных князей, которым судьба не сулила ничего хорошего, и название для них было то же, что и для других обездоленных и не имеющих собственных доходов, — изгои.
И даже если лествица, которая предусматривала передачу земель от старшего брата к младшему, и не порождала изгоев, из-за нее все равно возникали нелепицы, тягости и беды.
Русские князья жили на свете долго, и сыновей у них было много. Бывало, что старший сын производил на свет собственных сыновей и те успевали стать взрослыми воинами и государственными мужами до того, как вырастал младший отпрыск старого князя, их дядя. И всем им приходилось отказываться от власти в пользу этого дяди — сущего юнца. Что удивительного в том, что племянники роптали?
Поколения менялись — и становилось все труднее установить, кто и на что имеет законное право, и уж тем более — прийти к согласию по поводу наследуемых уделов. Устанавливались договоры о любви и мире, заключались союзы — но все было тщетно: сама система наследования по природе своей была нежизнеспособна. Князья киевские так и не нашли достойного решения.
Киев златоглавый был прекрасен, однако с недавних пор Иванушке казалось, что этому златоглавому городу угрожает резкий, яростный свет. В воздухе чувствовалась измена. И теперь, спустя год после того, как зловещая звезда появилась на небе глухой зимой, смысл этой мрачной вестницы судьбы, озарившей небосвод, становился понятен всем жителям земли Русской.
Поначалу Иванушка даже опасался за жизнь своего отца.
Среди князей, правивших в земле Русской, не было никого, страннее князя полоцкого. Ходили слухи, что он оборотень. Внушал страх одним своим видом.
— Он родился в рубашке и един глаз у него диким мясом заплыл, — сказала Иванушке мать, — да так по сей день и носит язвено свое.
— А он что, и вправду злодей? — спросил Иванушка.
— Хуже Бабы-яги, — ответила она.
Мятеж, поднятый князем полоцким, был обыкновенным династическим спором. Хоть и не был изгоем обездоленным внук Владимира Святого, однако из числа основных наследников его исключили, и потому, хотя он и княжил в городе Полоцке, но ни Киева, ни Новгорода, ни Чернигова, ни какого иного города и покрупней, и побогаче было ему не видать.
Пока другие, не столь влиятельные князья-изгои затевали междоусобицы на окраинах, князь полоцкий не нарушал мира. Но внезапно в середине зимы он напал на Новгород, и в пору, когда еще не стаяли глубокие снега, Игорь и двое его старших сыновей поскакали на север вместе с князем киевским и его братьями.
Если бы только мог Иван отправиться в поход с ними... Со времени посещения инока прошел год, и год этот принес Иванушке одни несчастья. Из-за половецких набегов на степные владения русов караван, который Игорь намеревался снарядить вместе с Хазаром Жидовином, отложили. Игорь несколько раз пытался определить сына в свиту того или иного князя, но все тщетно. Неоднократно отец спрашивал его, не хочет ли тот снова побывать в монастыре, но каждый раз отрок только опускал голову, и Игорь пожимал плечами и отворачивался. А теперь отец и братья охотятся на оборотня.
— Отец убьет его, — повторял Иванушка, провожая близких, но в душе был не столь уверен в благоприятном исходе. Прошло три недели. Пришли вести: мятежный Минск пал и войска двинулись дальше на север. После этого настала тишина.
И вот в начале марта, когда еще не сошел снег, под вечер Иванушка услышал конский топот и позвякивание сбруи, донесшиеся со двора; он выбежал из терема и увидел, как спешивается высокий, суровый всадник.
Это был его брат Святополк. Как красив и храбр он был, как похож на отца! Он взглянул на Иванушку.
— Мы победили, — сухо объявил он. — Отец возвращается вместе с Борисом. Он послал меня вперед передать эту весть матери.
— А оборотень?
— Проиграл битву и бежал. С ним покончено.
— Что случилось в Минске?
Святополк улыбнулся. Почему рот его, когда он улыбается, растягивается в злобной ухмылке и почему он улыбается, только говоря о том, как кого-то убивают, терзают и мучают?
— Мы вырезали всех мужчин, а женщин и детей продали в рабство. — Он усмехнулся коротким сухим смешком. — Рабов захватили столько, что цена на них упала до полгривны за голову.
Иванушка прошел следом за ним в дом.
— Кстати, есть и для тебя добрые вести, — небрежно бросил Святополк.
— Для меня? — переспросил Иванушка и стал лихорадочно соображать, что же это может быть.
— Одному Богу ведомо почему, — заметил Святополк. — Ты этого ничем не заслужил.
Святополк произнес эти слова весело, но Иванушка знал, что брат не шутит.
— И что ж это за вести? Скажи мне какие!
— Тебе скажет отец.
По-видимому, Святополка не очень-то радовали эти добрые вести, какими бы они ни были. Он сухо улыбнулся, а затем отвернулся от младшего брата.
— А вот теперь помучайся до приезда отца, погадай, поломай голову! — промолвил он, входя в дом.
Иванушка услышал, как мать плачет от счастья. Он знал, что она любит Святополка, ведь тот был вылитый отец.
Вести, которые на следующий день принес отец, были столь удивительны, что Иван не мог в них поверить.
Младший брат князя киевского Всеволод сидел на столе в прекрасном южном приграничном городе Переяславле, расположенном примерно в ста верстах по течению Днепра от столицы. Всеволод заключил брак, который произвел немалое впечатление на русскую знать, ведь он взял в жены византийскую царевну из рода самих Мономахов. А их сын Владимир был всего на год старше Иванушки.
— Нам еще надобно устроить встречу мальчиков, — с гордостью пояснил Игорь жене, — но мы с Всеволодом подружились во время похода, и в целом он согласился... согласился, — подчеркнул Игорь, сурово воззрившись на Иванушку, — чтобы Иван стал отроком-гридем при молодом Владимире.
— На сей раз судьба тебе благоволит, — сказала Иванушке мать. — Говорят, Владимир — юноша даровитый и впереди у него большое будущее. Поступить к нему на службу, когда вы оба еще так юны... — Она развела руками, словно хотела сказать, что Иванушке достанутся сокровищница киевская и византийская столица Константинополь, вместе взятые.
Иванушка был вне себя от волнения.
— Когда? Когда? — только и смог вымолвить он.
— Я отвезу тебя в Переяславль на Рождество, — пообещал Игорь, — так что к этому времени лучше подготовься.
И с этими словами жестом велел сыну уйти.
— А все-таки жаль мне расставаться с Иванушкой, — призналась Ольга мужу, когда они остались вдвоем. — Я буду скучать по нему.
— Таков жребий женщины, — холодно заметил Игорь, не желая сознаваться в том, что и его печалит предстоящая разлука с сыном.
Вскоре после этого в конюшне произошел случай, который потряс бы Игоря и его супругу, если бы они о нем узнали.
Сначала братья пришли туда втроем. Борис, широко улыбаясь, дружески хлопнул младшего брата по плечу, так что тот растянулся во весь рост на соломе; потом он дал Иванушке целую серебряную гривну на счастье и ускакал на Подол. Иванушка и Святополк остались вдвоем.
— Что ж, братец, разве я не говорил тебе, что тебя ждут добрые вести? — тихо заметил Святополк, восхищенным взглядом окидывая своего коня.
— Да.
Иванушку охватило дурное предчувствие, что сейчас он услышит от брата какую-то гадость.
— Я бы даже сказал, что ты добился большего, чем мы с Борисом, — задумчиво добавил Святополк.
— Ты и правда так думаешь?
Иванушка понимал, что перед ним открывается блестящая будущность, но не задумывался о практической стороне дела.
— «Ты и правда так думаешь»? — не оборачиваясь, передразнил его Святополк.
Иванушка непонимающе уставился на него, гадая, что последует за его выпадом. Внезапно Святополк обернулся к нему. Его темные глаза были полны ненависти и презрения.
— Ты ничем не заслужил такой чести. Тебе было назначено церковное поприще.
— Но так решил отец...
— Да, так решил отец. Но не думай, что можешь меня обмануть, я вижу тебя насквозь, ты от меня ничего не скроешь. Ты честолюбец. Ты хочешь добиться большего, чем мы. Прикидываешься этаким простачком, а на самом-то деле ты думаешь только о себе.
Иванушка был столь поражен этой неожиданной вспышкой, что просто потерял дар речи. Неужели он и вправду честолюбец? Он в замешательстве воззрился на Святополка.
— Что, — язвительно продолжал его брат, — правда глаза колет? Почему бы тебе не признать, что ты хуже нас? Мы-то это давно знаем. Ты — каверзник и лукавец, только и знаешь — строить ковы, одно слово — змей.
Последнее обвинение он прошипел, и Иванушка ощутил его физически, словно обрушившийся удар. Святополк тем временем совсем разошелся.
— Ты наверняка и отцовской смерти дожидаешься? — добавил он.
Иванушка и понятия не имел, что он хотел этим сказать.
— Как ты думаешь, во сколько обошлось бы отцу твое монашество? — и дальше просвещал его Святополк. — Он сделал бы несколько пожертвований, только и всего. А если ты теперь станешь отроком-гридем при княжеском сыне, значит он выделит тебе такое же наследство, как и нам. Значит, ты отбираешь мою законную долю и у меня.
Иванушка мучительно покраснел. К глазам его подступили слезы.
— Я не хочу, чтобы отец умер. Можешь взять себе мою долю. Все взять.
— Вот радость-то, — глумливо усмехнулся брат, — легко сказать. Само собой, теперь, когда монастырь тебе не грозит, ты и будешь так петь. Но еще поглядим.
Иванушка расплакался. Святополк не сводил с него глаз.
И это стало только началом Иванушкиных бед.
1068
Иванушка нарушал волю отца.
Но что поделать, если в этот день в городе происходили столь удивительные вещи.
Мальчику казалось, что вот уже два года не ослабевает зловещее влияние красной звезды. Но даже если помнить об этом, вокруг творилось многое, что и постичь было трудно.
Его так и не представили молодому князю Владимиру — поскольку скончалась византийская царевна, мать князя. «Владимир вместе с отцом оплакивает ее, — пояснил Игорь, — сейчас не время. Ну, подождем год — все устроится». Но и года не прошло, как отец Владимира женился во второй раз, на половецкой княжне.
«Это политика, — втолковывал ему Игорь. — Ее отец — могущественный половецкий хан, и князь хочет защитить Переяславль от нападений степных кочевников». Но не прошло и месяца, как на Русь вновь напали половцы и теперь грабили и жгли еще пуще прежнего.
Киевский князь так и не приглашал его к себе. Похоже, он забыл о своем обещании, и Иванушка слонялся без дела по Киеву.
Может быть, его брат Святополк и в самом деле говорил правду, когда одним холодным весенним утром прошипел ему на ухо: «Не быть тебе Владимировым гридем, сам знаешь. Не зовут они тебя, потому что прослышали, какая ты ни на что не годная бездарь». А когда он стал спрашивать, откуда они могли это узнать, Святополк ухмыльнулся и прошептал: «Может быть, я им поведал».
А кроме того, не утихала смута вокруг князя полоцкого. Разбив его в бою, князь киевский и его брат обещали допустить оборотня на переговоры, не чиня ему никаких препятствий. А затем вероломно заманили в ловушку и бросили в темницу в Киеве, где он до сих пор и томился. Однако, когда Иванушка спросил у отца, не грех ли совершать предательство, тот только мрачно ответил, что лгать иногда приходится. Иванушка не мог взять в толк, как это возможно.
И в довершение бед, грозя уничтожить всех и вся, обрушились половцы. Не прошло и недели, как русы выступили в поход, желая нанести степным налетчикам решающий удар... И потерпели поражение. К своему стыду, его отец и князья бежали обратно в Киев и укрылись за каменными стенами княжьего двора. Хуже того — дружина отнюдь не спешила поквитаться за позорное свое бегство. День за днем напрасно ждал Иванушка, что его отец и бояре снова пойдут на половцев. Но возможно ли, чтобы они боялись врагов? Возможно ли, чтобы они бросили свой народ на милость завоевателей, спрятавшись за высокими стенами? Не иначе как их опутали злые чары красной звезды, думал мальчик.
И вдруг ясным сентябрьским утром всколыхнулся весь город. Вне себя от ужаса прискакали во весь опор к княжескому терему вестники, возгласив, что на Киев надвигается половецкое войско. На Подоле, за стенами кремля, спешно созывали городское собрание, знаменитое вече. Все жители города устремились туда.
Пошли толки о мятеже.
Вот почему этим утром, вместо того чтобы вместе со своей семьей укрыться в высоком чертоге княжеского терема, он выскользнул оттуда, перешел по мосту овраг, отделявший старый город от нового, и направился мимо собора Святой Софии к воротам, за которыми открывалась дорога на Подол.
В новом городе царила зловещая тишина. Знать бросила свои терема: на подворье его отца не видно было ни лошадей, ни конюхов. Кое-где на улицах ему попадались навстречу женщины и дети да иногда священник, однако все мужское население города, казалось, ушло на вече на Подол.
Иванушка хорошо знал, что такое вече. Даже сам князь киевский боялся его. Конечно, обыкновенно горожане вели себя на вече смирно, а все решения принимали там богатейшие купцы. Однако в неспокойные, переломные времена каждый свободный горожанин имел право прийти на вече и выразить свое мнение.
— А если вече взбунтуется, — объяснял ему Игорь, — настанет истинный ужас. Даже княжеская дружина не в силах будет сдержать их.
— А сейчас люди разозлились? — спросил он.
— Они вне себя. Сиди здесь, никуда не выходи.
Пробираясь по городу Ярослава, Иванушка так разволновался, что почти и забыл о приказании отца никуда не выходить. Он поспешил через ворота на рыночную площадь.
На торжище яблоку негде было упасть. Никогда в жизни не видел он столько людей. Даже из близлежащих городков и селений пришли они сюда — купцы и ремесленники, свободные торговцы и работники русских городов-государств, — и собралось их несколько тысяч. На каждой стороне площади стояло по церкви: одна — приземистая, кирпичная, в византийском стиле, с плоским центральным куполом, другая — поменьше, деревянная, с высокой двускатной крышей и маленькой восьмиугольной башенкой посередине. Они словно надзирали за происходящим, освящая собрание самим своим присутствием. Посреди торжища установили деревянный помост, к которому были прикованы все взоры. Огромного роста темнобородый купец в красном кафтане влез на него. Он потрясал посохом и, подобно внушающему благоговейный ужас ветхозаветному пророку, обличал власти.
— Почему этот князь сидит здесь, в Киеве? — громогласно вопрошал он. — Почему его семья княжит в других городах? — Он остановился, дожидаясь, пока толпа не замолчит, желая услышать его ответ. — Они сидят здесь на столе, потому что мы пригласили их предков прийти сюда и править нами. — Он ударил посохом. — Варяги пришли с севера, потому что мы, славяне, сами их сюда призвали!
Переписывание истории, которое длилось уже много поколений, устраивало обе стороны: скандинавов — потому что узаконивало их правление, поначалу захватническое и разбойничье, а славян — потому что тешило их гордость.
— Зачем мы привели их на Русь? — обвел купец горящим взглядом площадь, словно бросая вызов самим церквям: пусть, мол, попробуют опровергнуть его слова. — Сражаться за нас. Защищать наши города. Вот зачем они здесь!
В этом была доля истины. Даже сейчас природа отношений между князьями и городами, которыми они правили, была неясной: князь защищал город, но не владел им и тем более не мог распоряжаться землей, которая до сих пор принадлежала свободным крестьянам или общинам. Всем было известно, что в Новгороде народное вече отвергало князей и никогда не позволяло своему избранному защитнику и его дружине владеть землей в городских пределах. Поэтому слова купца не показались Иванушке странными. Более того, он покраснел от гордости, услышав, что его отца и подобных его отцу людей именуют защитниками земли Русской.
— Но они не защитили! — оглушительно взревел купец. — Не того мы от них ждали! Половцы грабят наши села и деревни, а князь и его воеводы сидят себе и горя не знают!
— Так что же нам делать? — закричали несколько голосов.
— Выбрать нового воеводу! — предложил один.
— Выбрать нового князя! — завопил другой.
Иванушка ахнул. Они же говорят о князе киевском! Однако эта мысль, казалось, пришлась толпе по вкусу.
— Так кого же избрать? — хором вопросило вече.
А сейчас великан-купец на своем помосте вновь пристукнул посохом.
— Все наши беды из-за предательства, — завопил он, — когда Ярославичи нарушили клятву и бросили в темницу князя полоцкого! — Он указал в сторону княжьего двора. — Там заточен невинный князь полоцкий!
Ему не пришлось продолжать. Даже Иванушке было понятно, что многих в толпе тщательно подготовили к этому мгновению.
— Князь полоцкий! — взревела толпа. — Хотим князя полоцкого!
Потом Иванушка не мог вспомнить, что именно последовало за этими призывами. Он только увидел, как спустя минуту толпа, словно управляемая единой железной волей, хлынула наверх, подхватив его с собой. У собора Святой Софии людская река разделилась на два рукава. Одна половина повернула налево, к приземистому кирпичному зданию возле собора, где томился странный князь с полузаросшим глазом. Остальные бросились по узкому мосту к терему князя.
Пора было возвращаться к родным. Он должен был предупредить их об опасности. Он попытался опередить толпу, кинувшуюся по мосту в детинец, но понял, что уже не успеет.
Впрочем, сначала он не догадывался, что не сможет вновь попасть в княжеский чертог. Но несколько минут спустя, когда толпа его вынесла на площадь перед высоким, защищенным прочными стенами зданием княжеского жилища, он осознал, что ему грозит. Слева возвышалась стена; справа широкие каменные ступени вели к большой дубовой двери, накрепко запертой. Окна располагались здесь на высоте примерно трех саженей над землей и были недосягаемы. Кирпичный терем прямо перед ним представлял собой несколько башен с бойницами, расположенными на разной высоте над головами толпы. Две двери внизу были заперты и закрыты на засов. Даже если ему удалось бы пробиться сквозь толпу, он не смог бы попасть внутрь.
Толпа осыпала князя и его приближенных проклятиями:
— Предатели! Трусы! Чтоб вас половцы поели!
Однако высокая красная стена дворца, казалось, взирала на мятежников с полнейшим безразличием.
Прошло несколько минут. Где-то поблизости загудел колокол, созывая монахов на молитву. Иванушка взглянул налево, где на краю площади поблескивали золотые купола старинной Десятинной церкви. Однако толпа умолкла лишь на миг, а потом снова принялась кричать.
Иванушка заметил, как высоко-высоко, в маленьком окошечке, появилось большое раскрасневшееся лицо, и узнал в человеке, уставившемся на беснующуюся внизу толпу, самого Изяслава, князя киевского. Толпа тоже увидела его. Она яростно взревела и бросилась к стенам дворца. Лицо исчезло.
Только сейчас Иванушку осенило, что если бунтовщики догадаются, что он сын одного из Изяславовых бояр, то ему несдобровать. «Я должен пробраться внутрь», — подумал он. Попасть в княжий терем можно было только еще одним путем: по двору, располагавшемуся позади здания. Это означало, что придется обойти несколько строений по боковой улице, а оттуда добираться до ворот. Он повернулся и стал протискиваться сквозь толпу назад, но это оказалось нелегко. Густая толпа, казалось, колыхалась из стороны в сторону, почти сбивая его с ног всякий раз, когда он пытался протиснуться сквозь нее, и за несколько минут он продвинулся всего на десяток шагов.
Он не успел еще достаточно приблизиться к выходу с площади, как по толпе прокатился ропот, постепенно переросший в многоголосый шум, а затем и в неистовый рев: «Сбежали! Их там нет!»
С изумлением смотрел он, как человек, которому удалось по спинам товарищей вскарабкаться в одно из окон, исчез из глаз. Спустя три минуты одна из дверей распахнулась — и толпа, не встречая сопротивления, хлынула внутрь.
Князь и его дружина ушли из города. Вероятно, они спаслись бегством по тому самому двору, откуда он надеялся попасть в здание. Иван молча стоял и смотрел, на миг словно лишившись чувств и окаменев. Выходит, что его семья тоже бежала. А его бросила на произвол судьбы!
Теперь толпа пробивалась вперед, стремясь ворваться в пустое здание. В окнах, высоко над площадью, стали появляться люди. Внезапно он различил блеск золота. Кто-то бросил драгоценный кубок вниз другу в толпе, а вот за кубком последовала соболья шуба, и он с ужасом осознал, что мятежники грабят княжеский терем!
Иванушка повернул назад. Он не знал, что делать, но понимал: нужно как можно скорее убираться с площади. Может быть, он каким-то чудом сумеет разыскать своих родных в лесах к югу от города. Когда толпа устремилась вперед, в терем, он с трудом добрался до какой-то маленькой боковой калитки и нырнул в нее. И тотчас же оказался на полупустой улице.
— Иван! Иван Игоревич! — позвал кто-то. Он обернулся. К нему бежал один из слуг его отца. — Отец твой послал тебя искать. Пойдем!
Никогда в жизни не был Иванушка так рад кого-то видеть.
— Мы можем поехать к нему? — с надеждой спросил Иванушка.
— Об этом и думать нечего. Они все бежали, все. А дороги перекрыты.
И тут, словно в подтверждение его слов, на улицу выбежали несколько человек. «Князь полоцкий освобожден! — кричал они. — Вот он едет!» И действительно, в конце улицы Иванушка увидел с десяток всадников, легким галопом скачущих по направлению к ним, а среди верховых безошибочно различил самогó ужасного оборотня.
Он был выше среднего роста и ехал верхом на вороном скакуне. Трудно было сказать, во что именно он одет, так как фигуру его скрывал широкий бурый, довольно грязный плащ. Лицо у него было крупное, с весьма широкими скулами, а вся его осанка свидетельствовала о сдержанной силе, заключенной в его теле. Однако Иванушка не мог отвести взгляд от его взгляда.
Один глаз его действительно был прикрыт складкой кожи, но это не уродовало его так, как ожидал Иванушка. Он не был отталкивающе страшен — как бывают страшны изуродованные огнем или раз навсегда скованные уродливой судорогой, — напротив, одна половина его лица казалась странно неподвижной, на ней застыло отрешенное выражение, какое иногда бывает свойственно слепым. Но зато другая половина была исполнена жизни, ума, свидетельствовала о честолюбивых устремлениях, а от взора его пронзительно-голубого глаза, чудилось, ничто не в силах укрыться.
Это было лицо одновременно прекрасное и трагическое. А взгляд здорового глаза, внезапно понял Иванушка, был прикован не к кому-нибудь, а к нему.
— Сюда, быстрее! — настойчиво тянул его отцовский слуга в какой-то боковой проход. — Нельзя, чтобы они тебя узнали.
Иванушка не стал сопротивляться, и слуга утащил его с улицы. Прогрохотали копыта, полуслепой князь и его свита проскакали мимо. А когда оборотень уже удалился, Иванушку охватило странное чувство, будто князь, подобно какому-то сказочному существу, наделенному волшебной силой, заметил и узнал его.
— Куда мы идем? — спросил он.
— Увидишь.
С этими словами слуга торопливо повел его на Подол.
Дом Жидовина Хазара, хотя и не столь большой, как терем Игоря, был прочным деревянным строением в два этажа, с двускатной деревянной крышей, двумя просторными горницами с окнами, выходящими на улицу, и задним двором. Он стоял прямо у Жидовских ворот, под стеной возведенного Ярославом города. «Надо затаиться на несколько дней, — объяснил Иванушке слуга, — потом смута уляжется, и мы незаметно вывезем тебя отсюда».
Небольшие отряды мятежников уже прочесывали город в поисках семей бежавших дружинников.
— А что они со мной сделают, если найдут? — спросил Иванушка.
— Посадят в поруб.
— Только и всего?
Слуга посмотрел на него как-то странно.
— Лучше не попадай в темницу, — медленно произнес он. — Как попадешь в острог, тут тебе и... — Он махнул рукой, словно бросая ключ в колодец. — Но не тревожься пока, — добавил он уже бодрее. — Жидовин о тебе позаботится. — И с этими словами был таков.
Иванушке пришлась по нраву жизнь у Хазара и его семьи. Жена Хазара была темноволосая, полная женщина, почти столь же массивная, как ее супруг. У них было четверо детей, все младше Иванушки, и он проводил большую часть дня, играя с ними в стенах дома. «Тебе пока лучше на улице не показываться, как бы чего не вышло», — предостерег его Хазар.
Иногда Иванушка рассказывал им сказки. А однажды, к немалому веселью Хазара, его дети помогли Иванушке прочитать фрагмент Ветхого Завета на древнееврейском, а Иванушка притворился, будто его переводит, ведь по-славянски он знал этот отрывок наизусть.
Перелом наступил на третий день. Все внезапно изменилось ранним утром, когда Жидовин прибежал домой и объявил своему семейству:
— Князь киевский бежал в Польшу просить короля о помощи.
Иванушка посмотрел на него с удивлением:
— Значит, мой отец отправился в Польшу вместе с ним?
— Думаю, да.
Иванушка приумолк. Польша находилась далеко на западе. Неужели его родные переселятся в эти чужие страны? Неожиданно он остро ощутил свое одиночество.
— Уж не нападут ли на нас поляки? — с беспокойством спросила жена Жидовина.
— Может быть, — недовольно поморщился Хазар. — Ты же знаешь, польский король и князь Изяслав — родичи. — Тут он перевел взгляд на Иванушку. — Есть и еще кое-что. Прошел слух, будто кто-то в Хазарской слободе прячет дитя одного из дружинников. А на случай, если придется драться с Изяславом и поляками, — он сделал многозначительную паузу, — они ищут заложников. Сейчас обыскивают детинец.
Воцарилась напряженная тишина. Иванушка почувствовал, что все взоры обратились к нему. Понятно, что его присутствие с каждым днем тяготило их все больше и больше. Он побледнел и, неловко, смущенно взглянув на чувственное, полное лицо жены Хазара, тотчас же понял, что, если он будет представлять угрозу благополучию ее семьи, она без колебаний выдаст его.
Однако именно жена Жидовина, помолчав, медленно промолвила:
— Он не похож на хазара, но мы что-нибудь придумаем.
Потом она посмотрела на Иванушку и негромко засмеялась.
Потому-то и случилось, что к вечеру того же дня в семье Хазара появился новый родич.
Волосы его, тщательно окрашенные, были черны. Особыми травами кожу его сделали более смуглой. Надели на него черный кафтан и маленькую турецкую ермолку. С помощью Жидовина и его жены он даже научился кое-как произносить несколько слов по-турецки.
— Если спросят, — он ваш двоюродный брат из Тмутаракани, — наставляла остальных детей мать.
А на следующий день стражники князя-оборотня, войдя в дом и лицом к лицу встретившись с женой Хазара, увидели среди других хазарских детей этого тихого, серьезного мальчика.
— Говорят, один из Игоревичей остался в Киеве, — объявили они, — а твой муж ведет дела с Игорем.
— Мой муж со многими ведет дела.
— Мы обыщем дом, — тоном, не допускающим возражений, повелел десятник, возглавляющий этот маленький отряд.
— На здоровье.
Пока подчиненные осматривали дом, десятник пребывал в горнице с женой Жидовина.
— Кто это? — внезапно спросил он, указывая на Иванушку.
— Племянник мой из Тмутаракани, — спокойно пояснила она.
Десятник уставился на мальчика.
— Давид, иди сюда, — приказала она по-турецки.
Но когда Иванушка встал с места, стражник нетерпеливо отвернулся.
— Хватит, оставь! — раздраженно бросил он.
С тем они и ушли.
Так в 1068 году Иванушка ждал, как решится его судьба в полном опасностей, ненадежном мире.
1071
Шла весна, и в маленьком сельце Русское царила тишина.
Речка Русь вышла из берегов, и невозможно было понять, где ниже жилых строений начинается болото и где кончается поле.
На восточном берегу всего-то и было в деревеньке что две коротенькие немощеные улочки да третья, подлиннее, пересекающая их под прямым углом. Избы были выстроены из дерева, глины и лозняка в разных соотношениях. Одни были покрыты торфом, другие — соломой. Сбившиеся в стайку избы эти окружал частокол, впрочем, судя по виду, предназначенный не столько для того, чтобы защититься от серьезного врага, сколько для того, чтобы не выпустить наружу скот. К северу от деревни виднелся сад, в котором росли вишни и яблони.
Чуть южнее деревни, на участке, где паводок покрыл землю неглубоко, над водой виднелись тоненькие колышки. Там, на клочке земли, обильно затопляемом каждую весну, выращивали овощи. В должное время там взойдут капуста, горох, лук и репа. Растили на огороде и чеснок, а ближе к осени снимали урожай тыквы.
Однако на западном, поросшем лесом речном берегу, что был повыше, недавно появилось что-то новое. Там, где берег достигал своей предельной высоты, поднимаясь над рекой саженей на пять, его дополнительно повысили, насыпав земляной вал, а сверху водрузив еще прочную дубовую стену. Это сооружение возвели за полвека до описываемых событий. В стенах его, кроме нескольких длинных, низких бараков для размещения войска и конюшен, построили еще два больших склада для надобностей купцов и маленькую деревянную церковь. Это была крепость. Как и бóльшая часть окрестных земель, она принадлежала князю переяславльскому.
Сельцо было примечательно еще кое-чем. Саженях в двадцати пяти от въезда в деревню, на приветной возвышенности, откуда открывался вид на реку, располагалось кладбище. Рядом с погостом возвышались два каменных столба высотой в три с лишним сажени, украшенные резными навершиями в форме высоких скругленных шапок с широкой меховой оторочкой. То были идолы, представляющие двух главных богов деревни: Велеса, скотьего бога, и Перуна-громовника, ибо, несмотря на все усилия княжеских священников, многие деревни вроде Русского продолжали втайне исповедовать язычество. Даже у деревенского старейшины было две жены.
Как раз мимо кладбища этим ясным весенним вечером и брел одинокий путник, погруженный в нерадостные мысли.
Тот, кто ни разу не видел его за последние три года, не смог бы узнать Иванушку. Он вырос, догнав своего старшего брата Святополка, но исхудал и побледнел. Под глазами у него залегли темные тени, вид был измученный и изможденный.
Однако перемены ощущались не только в его облике, в нем произошел и более разительный перелом. Странно, непоправимо изменилась и его прежняя радостная и чистая душа. И низко опущенная голова, и потупленный долу взор, и нарочито небрежная походка человека, которому безразлично, куда он идет, — все это словно говорило: «Мне все равно, что вы обо мне думаете; что мне до вас!» Однако тот же безмолвный голос шептал в его душе: «Но и вам до меня ни дела, ни жалости».
Последние три года все шло наперекосяк.
Вначале одно важное событие вселило в него надежду. Он прождал почти месяц в Киеве, потом Жидовину удалось тайком переправить его к родным в Польшу, и тут он узнал, что его отец, не в силах более выносить трусость и предательство князя киевского, воспользовался своим правом переходить к другому повелителю и вступил в дружину младшего брата князя киевского, Всеволода, который правил южным приграничным городом Переяславлем.
Казалось, удача ему улыбнулась, ведь Всеволод был известен не только как лучший и мудрейший среди своих братьев-князей; более того, от жены-гречанки он имел сына, многообещающего, одаренного отрока Владимира, которому Иванушка был обещан в гриди. Конечно, думал Иванушка, теперь, когда его отец стал служить отцу Владимира, тот пошлет за ним.
Однако на том удача и иссякла. Даже Игорь был удивлен. «Но я только недавно перешел в его дружину, я не могу ни на чем настаивать», — с грустью признавался он Иванушке. Святополк служил вместе с отцом. Борис отправился ко двору князя смоленского. Но Иванушку, хотя и пытался отец найти ему место в Чернигове, Смоленске и даже в далеком Новгороде, никто, казалось, не хотел брать на службу.
Думалось ему, что знает причину. «Это все Святополк», — со вздохом сказал он себе.
Куда бы он ни пошел, повсюду к нему относились с принужденным добродушием, какого обыкновенно удостаиваются слабоумные. Он почти что читал мысли окружающих, те видели в нем дурачка. Однажды Иванушка даже бесстрашно призвал брата к ответу:
— Зачем ты меня ославил?
Но Святополк только поглядел на него с притворным удивлением:
— Как это «ославил», Иванушка? Да что ж я, убогий, могу такого про тебя сказать, чего ты сам одним видом своим не добьешься?
Так и стали все ожидать от Иванушки одних только глупостей, и выросла вкруг него глухая стена насмешек и пренебрежения. Да и сам он, словно околдованный общим недоброжелательством, порой вел себя как природный дурачок. Он почувствовал, что попал в ловушку, и Переяславль с его прочными земляными валами стал казаться ему истинной темницей.
А счастлив он теперь бывал, только оставшись в одиночестве, где-нибудь в деревне.
Спустя год после того, как Игорь перешел на службу к князю переяславльскому, старому боярину поручили надзор за укреплениями, воздвигнутыми вдоль части юго-восточной границы княжества. А как раз посреди этой местности, ныне ставшей одной из княжеских вотчин, и располагалась маленькая крепость Русское.
Местечко это было и впрямь ничем не примечательное, одна из десятков маленьких пограничных крепостей. Что и говорить, Игорь не взял бы себе за труд задержаться там хоть ненадолго, если бы его друг Жидовин Хазар не напомнил ему, что тамошние склады пригодятся им, если сумеют они снарядить караваны на восток, как надеялись.
Иванушке нравилось в Русском. Он помогал местным жителям чинить крепостную стену или бродил по лесам, наслаждаясь миром и покоем. А Игорь, не ведая, к чему определить младшего сына, время от времени посылал его помочь Жидовину принять на складе лодочные грузы.
Но сегодня эта работа обернулась для него одним горем-злосчастьем. Утром ему поручили принять партию мехов вместо отлучившегося Хазара. Он услышал, как пересмеиваются деревенские и перевозчики, которые доставили меха вниз по реке, увидел, как они с насмешкой косятся на него. И тут же пропали два бочонка ценных бобровых шкурок, хотя он не мог взять в толк, как это произошло. Хазар вот-вот вернется, а ему и невдомек, что делать.
Предаваясь этим мрачным размышлениям, он и заметил смерда.
Щек был среднего роста, коренастый, приземистый, широкоплечий, круглолицый и круглощекий, с добродушными карими глазами и волнистыми черными волосами, стоявшими дыбом, точно мягкая щетинная щетка, и окружавшими его и без того круглое лицо темным ореолом. Во всем его облике, несмотря на коренастость и приземистость, было что-то, свидетельствующее о мягкости характера, пусть, может быть, и в сочетании с упрямством. Он стоял на углу кладбища и глазел на Иванушку.
Как увидел он дурачка — боярского сына, так и вспало Щеку на ум: «Говорят, юнец этот глуп-глупешенек. А вот нет ли у него денег?» Ибо Щеку грозило разорение.
Щек-смерд, как большинство его сородичей, был свободным. Само собой, положение он занимал самое низкое. «Смерды» означало — «вонючие». Но воняет он или нет, он имел право поселиться, где пожелает, и работать, на кого захочет. Он также имел право брать в долг.
А долгов у Щека накопилось немало. Во-первых, лошадь. Его вины в том не было: лошадь охромела и околела. А поскольку он был обязан поставить княжеской коннице одну лошадь во время войны, так и пришлось купить другую взамен павшей. Но то было только начало. Он запил в Переяславле. Играл в кости. А потом, чтобы загладить вину, купил жене серебряный браслет, и упрямо снова и снова брал в долг, и снова играл, чая вернуть потерянные деньги.
Будучи членом деревенской общины, должен он был уплатить княжескому тиуну налог на плуг и знал, что сделать это не сможет.
И Щек осторожно двинулся к юнцу.
Вернувшись вечером и обнаружив пропажу мехов, Жидовин только и мог, что покачать головой. Иванушка пришелся ему по сердцу, но судьба этому боярскому сыну добра не готовила, на сей счет Хазар не обольщался. И хотя об исчезновении мехов никто не сказал ни слова, Иванушка почувствовал, что вряд ли его снова пошлют в Русское.
Только одно озадачивало Хазара. Украли меха — дело понятное, но как случилось, что в той сумме, что он оставил Иванушке, недостает двух серебряных гривен? Юнец сказал, что потерял их. Но как, провались ты, можно потерять две гривны? Вот уж точно загадка.
Иванушке было все равно, что о нем думают. Он знал, что после пропажи мехов имя его будет запятнано безвозвратно. Вот и пожалел крестьянина. По крайней мере, бедняга сможет заплатить налоги.
И более о том не беспокоился.
1072
Говорят, сегодня свершится чудо. Люди не сомневались, что оно произойдет. И у них были на то причины. Ибо сегодня они почитали мощи двух князей-мучеников, сыновей могущественного Владимира Святого, Бориса и Глеба, которых славяне тоже уже славили как святых.
Прошло полвека со дня их гибели; теперь их останки переносили к месту их последнего упокоения, в только что возведенную деревянную церковь в маленьком городке Вышгороде, расположенном к северу от Киева.
Свершится ли там чудо? Конечно! Но какое именно?
В высших кругах знати и духовенства было известно, что греческий митрополит Георгий подвергает серьезным сомнениям святость мучеников. Но что же и ожидать от грека? А потом, верил он в их святость или нет, а служить все равно придется — и исполнить все надобно как полагается.
На перенесение мощей страстотерпцев собрались все: трое сыновей Ярослава, внуки самого Владимира Святого, князь киевский Изяслав и его братья — князья черниговский и переяславльский; митрополит Георгий; епископ Петр и епископ Михаил; игумен Феодосий Печерский и многие другие — все важные лица земли Русской.
Шествие извилистой чередой двинулось вверх по холму. Моросил мелкий дождь, мягко окропляя головы тех, кто медленно всходил по скользкой тропе. Несмотря на морось, было тепло. Церемония состоялась 20 мая.
Первыми шли монахи, прикрывая от ветра свечи. Тотчас после них, облаченные в простые бурые плащи, шествовали трое Ярославичей. Точно люди простого звания, несли они на плечах деревянный гроб с останками своего родича Бориса. За ними, покачивая кадильницами, двигались дьяконы, затем — священники, и наконец — сам митрополит Георгий и епископы. Далее, на некотором расстоянии, шествовали представители знатных семейств.
«Они предпочли умереть, но не оказывать сопротивления брату. Теперь они сияют, словно светочи, над землею Русской», «Борис, призри на меня, грешного», «Господи, помилуй». Эти и другие благочестивые возгласы достигли ушей высокого, мрачного юнца, что всходил вверх по склону вместе со своими красивыми родичами, среди знатных людей, шедших за гробом. «Может быть, сегодня мы узрим чудо», «Славу Богу!»
Чудо. Возможно, Господь пошлет им чудо, но Иванушка был уверен, что, пока он с ними, никакое чудо невозможно.
«Ничего доброго не случится, пока я отсюда не уберусь», — уныло думал он и, сгорбившись, устало тащился дальше, в гору.
В последний год дела его пошли еще хуже. Спустя несколько недель после печального и позорного случая в Русском он подслушал короткий разговор родителей.
— Сердце-то у Иванушки доброе, — взмолилась его мать
...