автордың кітабын онлайн тегін оқу Мистический Петербург
Мистический Петербург
Рассказы русских писателей
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
* * *
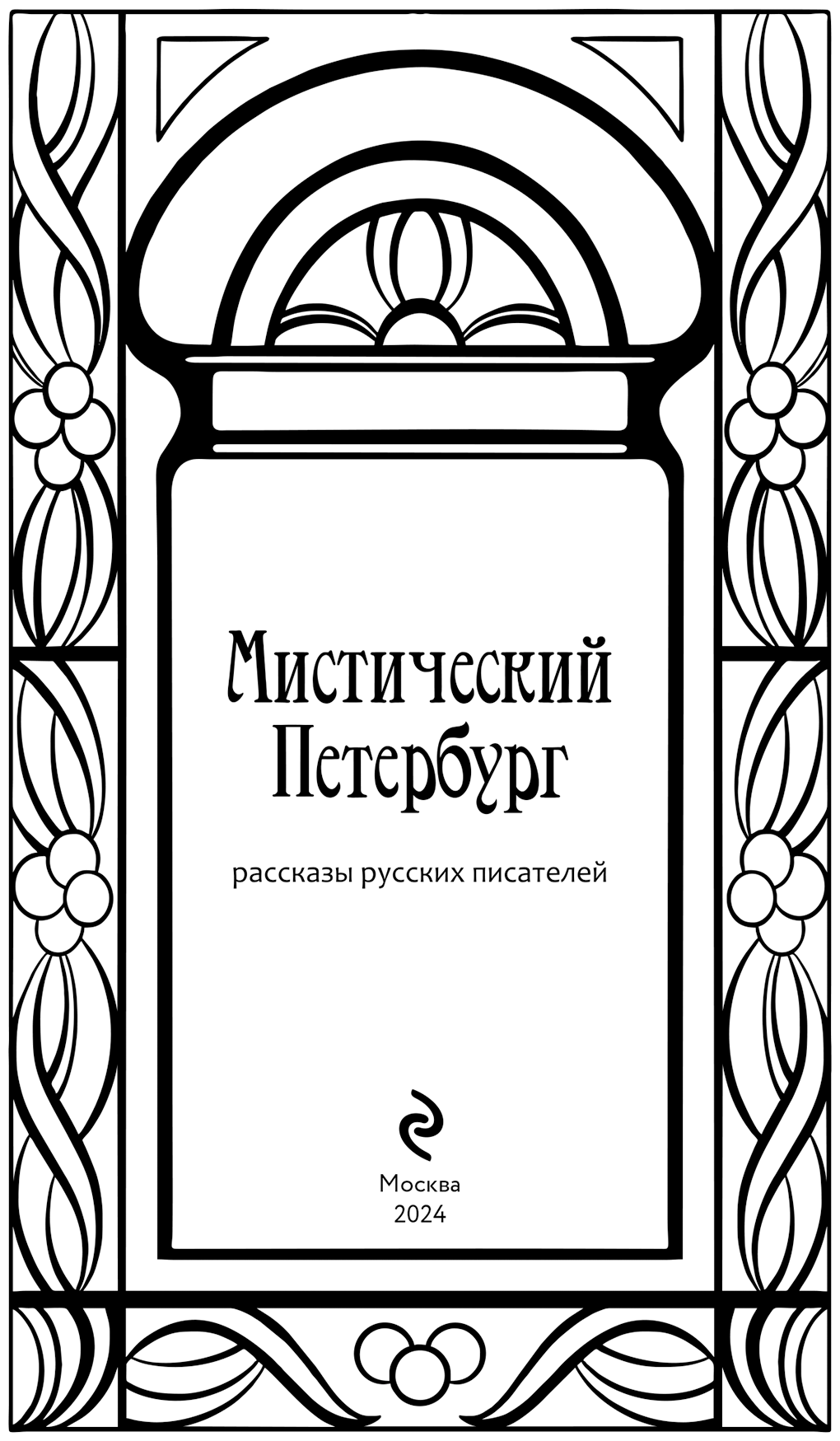
М. Ю. Лермонтов
Штосс
1845
I
У графа В… был музыкальный вечер. Первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема; в числе гостей мелькало несколько литераторов и ученых; две или три модные красавицы; несколько барышень и старушек и один гвардейский офицер. Около десятка доморощенных львов красовалось в дверях второй гостиной и у камина; все шло своим чередом; было ни скучно, ни весело.
В ту самую минуту как новоприезжая певица подходила к роялю и развертывала ноты… одна молодая женщина зевнула, встала и вышла в соседнюю комнату, на это время опустевшую. На ней было черное платье, кажется, по случаю придворного траура. На плече, пришпиленный к голубому банту, сверкал бриллиантовый вензель; она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы оттеняли ее еще молодое, правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли.
– Здравствуйте, мсье Лугин, – сказала Минская кому-то, – я устала… скажите что-нибудь! – и она опустилась в широкое пате возле камина; тот, к кому она обращалась, сел против нее и ничего не отвечал. В комнате их было только двое, и холодное молчание Лугина показывало ясно, что он не принадлежал к числу ее обожателей.
– Скучно, – сказала Минская и снова зевнула, – вы видите, я с вами не церемонюсь! – прибавила она.
– И у меня сплин! – отвечал Лугин.
– Вам опять хочется в Италию? – сказала она после некоторого молчания. – Не правда ли?
Лугин в свою очередь не слыхал вопроса; он продолжал, положив ногу на ногу и уставя глаза безотчетливо на беломраморные плечи своей собеседницы:
– Вообразите, какое со мной несчастие: что может быть хуже для человека, который, как я, посвятил себя живописи! – вот уже две недели, как все люди мне кажутся желтыми, – и одни только люди! добро бы все предметы; тогда была бы гармония в общем колорите; я бы думал, что гуляю в галерее испанской школы. Так нет! все остальное как и прежде; одни лица изменились; мне иногда кажется, что у людей вместо голов лимоны.
Минская улыбнулась.
– Призовите доктора, – сказала она.
– Доктора не помогут – это сплин!
– Влюбитесь! (Во взгляде, который сопровождал это слово, выражалось что-то похожее на следующее: «Мне бы хотелось его немножко помучить!»)
– В кого?
– Хоть в меня!
– Нет! вам даже кокетничать со мною было бы скучно, – и потом, скажу вам откровенно, ни одна женщина не может меня любить.
– А эта, как бишь ее, итальянская графиня, которая последовала за вами из Неаполя в Милан?..
– Вот видите, – отвечал задумчиво Лугин, – я сужу других по себе и в этом отношении, уверен, не ошибаюсь. Мне точно случалось возбуждать в иных женщинах все признаки страсти, но так как я очень знаю, что в этом обязан только искусству и привычке кстати трогать некоторые струны человеческого сердца, то и не радуюсь своему счастию; я себя спрашивал, могу ли я влюбиться в дурную? – вышло нет; я дурен – и следственно, женщина меня любить не может, это ясно; артистическое чувство развито в женщинах сильнее, чем в нас, они чаще и долее нас покорны первому впечатлению; если я умел подогреть в некоторых то, что называют капризом, то это стоило мне неимоверных трудов и жертв, но так как я знал поддельность чувства, внушенного мною, и благодарил за него только себя, то и сам не мог забыться до полной, безотчетной любви; к моей страсти примешивалось всегда немного злости; все это грустно – а правда!..
– Какой вздор! – сказала Минская, но, окинув его быстрым взглядом, она невольно с ним согласилась.
Наружность Лугина была в самом деле ничуть не привлекательна. Несмотря на то что в странном выражении глаз его было много огня и остроумия, вы бы не встретили во всем его существе ни одного из тех условий, которые делают человека приятным в обществе; он был неловко и грубо сложен; говорил резко и отрывисто; больные и редкие волосы на висках, неровный цвет лица, признаки постоянного и тайного недуга делали его на вид старее, чем он был в самом деле; он три года лечился в Италии от ипохондрии – и хотя не вылечился, но по крайней мере нашел средство развлекаться с пользой; он пристрастился к живописи; природный талант, сжатый обязанностями службы, развился в нем широко и свободно под животворным небом юга, при чудных памятниках древних учителей. Он вернулся истинным художником, хотя одни только друзья имели право наслаждаться его прекрасным талантом. В его картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство: на них была печать той горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых проповедников.
Лугин уже два месяца как вернулся в Петербург. Он имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы, где и хотел провести зиму. Он бывал часто у Минской: ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением. Но любви между ними не было и в помине.
Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыки. Заезжая певица пела балладу Шуберта на слова Гёте: «Лесной царь». Когда она кончила, Лугин встал.
– Куда вы? – спросила Минская.
– Прощайте.
– Еще рано.
Он опять сел.
– Знаете ли, – сказал он с какою-то важностию, – что я начинаю сходить с ума?
– Право?
– Кроме шуток. Вам это можно сказать, вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера – и как вы думаете – что? – адрес: вот и теперь слышу: «В Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титюлярного советника Штосса, квартира номер двадцать семь». И так шибко, шибко – точно торопится… Несносно!..
Он побледнел. Но Минская этого не заметила.
– Вы, однако, не видите того, кто говорит? – спросила она рассеянно.
– Нет. Но голос звонкий, резкий, дишкант.
– Когда же это началось?
– Признаться ли? я не могу сказать наверное… не знаю… ведь это, право, презабавно! – сказал он, принужденно улыбаясь.
– У вас кровь приливает к голове и в ушах звенит.
– Нет, нет. Научите, как мне избавиться?
– Самое лучшее средство, – сказала Минская, подумав с минуту, – идти к Кокушкину мосту, отыскать этот номер, и так как, верно, в нем живет какой-нибудь сапожник или часовой мастер, то для приличия закажите ему работу и, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что… вы в самом деле нездоровы!.. – прибавила она, взглянув на его встревоженное лицо с участием.
– Вы правы, – отвечал угрюмо Лугин, – я непременно пойду.
Он встал, взял шляпу и вышел.
Она посмотрела ему вослед с удивлением.
II
Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены; извозчики на биржах дремали под рыжими полостями своих саней; мокрая длинная шерсть их бедных кляч завивалась барашком; туман придавал отдаленным предметам какой-то серо-лиловый цвет. По тротуарам лишь изредка хлопали калоши чиновника, да иногда раздавался шум и хохот в подземной полпивной лавочке, когда оттуда выталкивали пьяного молодца в зеленой фризовой шинели и клеенчатой фуражке. Разумеется, эти картины встретили бы вы только в глухих частях города, как, например… у Кокушкина моста. Через этот мост шел человек среднего роста, ни худой, ни толстый, не стройный, но с широкими плечами, в пальто, и вообще одетый со вкусом; жалко было видеть его лакированные сапоги, вымоченные снегом и грязью; но он, казалось, об этом нимало не заботился; засунув руки в карманы, повеся голову, он шел неровными шагами, как будто боялся достигнуть цель своего путешествия или не имел ее вовсе. На мосту он остановился, поднял голову и осмотрелся. То был Лугин. Следы душевной усталости виднелись на его измятом лице, в глазах горело тайное беспокойство.
– Где Столярный переулок? – спросил он нерешительным голосом у порожнего извозчика, который в эту минуту проезжал мимо его шагом, закрывшись по шею мохнатою полостию и насвистывая камаринскую.
Извозчик посмотрел на него, хлыстнул лошадь кончиком кнута и проехал мимо.
Ему это показалось странно. Уж полно, есть ли Столярный переулок? Он сошел с моста и обратился с тем же вопросом к мальчику, который бежал с полуштофом через улицу.
– Столярный? – сказал мальчик, – а вот идите прямо по Малой Мещанской, и тотчас направо, первый переулок и будет Столярный.
Лугин успокоился. Дойдя до угла, он повернул направо и увидал небольшой грязный переулок, в котором с каждой стороны было не больше десяти высоких домов. Он постучал в дверь первой мелочной лавочки и, вызвав лавочника, спросил: «Где дом Штосса?»
– Штосса? Не знаю, барин, здесь этаких нет; а вот здесь рядом есть дом купца Блинникова, а подальше…
– Да мне надо Штосса…
– Ну не знаю, – Штосса!! – сказал лавочник, почесав затылок, и потом прибавил: – Нет, не слыхать-с!
Лугин пошел сам смотреть надписи; что-то ему говорило, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видал. Так он добрался почти до конца переулка, и ни одна надпись ничем не поразила его воображения, как вдруг он кинул случайно глаза на противоположную сторону улицы и увидал над одними воротами жестяную доску вовсе без надписи.
Он подбежал к этим воротам – и сколько ни рассматривал, не заметил ничего похожего даже на следы стертой временем надписи; доска была совершенно новая.
Под воротами дворник в долгополом полинявшем кафтане, с седой, давно не бритой бородою, без шапки и подпоясанный грязным фартуком, разметал снег.
– Эй! дворник, – закричал Лугин.
Дворник что-то проворчал сквозь зубы.
– Чей это дом?
– Продан! – отвечал грубо дворник.
– Да чей он был?
– Чей? Кифейкина, купца.
– Не может быть, верно, Штосса! – вскрикнул невольно Лугин.
– Нет, был Кифейкина, а теперь так Штосса! – отвечал дворник, не подымая головы.
У Лугина руки опустились.
Сердце его забилось, как будто предчувствуя несчастие. Должен ли он был продолжать свои исследования? не лучше ли вовремя остановиться? Кому не случалось находиться в таком положении, тот с трудом поймет его: любопытство, говорят, сгубило род человеческий, оно и поныне наша главная, первая страсть, так что даже все остальные страсти могут им объясниться. Но бывают случаи, когда таинственность предмета дает любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному с горы сильною рукою, мы не можем остановиться, хотя видим нас ожидающую бездну.
Лугин долго стоял перед воротами. Наконец обратился к дворнику с вопросом:
– Новый хозяин здесь живет?
– Нет.
– А где же?
– А черт его знает.
– Ты уж давно здесь дворником?
– Давно.
– А есть в этом доме жильцы?
– Есть.
– Скажи, пожалуйста, – сказал Лугин после некоторого молчания, сунув дворнику целковый, – кто живет в двадцать седьмом номере?
Дворник поставил метлу к воротам, взял целковый и пристально посмотрел на Лугина.
– В двадцать седьмом номере?.. да кому там жить! он уж бог знает сколько лет пустой.
– Разве его не нанимали?
– Как не нанимать, сударь, – нанимали.
– Как же ты говоришь, что в нем не живут!
– А бог их знает! так-таки не живут. Наймут на год, да и не переезжают.
– Ну, а кто его последний нанимал?
– Полковник, из анженеров, что ли!
– Отчего же он не жил?
– Да переехал было… а тут, говорят, его послали в Вятку – так номер пустой за ним и остался.
– А прежде полковника?
– Прежде его было нанял какой-то барон, из немцев, – да этот и не переезжал; слышно, умер.
– А прежде барона?
– Нанимал купец для какой-то своей… гм! да обанкрутился, так у нас и задаток остался…
«Странно!» – подумал Лугин.
– А можно посмотреть номер?
Дворник опять пристально взглянул на него.
– Как нельзя? можно! – отвечал он и пошел, переваливаясь, за ключами.
Он скоро возвратился и повел Лугина во второй этаж по широкой, но довольно грязной лестнице. Ключ заскрипел в заржавленном замке, и дверь отворилась; им в лицо пахнуло сыростью. Они взошли. Квартира состояла из четырех комнат и кухни. Старая пыльная мебель, некогда позолоченная, была правильно расставлена кругом стен, обтянутых обоями, на которых изображены были на зеленом грунте красные попугаи и золотые лиры; изразцовые печи кое-где порастрескались; сосновый пол, выкрашенный под паркет, в иных местах скрипел довольно подозрительно; в простенках висели овальные зеркала с рамками рококо; вообще комнаты имели какую-то странную несовременную наружность.
Они, не знаю почему, понравились Лугину.
– Я беру эту квартиру, – сказал он. – Вели вымыть окна и вытереть мебель… посмотри, сколько паутины! да надо хорошенько вытопить… – В эту минуту он заметил на стене последней комнаты поясной портрет, изображающий человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами, большими серыми глазами; в правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины. На пальцах красовалось множество разных перстней. Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью, – платье, волосы, рука, перстни – все было очень плохо сделано; зато в выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать: в линии рта был какой-то неуловимый изгиб, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессознательно, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случалось ли вам на замороженном стекле или в зубчатой тени, случайно наброшенной на стену каким-нибудь предметом, различать профиль человеческого лица, профиль, иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить их на бумагу! вам не удастся; попробуйте на стене обрисовать карандашом силуэт, вас так сильно поразивший, – и очарование исчезает; рука человека никогда с намерением не произведет этих линий; математически малое отступление – и прежнее выражение погибло невозвратно. В лице портрета дышало именно то неизъяснимое, возможное только гению или случаю.
«Странно, что я заметил этот портрет только в ту минуту, как сказал, что беру квартиру!» – подумал Лугин.
Он сел в кресла, опустил голову на руку и забылся.
Долго дворник стоял против него, помахивая ключами.
– Что ж, барин? – проговорил он наконец.
– А!
– Как же? коли берете, так пожалуйте задаток.
Они условились в цене, Лугин дал задаток, послал к себе с приказанием сейчас же перевозиться, а сам просидел против портрета до вечера; в девять часов самые нужные вещи были перевезены из гостиницы, где жил до сей поры Лугин.
«Вздор, чтоб на этой квартире нельзя было жить, – думал Лугин. – Моим предшественникам, видно, не суждено было в нее перебраться – это, конечно, странно! Но я взял свои меры: переехал тотчас! Что ж? – ничего!»
До двенадцати часов он с своим старым камердинером Никитой расставлял вещи…
Надо прибавить, что он выбрал для своей спальни комнату, где висел портрет.
Перед тем чтоб лечь в постель, он подошел со свечой к портрету, желая еще раз на него взглянуть хорошенько, и прочитал внизу вместо имени живописца красными буквами: Середа.
– Какой нынче день? – спросил он Никиту.
– Понедельник, сударь…
– Послезавтра середа! – сказал рассеянно Лугин.
– Точно так-с!..
Бог знает почему Лугин на него рассердился.
– Пошел вон! – закричал он, топнув ногою.
Старый Никита покачал головою и вышел.
После этого Лугин лег в постель и заснул.
На другой день утром привезли остальные вещи и несколько начатых картин.
III
В числе недоконченных картин, большею частию маленьких, была одна размера довольно значительного; посреди холста, исчерченного углем, мелом и загрунтованного зелено-коричневой краской, эскиз женской головки остановил бы внимание знатока; но, несмотря на прелесть рисунка и на живость колорита, она поражала неприятно чем-то неопределенным в выражении глаз и улыбки; видно было, что Лугин перерисовывал ее в других видах и не мог остаться довольным, потому что в разных углах холста являлась та же головка, замаранная коричневой краской. То не был портрет; может быть, подобно молодым поэтам, вздыхающим по небывалой красавице, он старался осуществить на холсте свой идеал – женщину-ангела; причуда, понятная в первой юности, но редкая в человеке, который сколько-нибудь испытал жизнь. Однако есть люди, у которых опытность ума не действует на сердце, и Лугин был из числа этих несчастных и поэтических созданий. Самый тонкий плут, самая опытная кокетка с трудом могли бы его провесть, а сам себя он ежедневно обманывал с простодушием ребенка. С некоторого времени его преследовала постоянная идея, мучительная и несносная, тем более что от нее страдало его самолюбие: он был далеко не красавец, это правда, однако в нем ничего не было отвратительного, и люди, знавшие его ум, талант и добродушие, находили даже выражение лица его довольно приятным; но он твердо убедился, что степень его безобразия исключает возможность любви, и стал смотреть на женщин как на природных своих врагов, подозревая в случайных их ласках побуждения посторонние и объясняя грубым и положительным образом самую явную их благосклонность. Не стану рассматривать, до какой степени он был прав, но дело в том, что подобное расположение души извиняет достаточно фантастическую любовь к воздушному идеалу, любовь самую невинную и вместе самую вредную для человека с воображением.
В этот день, который был вторник, ничего особенного с Лугиным не случилось: он до вечера просидел дома, хотя ему нужно было куда-то ехать. Непостижимая лень овладела всеми чувствами его; хотел рисовать – кисти выпадали из рук; пробовал читать – взоры его скользили над строками и читали совсем не то, что было написано; его бросало в жар и в холод; голова болела; звенело в ушах. Когда смерклось, он не велел подавать свеч и сел у окна, которое выходило на двор; на дворе было темно; у бедных соседей тускло светились окна; он долго сидел; вдруг на дворе заиграла шарманка; она играла какой-то старинный немецкий вальс; Лугин слушал, слушал – ему стало ужасно грустно. Он начал ходить по комнате; небывалое беспокойство им овладело; ему хотелось плакать, хотелось смеяться… он бросился на постель и заплакал; ему представилось все его прошедшее, он вспомнил, как часто бывал обманут, как часто делал зло именно тем, которых любил, какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видел слезы, вызванные им из глаз, ныне закрытых навеки, и он с ужасом заметил и признался, что он недостоин был любви безотчетной и истинной, и ему стало так больно! так тяжело!
Около полуночи он успокоился, сел к столу, зажег свечу, взял лист бумаги и стал что-то чертить; все было тихо вокруг. Свеча горела ярко и спокойно; он рисовал голову старика, и когда кончил, то его поразило сходство этой головы с кем-то знакомым! Он поднял глаза на портрет, висевший против него, – сходство было разительное; он невольно вздрогнул и обернулся; ему показалось, что дверь, ведущая в пустую гостиную, заскрипела; глаза его не могли оторваться от двери.
– Кто там? – вскрикнул он.
За дверьми послышался шорох, как будто хлопали туфли; известка посыпалась с печи на пол.
– Кто это? – повторил он слабым голосом.
В эту минуту обе половинки двери тихо, беззвучно стали отворяться; холодное дыхание повеяло в комнату; дверь отворялась сама; в той комнате было темно, как в погребе.
Когда дверь отворилась настежь, в ней показалась фигура в полосатом халате и туфлях: то был седой сгорбленный старичок; он медленно подвигался, приседая; лицо его, бледное и длинное, было неподвижно; губы сжаты; серые, мутные глаза, обведенные красной каймою, смотрели прямо без цели.
И вот он сел у стола против Лугина, вынул из-за пазухи две колоды карт, положил одну против Лугина, другую перед собой и улыбнулся.
– Что вам надобно? – сказал Лугин с храбростью отчаяния. Его кулаки судорожно сжимались, и он был готов пустить шандалом в незваного гостя.
Под халатом вздохнуло.
– Это несносно! – сказал Лугин задыхающимся голосом. Его мысли мешались.
Старичок зашевелился на стуле; вся его фигура изменялась ежеминутно, он делался то выше, то толще, то почти совсем съеживался; наконец принял прежний вид.
«Хорошо, – подумал Лугин, – если это привидение, то я ему не поддамся».
– Не угодно ли, я вам промечу штосс? – сказал старичок.
Лугин взял перед ним лежавшую колоду карт и отвечал насмешливым тоном:
– А на что же мы будем играть? я вас предваряю, что душу свою на карту не поставлю! (Он думал этим озадачить привидение…) А если хотите, – продолжал он, – я поставлю клюнгер; не думаю, чтоб водились в вашем воздушном банке.
Старичка эта шутка нимало не сконфузила.
– У меня в банке вот это! – отвечал он, протянув руку.
– Это? – сказал Лугин, испугавшись и кинув глаза налево, – что это?
Возле него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное. Он с отвращением отвернулся.
– Мечите! – потом сказал он, оправившись, и, вынув из кармана клюнгер, положил его на карту. – Идет, темная.
Старичок поклонился, стасовал карты, срезал и стал метать. Лугин поставил семерку бубен, и она с оника[1] была убита; старичок протянул руку и взял золотой.
– Еще талью! – сказал с досадою Лугин.
Оно покачало головою.
– Что же это значит?
– В середу, – сказал старичок.
– А! в середу! – вскрикнул в бешенстве Лугин, – так нет же! не хочу в середу! завтра или никогда! слышишь ли?
Глаза странного гостя пронзительно засверкали, и он опять беспокойно зашевелился.
– Хорошо, – наконец сказал он, встал, поклонился и вышел, приседая. Дверь опять тихо за ним затворилась; в соседней комнате опять захлопали туфли… и мало-помалу все утихло. У Лугина кровь стучала в голове молотком; странное чувство волновало и грызло его душу. Ему было досадно, обидно, что он проиграл!..
«Однако ж я не поддался ему! – говорил он, стараясь себя утешить, – переупрямил. В середу! как бы не так! что я за сумасшедший! Это хорошо, очень хорошо!.. он у меня не отделается. А как похож на этот портрет!.. ужасно, ужасно похож! а! теперь я понимаю!..»
На этом слове он заснул в креслах. На другой день поутру никому о случившемся не говорил, просидел целый день дома и с лихорадочным нетерпением дожидался вечера.
«Однако я не посмотрел хорошенько на то, что у него в банке! – думал он, – верно, что-нибудь необыкновенное!»
Когда наступила полночь, он встал с своих кресел, вышел в соседнюю комнату, запер на ключ дверь, ведущую в переднюю, и возвратился на свое место; он недолго дожидался; опять раздался шорох, хлопанье туфлей, кашель старика, и в дверях показалась его мертвая фигура. За ним подвигалась другая, но до того туманная, что Лугин не мог рассмотреть ее формы.
Старичок сел, как накануне, положил на стол две колоды карт, срезал одну и приготовился метать, по-видимому, не ожидая от Лугина никакого сопротивления; в его глазах блистала необыкновенная уверенность, как будто они читали в будущем. Лугин, остолбеневший совершенно под магнетическим влиянием его серых глаз, уже бросил было на стол два полуимпериала, как вдруг он опомнился.
– Позвольте, – сказал он, накрыв рукою свою колоду.
Старичок сидел неподвижен.
– Что бишь я хотел сказать! позвольте, – да!
Лугин запутался.
Наконец, сделав усилие, он медленно проговорил:
– Хорошо… я с вами буду играть, я принимаю вызов, я не боюсь, только с условием: я должен знать, с кем играю! как ваша фамилия?
Старичок улыбнулся.
– Я иначе не играю, – проговорил Лугин, меж тем дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту.
– Что-с? – проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.
– Штос? кто? – У Лугина руки опустились: он испугался.
В эту минуту он почувствовал возле себя чье-то свежее ароматическое дыхание, и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое огненное прикосновение. Странный, сладкий и вместе болезненный трепет пробежал по его жилам. Он на мгновение обернул голову и тотчас опять устремил взор на карты: но этого минутного взгляда было бы довольно, чтоб заставить его проиграть душу. То было чудное и божественное виденье: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая… она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное – то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства; то не был также пустой и ложный призрак… потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда, – то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим на коленях, и плачем, и молим, и радуемся бог знает чему, – одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована.
В эту минуту Лугин не мог объяснить того, что с ним сделалось, но с этой минуты он решился играть, пока не выиграет: эта цель сделалась целью его жизни, – он был этому очень рад.
Старичок стал метать: карта Лугина была убита. Бледная рука опять потащила по столу два полуимпериала.
– Завтра, – сказал Лугин.
Старичок вздохнул тяжело, но кивнул головой в знак согласия и вышел, как накануне.
Всякую ночь в продолжение месяца эта сцена повторялась: всякую ночь Лугин проигрывал; но ему не было жаль денег, он был уверен, что наконец хоть одна карта будет дана, и потому все удваивал куши; он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку, за которые он готов был отдать все на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете; часто не обедал. Он ожидал вечера, как любовник свидания, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более приветливой; она – не знаю, как назвать ее? – она, казалось, принимала трепетное участие в игре; казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда освободится от ига несносного старика; и всякий раз, когда карта Лугина была убита и он с грустным взором оборачивался к ней, на него смотрели эти страстные, глубокие глаза, которые, казалось, говорили: «Смелее, не упадай духом, подожди, я буду твоя, во что бы то ни стало! я тебя люблю»… и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тенью ее изменчивые черты. И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина болезненно сжималось сердце – отчаянием и бешенством. Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо было на что-нибудь решиться. Он решился.
сразу. – Прим. ред.
В. П. Титов
Уединенный домик на Васильевском
1829
Повесть
Кому случалось гулять кругом всего Васильевского острова, тот, без сомнения, заметил, что разные концы его весьма мало похожи друг на друга. Возьмите южный берег, уставленный пышным рядом каменных, огромных строений, – и северную сторону, которая глядит на Петровский остров и вдается длинною косою в сонные воды залива. По мере приближения к этой оконечности каменные здания, редея, уступают место деревянным хижинам; между сими хижинами проглядывают пустыри; наконец, строение вовсе исчезает, и вы идете мимо ряда просторных огородов, который по левую сторону замыкается рощами; он приводит вас к последней возвышенности, украшенной одним или двумя сиротливыми домами и несколькими деревьями; ров, заросший высокою крапивой и репейником, отделяет возвышенность от вала, служащего оплотом от разлитий; а дальше лежит луг, вязкий, как болото, составляющий взморье. И летом печальны сии места пустынные, а еще более зимою, когда и луг, и море, и бор, осеняющий противоположные берега Петровского острова, – все погребено в седые сугробы, как будто в могилу.
Несколько десятков лет тому назад, когда сей околоток был еще уединеннее, в низком, но опрятном деревянном домике около означенной возвышенности жила старушка, вдова одного чиновника, служившего не помню в которой из Коллегий. Оставляя службу, он купил этот домик вместе с огородом и намерен был завесть небольшое хозяйство; но кончина помешала исполнению дальних его замыслов; вдова вскоре нашла себя принужденною продать все, кроме дома, и жить малым денежным достатком, накопленным невинными, а может быть, отчасти и грешными трудами покойного. Все ее семейство составляли дочь и престарелая служанка, бывшая в должности горничной и вместе кухарки. Вдалеке от света, вела она тихую жизнь, которая при всем своем однообразии казалась бы счастливою. По праздникам в церковь; по будням утро за работою; после обеда мать вяжет чулок, а молодая Вера читает ей Минею и другие священные книги или занимается с нею гаданием в карты – препровождение времени, которое и ныне в обыкновении у женщин. Вера давно уже достигла того возраста, когда девушки начинают думать, как говорится в просторечии, о том, как бы пристроиться; но главную черту ее нрава составляла младенческая простота сердца; она любила мать, любила по привычке свои вседневные занятия и, довольная настоящим, не питала в душе черных предчувствий насчет будущего. Старушка-мать думала иначе: с грустью помышляла она о преклонных летах своих, с отчаянием смотрела на расцветшую красоту двадцатилетней дочери, которой в бедном одиночестве не было надежды когда-либо найти супруга-покровителя. Все это иногда заставляло ее тосковать и тайно плакать; с другими старухами она, не знаю почему, водилась вовсе не охотно; зато уж и старухи не слишком ее жаловали; они толковали, будто с мужем жила она под конец дурно, утешать ее ходил подозрительный приятель; муж умер скоропостижно и – Бог знает чего не придумает злоречие.
Одиночество, в коем жила Вера с своей матерью, изредка было развлекаемо посещениями молодого, достаточно отдаленного родственника, который за несколько лет приехал из своей деревни служить в Петербурге. Мы условимся называть его Павлом. Он звал Веру сестрицею, любил ее, как всякий молодой человек любит пригожую, любезную девушку, угождал ее матери, у которой и был, как говорится, на примете. Но о союзе с ним напрасно было думать: он не мог часто навещать семью Васильевского острова. Этому мешали не дела и не служба: он тем и другим занимался довольно небрежно; жизнь его состояла из досугов почти беспрерывных. Павел принадлежал к числу тех рассудительных юношей, которые терпеть не могут излишества в двух вещах: во времени и в деньгах. Он, как водится, искал, и приискал услужливых товарищей, которые охотно избавляли его от сих совершенно лишних отягощений и на его деньги помогали ему издерживать время. Картежная игра, увеселения, ночные прогулки – все призвано было в помощь; и Павел был счастливейшим из смертных, ибо не видал, как утекали дни за днями и месяцы за месяцами. Разумеется, не обходилось и без неприятностей: иногда кошелек опустеет, иногда совесть проснется в душе, в виде раскаяния или мрачного предчувствия. Чтобы облегчить сие новое бремя, он сперва держался обыкновения посещать Веру. Но мог ли он без угрызений сравнить себя с этой невинною, добродетельною девушкой? Итак, необходимо было искать другого средства. Он скоро нашел его в одном из своих соучастников веселия, из которого сделал себе друга. Этот друг, которого Павел знал под именем Варфоломея, часто наставлял его на такие проказы, какие и в голову не пришли бы простодушному Павлу; зато он умел всегда и выпутать его из опасных последствий; главное же, неоспоримое право Варфоломея на титул друга состояло в том, что он в нужде снабжал нашего юношу припасом, которого излишество тягостно, а недостаток еще тягостнее, – именно деньгами. Он так легко и скоро доставал их во всяком случае, что Павлу на сей счет приходили иногда в голову странные подозрения; он даже решался выпытать сию тайну от самого Варфоломея; но как скоро хотел приступить к своим расспросам, сей последний одним взглядом его обезоруживал. Притом: «Что мне за дело, – думал Павел, – какими средствами он добывает деньги? Ведь я за него не пойду на каторгу… ни в ад!» – прибавлял он тихомолком от своей совести. Варфоломей к тому же имел искусство убеждать и силу нравиться, хотя в невольных его порывах нередко обнаруживалось жестокосердие. Я забыл еще сказать, что его никогда не видали в православной церкви; но Павел и сам был не слишком богомолен; притом Варфоломей говаривал, что он принадлежит не к нашему исповеданию. Короче, наш юноша наконец совершенно покорился влиянию избранного им друга.
Однажды в день воскресный, после ночи, потерянной в рассеянности, Павел проснулся поздно поутру. Раскаяние, недоверие давно так его не мучили. Первая мысль его была идти в церковь, где давно, давно он не присутствовал. Но, взглянув на часы, он увидел, что проспал час обедни. Яркое солнце высоко блистало на горячем летнем небосклоне. Он невольно вспомнил о Васильевском острове. «Как виноват я перед старухою, – сказал он себе, – в последний раз я был у ней, когда снег еще не стаял. Как весело теперь в уединенном сельском домике. Милая Вера! Она меня любит, может быть, жалеет, что давно не видала меня, может быть…» Подумал и решился провести день на Васильевском. Лишь только, одевшись, он вышел со двора, откуда ни возьмись Варфоломей навстречу. Неприятна была встреча для Павла; но свернуть было некуда.
– А я к тебе, товарищ! – закричал Варфоломей издали. – Хотел звать тебя, где третьего дня были.
– Мне сегодня некогда, – сухо отвечал Павел.
– Вот хорошо, некогда! Ты, пожалуй, захочешь меня уверить, что у тебя может быть дело. Вздор! Пойдем.
– Говорю тебе, некогда; я должен быть у одной родственницы, – сказал Павел, выпутывая руку свою из холодной руки Варфоломея.
– Да! Да! Я и забыл об твоей васильевской ведьме. Кстати, я от тебя слышал, что твоя сестрица довольно мила; скажи, пожалуй, сколько лет ей?
– А мне почему знать? Я не крестил ее!
– Я сам никого не крестил отроду, а знаю наперечет и твои лета, и всех, кто со мной запанибрата.
– Тем для тебя лучше, однако…
– Однако не в том дело, – прервал Варфоломей, – я давно хотел туда забраться с твоею помощью. Нынче погода чудная; я рад погулять. Веди меня с собою.
– Ей-ей, не могу, – отвечал Павел с неудовольствием, – они не любят незнакомцев. Прощай, мне нельзя терять времени.
– Послушай, Павел, – сказал Варфоломей, сердито останавливая его рукою и бросая на него тот взгляд, который всегда имел на слабого юношу неодолимое действие. – Я не узнаю тебя. Вчера ты скакал, как сорока, а теперь надулся, как индейский петух. Что это значит? Я не в одно место возил тебя из дружбы; потому и от тебя могу того же требовать.
– Так! – отвечал Павел в смущении. – Но теперь не могу исполнить этого, ибо… ибо знаю, что тебе там будет скучно.
– Пустая отговорка; если хочу, стало, не скучно. Веди меня непременно; иначе ты не друг мне.
Павел замялся; наконец, собравшись с духом, сказал:
– Слушай, ты мне друг! Но в этих случаях, я знаю, для тебя нет ничего святого. Вера хороша, непорочна, как ангел, но сердце ее просто. Даешь ли ты мне честное слово не расставлять сетей ее невинности?
– Вот нашел присяжного волокиту, – прервал Варфоломей с каким-то адским смехом. – И без нее, брат, много есть девчонок в городе. Да что толковать долго? Честного слова я не дам: ты должен мне верить или со мной рассориться. Веди меня с собою или – давай левую.
Юноша взглянул на грозное лицо Варфоломея, вспомнил, что и честь его, и самое имущество находятся во власти этого человека и ссора с ним есть гибель; сердце его содрогнулось; он употребил еще несколько слабых возражений и согласился.
Старушка от всей души благодарила Павла за новое знакомство; степенный, тщательно одетый товарищ его крайне ей понравился; она, по своему обыкновению, видела в нем выгодного женишка для своей Веры. Впечатление, произведенное Варфоломеем на сию последнюю, было не столь выгодно: она робким приветствием отвечала на поклон его, и живые ланиты ее покрылись внезапною бледностию. Черты Варфоломея были знакомы Вере. Два раза, выходя из храма Божия, с душою, полною смиренными, набожными чувствами, она замечала его стоящим у каменного столпа притвора церковного и устремляющим на нее взор, который пресекал все набожные помыслы и, как рана, оставался у нее врезанным в душу. Но не любовной силою приковал этот взор бедную девушку, а каким-то страхом, неизъяснимым для нее самой. Варфоломей был статен, имел лицо правильное; но это лицо не отражало души, подобно зеркалу, а, подобно личине, скрывало все ее движения; и на его челе, видимо спокойном, Галль верно заметил бы орган высокомерия, порока отверженных.
Впрочем, Вера умела скрыть свое смущение, и едва ли кто заметил его, кроме Варфоломея. Он завел разговор общий и был любезнее, умнее, чем когда-нибудь. Часы проходили неприметно; после обеда предложена прогулка на взморье, по окончании которой все воротились домой и старушка принялась за любимое свое препровождение вечера – гадание в карты. Но сколько ни трудилась она раскладывать, как нарочно, ничего не выходило. Варфоломей подошел к ней, оставя в другом углу своего друга в разговоре с Верою. Видя досаду старухи, он заметил ей, что по ее способу раскладывания нельзя узнать будущего и карты, как они теперь лежат, показывают прошедшее. «Ах, мой батюшка! Да вы, я вижу, мастер; растолкуйте мне, что же они показывают?» – спросила старушка с видом сомнения. «А вот что», – отвечал он и, придвинув кресла, говорил долго и тихо. Что говорил? Бог весть, только кончилось тем, что она от него услышала такие тайны жизни и кончины покойного сожителя, которые почитала Богу да ей одной известными. Холодный пот проступил на морщинах лица ее, седые волосы стали дыбиться под чепцом; она, дрожа, перекрестилась. Варфоломей поспешно отошел; он с прежнею свободою вмешался в разговор молодежи; и беседа, верно, продлилась бы до полночи, если б наши гости не поторопились, представляя, что скоро будут разводить мост и им придется ночевать на вольном воздухе.
Не станем описывать много других свиданий, которые друзья наши имели вместе на Васильевском в продолжение лета. Для вас довольно знать, что в течение сего времени Варфоломей все более и более вкрадывался в доверенность вдовы; добродушная Вера, которая привыкла согласоваться слепо с чувствами своей матери, забывала понемногу неприятное впечатление, сперва произведенное незнакомцем; но Павел оставался для нее предметом предпочтения нескрытного, и если сказать правду, так было за что: частые свидания с молодою родственницей возымели на юношу преблаготворное действие: он начал прилежнее заниматься службою, бросил многие беспутные знакомства, словом, захотел быть порядочным человеком; с другой стороны, беспечный его нрав покорялся влиянию привычки, и ему изредка казалось, что он может быть счастлив такою супругою, как Вера.
Предпочтение этой прелестной девушки к товарищу, казалось, должно бы оскорбить неукротимое самолюбие Варфоломея; однако он не только не изъявлял неудовольствия, но обращался с Павлом радушнее, ласковее прежнего; Павел, платя ему дружеством искренним, совершенно откинул все сомнения насчет замыслов Варфоломея, принимал все его советы, поверял ему все тайны души своей. Однажды зашла у них речь о своих взаимных достоинствах и слабостях – что весьма обыкновенно в дружеской беседе на четыре глаза. «Ты знаешь, я не люблю лести, – говорил Варфоломей, – но откровенно скажу, друг мой, что я замечаю в тебе с недавнего времени весьма выгодную перемену; и не один я, многие говорят, что в последние шесть месяцев ты созрел больше, чем другие созревают в шесть лет. Теперь недостает тебе только одного: навыка жить в свете. Не шути этим словом; я сам никогда не был охотником до света, я знаю, что он нуль; но этот нуль десятерит достоинство единицы. Предвижу твое возражение: ты думаешь жениться на Вере (при сих словах Варфоломей остановился на минуту, как будто забывшись)… ты думаешь на ней жениться, – продолжал он, – и ничего не хочешь знать, кроме счастия семейного да любви будущей супруги. То-то и есть: вы, молодежь, воображаете, что обвенчался, так и бал кончен; ан только начинается. Помяни ты мое слово: поживешь с женою год, опять вспомнишь об людях; но тогда уж потруднее будет втереться в общество. Притом люди необходимы, особливо человеку семейному: у нас без покровителей и правды не добудешь. Может быть, еще тебя стращает громкое имя: большой свет? Успокойся: это манежная лошадь; она очень смирна, но кажется опасною потому, что у нее есть свои привычки, к которым надо примениться. Да к чему тратить слова по-пустому? Лучше поверь их истину на опыте. Послезавтра вечер у графини И.; ты имеешь случай туда ехать. Я вчера у нее был, говорили об тебе, и она сказала, что желает видеть твою бесценную особу».
Сии слова, подобно яду, имеющему силу переворотить внутренность, превратили все прежние замыслы и желания юноши; никогда не бывалый в большом свете, он решился пуститься в этот вихрь, и в условленный вечер его увидели в гостиной графини. Дом ее стоял в не очень шумной улице и снаружи не представлял ничего отличного; но внутри – богатое убранство, освещение. Варфоломей уже заранее уведомил Павла, что на первый взгляд иное покажется ему странным: ибо графиня недавно приехала из чужих краев, живет на тамошний лад и принимает к себе общество небольшое, но зато лучшее в городе. Они застали нескольких пожилых людей, которые отличались высокими париками, шароварами огромной ширины и не скидали перчаток во весь вечер. Это не совсем согласовалось с тогдашними модами среднего петербургского общества, которые одни были известны Павлу, но Павел уже положил себе за правило не удивляться ничему, да и когда ему было заметить сии мелочи? Его вниманием овладела хозяйка совершенно. Вообразите себе женщину знатную, в пышном цвете юности, одаренную всеми прелестями, какими природа и искусство могут украсить женский пол на пагубу потомков Адамовых, прибавьте, что она потеряла мужа и в обращеньи с мужчинами может позволить себе ту смелость, которая более всего пленяет неопытного. При таких искушениях мог ли девственный образ Веры оставаться в сердце переменчивого Павла? Страсти загорелись в нем; он все употребил, чтобы снискать благоволение красавицы, и после повторенных посещений заметил, что она неравнодушна к его стараниям. Какое открытие для пламенного юноши! Павел не видал земли под собою, он уже мечтал… Но случилась неприятность, которая разрушила все его отважные воздушные замки. Однажды, будучи в довольно многолюдном обществе у графини, он увидел, что она в стороне говорит тихо с одним мужчиною; надобно заметить, что этот молодец щеголял непомерным образом и, несмотря на все старания, не мог, однако, скрыть телесного недостатка, за который Павел с Варфоломеем заочно ему дали прозванье косоногого; любопытство, ревность заставили Павла подойти ближе, и ему послышалось, что мужчина произносит его имя, шутит над его дурным французским выговором, а графиня изволит отвечать на это усмешками. Наш юноша взбесился, хотел тут же броситься и наказать насмешника, но удержался при мысли, что это подвергнет его новому, всеобщему посмеянию. Он тот же час оставил беседу, не говоря ни слова, и поклялся век не видеть графиню.
Растревоженный в душе, он опять вспомнил о давно покинутой им
