Юана Фокс
Ежевика Её Светлости
Средневековые сказки
Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»
Дизайнер обложки А. А.
Корректор Лиза Глум
Редактор Яна Гецеу
© Юана Фокс, 2025
© А. А., дизайн обложки, 2025
Продолжение книги «Средневековые сказки. О любви, злой магии и разбое». Сказка о нечистых дарах.
«Ежевика Ее Светлости» росла в таких садах, куда почтенный человек и носа не сунет! А раз уж занесло вас, то узнаете, отчего дети Нечистого хромоноги и какие злые дары получают они на рождение…
ISBN 978-5-0055-0131-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Оглавление
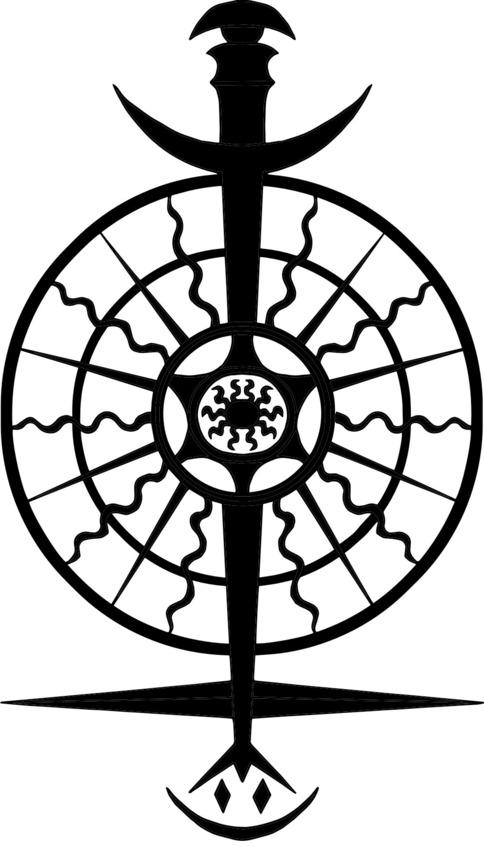
Посвящается Наталье Абрамовой, лучшему психотерапевту. С благодарностью и уважением.
Которого отца дочь?
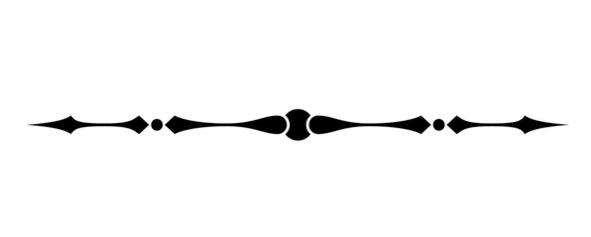
Ветки ежевики царапали ей лицо. Комар больно впился в макушку. Но она не смела шелохнуться, затаилась, изо всех сил стараясь не дышать. Хрустнула ветка, она зажала себе рот рукой, чтобы ни крик, ни всхлип не выдали ее тому, кто пел:
— Инга! Иииин-гаааа, не прячься, дурочкааа!
«Господь Вседержитель, молю тебя, отведи проклятого беса, пусть он мимо пройдет, Господь и Дева Мария, умоляю!»
— Девочка, я найду тебя, куда бы ты ни спряталась! — ласково смеялся ее брат, и сафьяновым сапогом шевелил кусты дикой смородины в двух шагах от нее.
— Ну, куда ты уйдешь в моем-то лесу, а? Не дури, сестричка, ты ведь у меня одна осталась!
Девочка застыла, словно камень на морозе. Она боялась даже зажмуриться, чтобы шуршание век не привлекло его внимания. «Одна осталась», сказал он, и не соврал. Других-то всех уже извели… всех двенадцать выродков Его Светлости Абеларда Проклятого. Конечно, сам себя он величал понаряднее да пострашнее, но в народе его звали не иначе, как Дьяволом, Сатаной да Проклятым. И было за что. Когда господин князь скопытился, люди вздохнули с облегчением. Да только не знали они, что наследник и того лютее окажется! Первое, что учинил Адалвалф Дедерик Еремиас Эккехард, когда благородный отец его отошел в руки Господа («провалился в самый Ад!», как говорила чернь), это разыскал всех бастардов, кто еще в живых остался, и мог единой крови с ним быть, и привез ко двору. Душистым мылом отмыл, разодел их в шелка да меха, сладким медовым вином напоил до рвоты. За столы длинные усадил их всех при сотне свечей. И пока одуревшие, ничего слаще диких яблок в жизни не евшие щенки обоих полов хлебали ковшами драгоценное пойло, и лопоухими головами качали, тонувши в сахарных речах своего святого новоявленного братца, отборные псы Адалвалфовы вешали на деревьях их матерей, и мотали на длинные ножи кишки их отчимов. Все их соседи видали страшную, подлую цену грехов Его Светлости, и отлично усвоили, чего стоит иметь хоть половину, но княжеской крови, не будучи законно признанным перед церковью отпрыском старого Абеларда Проклятого!
Одну лишь Ингу уберег господин великий Случай. Не привидься ей морок ночной, не жила бы она уже!
Всю свою блеклую, чахлую жизнь девчонка прозябала в самой грязной и захудалой лачужке, гаже которой трудно было бы отыскать в целом королевстве. Мать ее работала прачкой при дворе Проклятого. И это все, что знала о ней дочь. А еще то, что Ингу она ненавидела, обзывала «поганым отродьем», избивала мокрым бельем, поносила, на чем свет стоит. Все мечтала, чтобы дочь сдохла где-нибудь под крыльцом, и чтоб ее не нашли, хоронить бы не надо было! Девчонка росла, как сорная трава на проезжей дороге, хилая. Мамаша ее все старалась почаще возле кухарки крутиться, в подружки набивалась. А попросту, к выпивке поближе. Воровала она вино кислое, в котором мясо вымачивалось к хозяйскому столу. Но Инга только на той дружбе и продержалась, кухарка ее подкармливала. Если б не тетушка Лизабета, никакой Инги бы давно на свете не было!
«А может, оно и к лучшему?» — судорожно метались мыслишки в голове скрюченной под кустом девочки: «Слегла бы да от голодухи усохла, и не надо было б теперь на колу три дня кровищей течь, как все ублюдки князевы…» Во рту все смерзлось, тошнота костяной рукой схватила. Не сбежать ей, ох, не сбежать!
«Но каким-то же чудом невидимым меня ото сна ночью-то сдернуло, а?» — едва не закричала она. Надежда пронзила, как горящая стрела, в самую дыхалку! А ну, как у Господа на нее свои намерения, и не выдаст он Ингу на мучительную смерть? Ведь как дело было — спала она, умученная работой в свинарнике, на вонючей сырой рогожке у себя в темном углу, замерзла по самое некуда, ночь была туманная, прохладная. Сквозь сон с силами собиралась чтобы встать и переползти к самой мирной свинушке Мушке под горячий, уютный бок. Как вдруг, будто в левую ладонь кто уколол! Заворочалась девочка, глаза открывать мочи нет, тело разламывается. Ох, только бы не рассвет… еще один день чистить свиные загоны тяжелыми лопатами, таскать неподьемные бадьи помоев, чесать сотне здоровенных животин спины скребком… «Дай еще хоть часок, на боку провести, а больше я ни о чем и просить не осмелюсь!» — прошептала Инга, и посыпалась в тревожную сонную муть, но шило в ладонь ткнулось заново, и голос позвал:
— Инга!
Так отчетливо, так властно! Вскочила девочка на ноги в одно мгновенье, готовая любые понукания и приказы принять. И… никого не видит перед собой! Что за чертовщина? Проморгалась свинарка, но даже когда глаза ко тьме привыкли, никого так и не увидела. А голос, будто бы прямиком в голову ей переместился, и велит: «Не ложись теперь, а иди прямиком в самый замок! Укради кусок господского мыла, да одежду по себе». Встала Инга, как вкопаная. «Э, нет, думает, не рехнулась я тебе, чтобы за воровство руки под топор положить, да потом глядеть, как мои же любимчики, самые мирные свинюшки, Мушка да Брюшка пальцы мои жуют!
«Иди, и ничего не бойся! Я с тобой!» — прошептал голос, а Инга охнула и дернулась. Теперь будто в левую ладонь кто ее уколол. Подняла она руки к лунному свету, и видит засохшую каплю крови на ладони правой, и свежую, блестящую темную каплю на ладони левой. Сложила она было пальцы, осенить себя святым крестным знамением, а голос в ее голове насмехается: «Ни к чему оно тебе, не примут на небе от тебя прошения!»
— Это чего это? — тихонько пролепетала озябшая, как осина под мокрым снегом, Инга. «А некрещеная ты, потому что!» — бросил ей голос, и приказал: «Двигайся! Что дальше, сама поймешь!»
Мыло украла Инга безо всякого труда, у белошвейки, которая сама его стырила у господ. Белошвейка та с конюхом по бережку гуляет, как пить дать! «Ну и дура, будешь потом, как мамаша моя, горгулья чертова, спиваться да колошматить дитя ни в чем не повинное!» — злобно думала Инга, и хотела было уже тихонько утечь, держась за стену в кромешной темноте, да запуталась в тяжелом тряпье, развешанном вдоль той стены. «Батюшки светы, одежда! Прям как велено!» — воскликнула Инга без голоса, а наставник ее невидимый в голове довольно хмыкнул. Принялась она хватать что ни попадя, а руки будто сами знают, что хватают. Увязала все в какой-то камзол — не камзол, черт его разберет, и со всех мышиных ног дернула вон! Весь замок спал, ни единого шороха, кроме тех, что сами по себе случаются — то птица господская в клетке вскрикнет, то прислуга где-то в своем уголке всхрапнет. Инга выскользнула тайным ходом, про который только дети да крысы знали. Мать ее научила, что надо в шкафу с посудой отодвинуть доску на нижней полке, которой никто не пользуется, и откроется дыра, а в ней узкий лаз. «Такой хорек паршивенький, как ты, пролезет запросто! Да с бутылочкой для мамочки, да?» — хихикала мать, по спутанным волосенкам отродье свое нелюбимое поглаживая. Инга, дурочка, все пыталась любовь ее заслужить. Таскала все, что могла. Однажды утащила крестик. На полу валялся он, в кухне. Откуда было знать ей, что блестящая штучечка окажется из золота, и обронила его любовница князева сынка. Этой штучкой он с новой кухарочкой рассчитался за нежные встречи тайком. Мать обрадовалась, с пьяных глаз пообещала Инге платьице, вспомнила вдруг, что у нее девочка, а не просто грязный выкидыш, который сатанинской волей живой ползает! Инга сознание потеряла, с голодухи и от радости. Да поторопились они обе, и мамаша и дочь.
Полюбовница наследникова своему мил-дружку нажаловалась. Тот, без ведома отца, велел прачку выпороть. И еще сам в экзекуции поучаствовал. Да так разохотился, что половину кожи с несчастной снял. Маленькая синеглазая девочка долго потом искала, да так и не смогла найти свою пьяную, злую, любимую мамочку.
Инга кралась по узкой тропинке к реке, и вдруг остановилась. А ведь прав голос-то! Некрещеная она. Никто не удосужился полумертвого младенца Господу представить. Мать, наверняка, надеялась, что дитятко поорет, поорет, да и сдохнет. А другим никому и дела не было. Даже имя ей не мать дала, и не отче в купели со святой водой. Она долго не говорила, наверное, попросту не учили ее, и пока сама не набралась хоть каких-то человеческих слов по углам, все только мычала. Однажды, когда она уже ходила и даже кое-как бегала на кривых слабеньких ножках, кто-то из дворовых спросил ее, как, мол, звать? Мать зло отмахнулась, выворачивая бесконечное, как свиные кишки, белье в бадью, а дитя нетвердо покачиваясь, икнуло:
— Йин… га… Инга!
— Инга, кочерыжка вонючая, шевелись! — шикнула она сама на себя, и резво помчалась к реке. Не время вспоминать свои горести. Крестили ли, нет ли — а бог о ней знает все! Видит ее и ведет, прямиком к воде! Отмылась она, хозяйским мылом, таким душистым, что голова кружится, так бы и набила им рот! Да пробовала уже. Крючило потом три дня, кровь с желчью отовсюду лилась, сгустками и ручьями… Инга покачала головой, отгоняя пустые видения, и принялась торопливо обтираться чем ни попадя. Оказалась, рубаха, белая, льяняная, и такая уж нежная, будто кошечку лощеную княжескую наглаживаешь! А кожа, кожа-то в свете Луны какая белая! «Это что же, моя шкурка такая, фарфоровая?» — ахнула Инга, и залюбовалась недоверчиво своими тоненькими ручками. «А уж не призрак ли я?!» — испугалась она. «Что-то больно уж бела?!» Но нет, призракам с чего бы такие муки голода претерпевать? Желудка-то у них нету, который набить себя так и просит, так и стонет пустой! «А может, вампиром я стала? Что-то голодуха совсем уж адовая…» Но крови совсе мне хочется. Дал бы кто чашечку свиной, она б не отказалсь, но чтобы прямо изводиться, как без водицы в полдень — нет такого. Значит, не упырь, рассуждала она, натягивая неслыханные, мягкие и пахучие тряпочки на свою новую, ангельски отмытую плоть. И такие они все роскошные, такие ласковые, что Инга расплакалась. Аж ноги подгибаются. Чуть в сырую траву прибрежную не осела. Но удержалась — нельзя же в таком роскошестве да в грязь! Утерлась рукавом, и чует она — надо идти! Нельзя ей здесь ночевать. «Постарайся, — сама себе говорит, — уйти, куда ноги донесут, но подальше!» Двинулась она было прочь от реки, но вернулась, и свое вонючее старое рубище истасканное, унавоженное, подняла. До чего же мерзкое, а? И как она в жизни не задумывалась, и не понимала в какие ремки кутается? Крысиное гнездо, и то набивать таким бы не стали распоследние его жители! Подняла Инга камень, да в рванину свою завернула. Сморщила нос, сплюнула, и зашвырнула его на середину реки. Любовно свой новый камзольчик погладила, так ей в нем тепло, так ласково! Залезть бы в брошеную барсучью нору, сухим мхом выстеленную, да и уснуть, вдыхая пыль и сладкий дух бархата… И забыть навсегда, насовсем о грязном тряпье, таком же мерзком как вся ее жизнь!
— Фу-ты, только б рыба не потравилась моими подарочками! — проворчала она, и торопливо зашуршала осокой прочь, прочь!
Боль в пустом животе резала пополам и застилала глаза. Но стоило ей остановиться, как ладони протыкали горячие штыри, и выступала свежая кровь. Нельзя стоять, медлить нельзя! Можно только кусать потрескавшиеся губы, и тащить себя вверх по обрыву. Дрожащими руками цепляляясь за корни деревьев, задыхаясь и отплевываясь, Инга доползла до самого верха, и рухнула в мокрую от ночной росы траву. Слезы щипали изьеденное потом лицо. Так бы тут, под старым дубом, и померла! Не хочу, не могу больше… А неуемный, злой голос тащит за шиворот. Теперь ему за каким-то чертом понадобилось, чтобы девчонка на дерево лезла!
— Не могу, не могу я! — запричитала Инга, корчась в узловатых дубовых корнях. Оставь меня умирать, на кой собачий хвост я тебе сдалась, а?
А сама уже последние ногти сдирает о железную кору. И даже не успела все, что о своем дьявольском провожатом думает, высказать, а уже сидит на толстой ветке, и дышит тяжело, надрывно, как больной шелудивый пес.
— Ну, и на кой… — начала было она ворчать, но замолчала, пораженная мрачным зрелищем. Вот он, замок, весь ее мир, но с другой стороны, которую она даже воображать не пыталась! Стоит, громадина, скалой неприступной, темные стены прямо в воду речную уходят. Лениво плещутся плошки огней на башенках. «Почему не спят?!» — заскребся у грудины тревожный хорек. Вся обратилась Инга в уши и глаза: слышит, как кричат веселые люди, смеются, переругиваясь. И лошади копытами цокают, уймища лошадей! И собаки в лае заходятся, и девчонки визжат… Да что же такое там?! Ох, кажется, правильно она утекла… вовремя!
Видит Инга — сотни огней разом вспыхнули по всему двору! Даже умей она считать, не пересчитала бы! Много огня, столько, что королевство спалить бы хватило, вздумай какой злодей весь его на волю выпустить!
Вот смотрит она — во дворе собрали столы. Веселая, разряженная крестьянская молодежь гомонит, дурная, неотесанная. Слуги им кланяются, за столы усаживают. И так захотелось ей обратно вернуть тело свое, голодное, вслед за разумом, что незримый витал среди них! Ведь там была еда! Ах, сколько еды князь выкатил… Инге бы до конца дней хватило даже половиночки от того пиршества! И к чему такая растрата? Наутро собаки да свиньи доедать будут, а ей и корки плесневелой никто не швырнет!
Смотрела Инга, как озверевшие деревенщины на сласти и вино набросились, и уже знала, что это все не к добру. Бежать бы вам, недотепы, ох, бежать бы, пока не поздно. Да не услышат они ее, такие же голодранцы, как она сама, за миску горячего варева пальцы себе отрезать готовые!
Рассвет нежно расцеловывал каждую чуть живую, трепыхающуюся фигуру. Розовый свет небес переливался в кровавые лужи по всему двору.
«Что… что они сделали? Что?» — шептала девочка сама себе по кругу. А голос, о котором она уж забыть успела, вдруг твердо проговорил:
— Это братья и сестры наследника! И ты — одна их них, ублюдок княжеский. Хочет ваш господин один такой быть, сын своего отца. И ты там была бы, медовые вина пила бы, но твой истинный Отец иначе решил.
«Кто такой, мой истинный Отец…» — как сквозь дым подумала Инга, и тут же все мысли отбросила.
Благодарность разливалась по телу, словно сытость и довольство, будто теплым вином напоили ее. Благодать божия! Вот они — руки ее, кровят немножечко, но это ничего! И ноги ее, ножки кривенькие, все еще тут, с нею! И несут ее, слушаются, родненькие! Изранила обо всякое, каждый шаг от боли так и звенит, но что болит — то и живо! И идти могут, и даже бежать. Уносите меня, ноженьки, подальше отсюдова, хоть куда, я уж вам и указывать не буду, только несите!
Так и плелась она, спотыкаясь и оскальзываясь, в счастливом забытьи, никто и звать никак — живая, живая! Пока не провалилась в лисью нору. Да там и улеглась. Накрылась с головой камзолом и уснула, тревожно и маятно.
Но спала беглица недолго. Прежде чем осознала зачем, она уже неслась, сломя голову, по кустам, не разбирая дороги. Лес смеялся над ней, враждебный и темный, как та «адова хата», куда швыряли нерасторопных слуг… Инга, когда только ходить научилась, забрела туда, куда маленькие отбросы соваться не должны, когда только ходить научилась. Тогда ее схватил за шивороток худой рубашки кто-то из «заплечных», и швырнул кухарке на руки: «Нос отрублю!» А сейчас ей казалось, что она оказалась в самом чреве того пыточного дома, откуда выхода нет, и бежит, задыхаясь и кашляя, и будет бежать вечность, по кругу! Острые ветки хватали ее за шиворот, мошкара залетала в глаза, она утирала злые отчаянные слезы, рвала кожу и оскальзывалась в ручьи, хрипела и ползла хоть бы куда, только подальше, подальше!
За ней, четко по следу, шел ее брат.
А дичь его единокровная бежала, умоляя то бога, то дьявола о защите, да поскользнулась на мокрой от росы траве, расшибла локоть о случайный камень, и притаилась. Изнурительный страх прибил девчонку к земле. Сердце ее грохотало так, что палач услыхал. На миг наступила тишина… а в следующий миг уже заслонила свет темная фигура, и тяжелая рука цепко схватила Ингу за волосы. Наследник Проклятого торжествующе зарычал и выволок костлявое тельце добычи своей, встряхнул и на дрожащие ноги поставил.
— Фи, девочка, какая же ты грязная! — картинно пристыдил ее смешливый упырь. — А одежда-то на тебе… — он сделал огромные глаза, и фальшиво ахнул: — Краденая! Не могу поверить, что дочь моего отца скатилась до воровства!! Ах, скажи, умоляю, что ошибаюсь я, и это совершенно не так?! — плаксиво выкрикнул князь и жестко схватил девочку за локти. Она только горестно всхлипнула, умоляя высшие силы, чтобы прощание с жизнью не затянулось, и не было бы слишком больно… Она уже слышала, как трещат ветки под копытами Бледного Коня, и губы ее пытались молитву складывать.
— Князь Адалвалф, отчего ты без приглашения по моим лесам охотишься?
Голос женщины прозвучал так неожиданно, как счастливый смех на похоронах. Низкий, ведьминский голос. Князь замер и разжал хватку железных когтей. А Инга аж вытянулась вся, как струна, будто этим голосом ее по хребту ударили! Столько было в нем власти непререкаемой, такая невозможность ослушаться. Если бы эта женщина была ее госпожой, свинарка бы не подумала никуда бежать, наоборот! Сама бы влезла на чурбан для колки дров, и топором бы себе лицо раскроила, когда бы того госпожа потребовала! Ингино нутро аж узлами завязывало от желание взглянуть на владелицу голоса. Но не смела она, лишь едва дышала, не в силах поверить, что еще жива…
— Ах, прости за вторжение, княгиня, не сочти за дерзость, но эта вот пигалица — моя беглая чернавка!
— Это мне все едино, чернавка или госпожа, ты залез в мой огород, и ягоды мои рвать не спраши
