автордың кітабын онлайн тегін оқу Наука о религии и ее постмодернистские критики

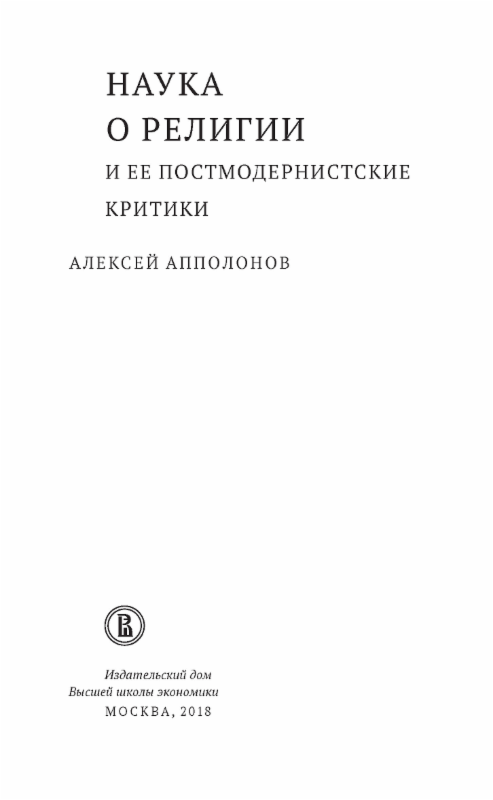
УДК 2-1
ББК 86.2
А76
Составитель серии
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ
Дизайн серии
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ
Рецензенты
д-р филос. наук, проф. Е. С. ЭЛБАКЯН,
канд. филос. наук, доц. В. В. ВИНОКУРОВ
Апполонов, А. В.
А76 Наука о религии и ее постмодернистские критики [Текст] / Апполонов А. В.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики. — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. —(Исследования культуры). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-1692-8 (e-book).
В книге представлен критический анализ некоторых современных тенденций в религиоведении, которые, по мнению автора, обусловлены рецепцией методологического релятивизма, характерного для постмодернизма второй половины XX в. Основным объектом критики является типичная для постмодернистского дискурса в религиоведении концепция, в соответствии с которой такого явления, как религия, не существовало до тех пор, пока западные религиоведы не «сконструировали» его, и что, соответственно, традиционная наука о религии должна считаться дисциплиной, которая не описывает реальность, но повествует о ею же самой изобретенных фикциях. Критикуя эту позицию, автор показывает, что, во-первых, подобные утверждения некорректны с исторической точки зрения (то есть представления о «религии» и «религиях» и тем более сам феномен религии существовали задолго до появления собственно науки о религии), а во-вторых, идея о «конструировании религии» основана на методологической ошибке (умышленной или неумышленной), которая заключается в отождествлении некоего явления и его исследования на научно-теоретическом уровне.
Издание адресовано религиоведам, культурологам, обществоведам, студентам и аспирантам соответствующих специальностей, а также всем, кто интересуется религиоведческими исследованиями.
УДК 2-1
ББК 86.2
Опубликовано Издательским домом Высшей школы экономики
doi:10.17323/978-5-7598-1736-9
ISBN 978-5-7598-1736-9 (в пер.)
© Апполонов А.В., 2018
ISBN 978-5-7598-1692-8 (e-book)
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
I. Карл Барт
1. ПАУЛЬ ДЕ ЛАГАРД: ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЛИГИИ И ВЕРЫ
2. КАРЛ БАРТ: «СНЯТИЕ» РЕЛИГИИ
3. КАРЛ БАРТ: «ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ» И ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ «КАТАСТРОФЫ» ЛИБЕРАЛЬНОГО ПРОТЕСТАНТИЗМА
4. КАРЛ БАРТ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
II. Уилфред Кантвелл Смит и другие
1. УИЛФРЕД КАНТВЕЛЛ СМИТ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ И СУБЪЕКТИВИЗМ
2. УИЛФРЕД КАНТВЕЛЛ СМИТ: КАК НЕ НАДО КОММЕНТИРОВАТЬ ФОМУ АКВИНСКОГО
3. УИЛФРЕД КАНТВЕЛЛ СМИТ: «РЕЛИГИЯ» И ЕВРОПЕЙСКАЯ ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
4. «РЕЛИГИЯ» И «РЕЛИГИИ»
III. «Религия» и «светское» в Средние века
1. RELIGIO КАК МОРАЛЬНАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ
2. О «СВЕТСКОМ» В СРЕДНИЕ ВЕКА
Вместо заключения
Библиография
Об авторе
Примечания
Предисловие
Начать мне хотелось бы с констатации следующего (весьма печального, на мой взгляд) факта: в современной науке о религии, как отечественной, так и зарубежной, набирают силу определенные тенденции (назову их условно «ревизионистскими»), которые — если только им не воспрепятствовать — могут в конце концов привести к тому, что место научного религиоведения займет опирающаяся на псевдознание маловразумительная беллетристика. Нельзя не отметить также, что в подобном угрожаемом положении находится отнюдь не только наука о религии (религиоведение[1]). В настоящее время многие традиционные теории и концепции гуманитарного знания (прежде всего исторического) подвергаются радикальному пересмотру со стороны многочисленных «разоблачителей», обычно непрофессионалов, которые плохо понимают, как работает наука, но при этом владеют наукообразной терминологией в степени, достаточной для того, чтобы выглядеть учеными в глазах широкой публики, к которой они главным образом и обращаются.
Этот феномен называют по-разному. Псевдонаучная литература по истории обычно проходит под названием «фолк-хистори», а для обозначения общегуманитарных ревизионистских тенденций используют такие термины, как «негационизм», «дениализм» и собственно «ревизионизм». Однако вне зависимости от названия данный феномен по своей сути является воплощением постмодернистского релятивизма, который, если использовать выражение постмодерниста И. Т. Касавина, стремится утвердить равенство между научным знанием и «знанием за пределами науки»[2].
Во избежание недопонимания, я скажу несколько слов о том, что я понимаю под «постмодерном», — поскольку данный термин имеет множество трактовок. Итак, под «постмодерном» я подразумеваю эпоху, которая пришла (на Западе — приблизительно в 1970–1980-е гг.) на смену европейскому Новому времени, или «модерну» (modernity, Moderne, modernité etc.). Характерными чертами постмодерна (как эпохи) и постмодернизма (как выражения этой эпохи в культуре) являются агностицизм (в отношении объективной истины), иррационализм, крайний субъективизм, отрицание ценностей и норм («вечные ценности» — тоталитарные и параноидальные идефиксы, которые препятствуют творческой реализации индивида), эклектизм (в смысле фейерабендовского anything goes), бессистемность, антиномизм, анархизм, широкий плюрализм (в смысле — любое мнение одинаково ценно) и т.п. Кроме того, есть и более специфические элементы, характеризующие постмодернистскую культуру, такие как игра, ирония, коллаж, цитатность, интертекстуальность, «смерть автора» и т.д.
Постмодерн породил мощную философскую традицию (Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр, М. Фуко, Ж.-Ф. Лиотар, У. Эко и др.), которая стала своеобразной летописью само-осознания эпохи и в качестве таковой обладает несомненной ценностью. В связи с этим я хотел бы отметить, что в задачи настоящей работы не входит критика этой традиции, тем более что многие философы, считающиеся постмодернистами, сами оценивали постмодернизм довольно негативно[3]. Представленные далее критические замечания относятся преимущественно к попыткам отдельных авторов перенести некоторые принципы постмодернистской философии, которые были сформулированы скорее для экспликации и описания «ситуации постмодерна», нежели в качестве универсальной методологии, в изначально чуждую этой философии сферу эмпирического научного знания. Хотя постмодернизм во всех своих проявлениях критически настроен по отношению к традиционной модернистской (нововременной) науке[4] как к одному из «больших нарративов», едва ли теоретики из числа названных выше философов, говоря о «делегитимации научного знания», имели в виду что-то большее, чем то, что в «ситуации постмодерна» наука не может претендовать на роль объединяющего начала в обществе. Как представляется, от этой (отчасти верной — постольку, поскольку и настолько, насколько речь идет о фиксации Zeitgeist) идеи до практических попыток релятивизации научной методологии во имя этого самого Zeitgeist — довольно приличное расстояние. Тем не менее, как будет видно из дальнейшего, в определенный момент такая релятивизация все-таки началась.
Возвращаясь к основной теме, следует сказать, что причины возникновения «ситуации постмодерна» столь многочисленны и разнообразны, что для их выявления и описания даже в самых общих чертах потребовался бы специальный научный труд. Поэтому мне не хотелось бы углубляться в этот вопрос в настоящей работе; тем не менее совершенно устраниться от него я тоже не могу. Соответственно, далее я представлю некоторые свои соображения относительно того, чтó можно считать наиболее важными факторами, обусловившими возникновение «ситуации постмодерна», и в чем следует видеть источник нынешнего специфического кризиса гуманитарного знания.
К началу XX в. модернистская (нововременная) наука достигла пика своего влияния на социум. Именно от нее ждали радикального переустройства общества, которое должно было привести человечество к новому, ранее невиданному процветанию. Однако вместо «золотого века разума» наступила эпоха экономических кризисов и мировых войн, а затем мир стал свидетелем противостояния двух сверхдержав, чреватого катастрофической ядерной войной. Кроме того, переустройство общества на научной основе (на основе как марксизма в СССР, так и разнообразных модернизационных проектов в странах Запада) оказалось процессом весьма непростым и болезненным, нередко сопровождавшимся такими отрицательными явлениями, как дегуманизация, бюрократизация, распад традиционных социальных связей, возникновение разного рода тоталитарных режимов и т.п. Идея о том, что наука является панацеей от всех бед, стала все чаще ставиться под сомнение, а вместе с ней — и сама наука.
Однако, как это ни парадоксально, подобные сомнения зарождались на фоне беспрецедентно глубокого проникновения модернистской (нововременной) науки в жизнь общества — как в виде прикладного использования научных открытий, так и в виде научной организации бизнеса, промышленности и общественных институтов. Едва ли не самыми главными следствиями научно-технического прогресса, проявившимися во всех сферах жизни человека, стали: 1) индивидуализация труда (прежде всего это относится к «образованным специалистам», «образованному среднему классу», «интеллигенции», «работникам умственного труда» и т.д., но в значительной степени также к рабочим специальностям); 2) резкий и длительный рост материального благосостояния.
Последний момент я хотел бы особо подчеркнуть. Приоритет индивида над обществом (государством, нацией, социальной группой, семьей и т.д.), постоянно декларируемый постмодерном, может быть провозглашен только в таком обществе, которое достаточно развито в материальном отношении и достаточно богато, чтобы опекать индивида от рождения и до смерти (через систему соцобеспечения, например), создавая тем самым иллюзию его независимости и самодостаточности. Жители развитых стран (и теоретики постмодерна, прежде всего), кичащиеся своим творческим индивидуализмом, своей неповторимой уникальностью, своим умением «мыслить иначе» и т.д., не смогли бы выжить без постоянной и активной (хотя и не слишком заметной) поддержки со стороны презираемых ими государственных и общественных структур. В этом видится еще один парадокс эпохи постмодерна: человек более, чем когда-либо раньше, зависит от государства и контролируется государством, но при этом, как правило, пребывает в уверенности, что он абсолютно свободен (по крайней мере потенциально).
Главным образом именно эти два фактора (при участии многих других, конечно) привели к радикальной индивидуализации общественного сознания. Эту индивидуализацию можно описать, например, в духе З. Баумана (хотя возможны и другие варианты), как фрагментацию социальной реальности и жизни отдельного человека: идея «общности интересов» оказывается все менее ясной, в то время как приоритет отдается «самореализации уникальной личности» (хотя бы и в ущерб «общему делу»), а на индивидуальном уровне совершается переход от «долгосрочной» ментальности к «краткосрочной»[5].
В результате широкого распространения того, что Т. Адорно называл «индивидуальным нарциссизмом», в определенных кругах стала практически общим местом нигилистическая критика «больших нарративов», в разряд которых попало практически все — от государственных идеологий до традиционных ценностей, включая, естественно, и модернистскую (нововременную) науку, которая стала толковаться как некий «тоталитарный («монологический») механизм», препятствующий «свободному самовыражению творческой личности», «диалогу культур, совершающемуся в межличностном пространстве», распространению «знаний за пределами науки» и т.д. и т.п. Кроме того, поскольку наука как социальный институт была (и остается) тесно связанной с государством и нередко обслуживала (и обслуживает) его интересы, критики господствующих общественных систем имели лишний повод выступить против традиционной науки как «инструмента подавления, используемого государством». Сторонники этой позиции говорят о том, что «всевластие научных экспертов — дело недопустимое, оно служит не установлению истины, а упрочению политического авторитаризма»[6]; на общекультурном уровне эта идея блестяще представлена в знаменитой песне Another brick in the wall группы Pink Floyd: We don’t need no education / We don’t need no thought control.
Как представляется, такое мировоззрение является губительным для любой осмысленной деятельности, кроме разве что самой элементарной. Весьма вероятно, человечеству (в основном, конечно, западной его части) придется долго расплачиваться за этот «постмодернистский поворот». Впрочем, долгосрочные прогнозы общего характера — это совсем не то, чему посвящена данная работа. Что же касается текущих проблем, связанных с делегитимацией модернистского (нововременного) научного знания (главным образом гуманитарного), то к вызовам, которые обусловливает представленная выше «ситуация постмодерна», надлежит добавить еще и неблагоприятные обстоятельства, связанные с воздействием научно-технического прогресса на саму науку.
Дело в том, что постоянный (пусть и не слишком заметный с определенного момента) рост влияния науки на социум выразился, помимо прочего, в беспрецедентном росте числа научных работников и вообще людей, занятых в сфере науки и образования. Если еще в начале XX в. академическое сообщество, например, исследователей религии едва ли превышало во всем мире сотню человек (причем большинство были так или иначе знакомы друг с другом), то сейчас только Американская академия религии (AAR) объединяет более 9000 преподавателей и исследователей. Понятно, что современный ученый не в состоянии прочитать работы всех своих коллег хотя бы в виде дайджеста; более того, он, скорее всего, даже не подозревает о существовании большинства из них.
Кроме того, упомянутые выше индивидуализация, рационализация и научная организация труда применительно уже к самой научной деятельности неизбежно повлекли за собой углубление специализации ученых. Сам этот феномен носит скорее нейтральный характер; но, так или иначе, он серьезно препятствует тому, что называют «научной коммуникацией». Еще в 1984 г. Р. Холлингсворт писал, что «хотя американская наука кажется весьма успешной, тенденция к углублению специализации и отсутствие междисциплинарной коммуникации может серьезно подорвать ее способности удовлетворять потребности общества»[7]. С тех пор ситуация отнюдь не улучшилась, и сейчас мы наблюдаем нарушение коммуникации уже не только между отдельными дисциплинами, но и между разными областями в рамках одной и той же дисциплины. Так, например, М. Ковальчук отмечает: «Сегодня существуют тысячи узких специальностей и специалистов, которые детально знают и понимают собственную предметную область и движутся каждый в своей парадигме, но если вы спросите ученого, изучающего, например, сверхтонкое расщепление атомных уровней, какое отношение это имеет к нашему месту во вселенной, к развитию науки и цивилизации вообще, он вряд ли поймет ваш вопрос... Количество факультетов в университетах увеличивается с каждым годом, дальнейшее дробление происходит и на уровне специальностей, на уровне кафедр. Профессор уже зачастую не очень понимает, чем занимается его коллега по кафедре»[8].
Все это ведет к тому, что ученые (даже работающие в относительно узких областях, где число их коллег не слишком велико) зачастую не могут выработать некие общие стандарты своей дисциплины, договориться о методологии или хотя бы об общих терминах, в рамках которых можно было бы вести дискуссию и обсуждать актуальные проблемы. Хотя авторитетные научные журналы пока еще спасают ситуацию, оставаясь некими центрами притяжения, формирующими «повестку дня», но в целом, как представляется, все идет к тому, что в скором времени научное знание окончательно фрагментируется и скатится в своего рода аутизм, когда ученые перестанут слушать и слышать друг друга и каждый будет заниматься своей собственной темой в рамках своих собственных представлений о том, как и зачем ею нужно заниматься.
Между тем возможность критики и свободного обмена идеями всегда составляла необходимую часть научной жизни. Она позволяла отбрасывать нежизнеспособные гипотезы, корректировать ошибки и расширять территорию научного знания. Изначально научные журналы, конференции и симпозиумы служили именно этим целям. Теперь, когда эти механизмы работают все хуже и хуже, распад научного сообщества на отдельные сегменты на фоне проповедуемого постмодерном методологического анархизма и всеядности, когда наука ставится в один ряд с уфологией и магией, может привести к крайне негативным последствиям.
Ходить за примерами далеко не надо. Вот, два профессора РАН пишут в работе, профинансированной Российским фондом фундаментальных исследований, что альбигойцы «имели пристрастие к восточным (мусульманским) культам»[9]. Эту свою оригинальную идею авторы никак не обосновывают (и даже не собираются это делать), из чего можно сделать вывод, что они особо не следили за тем, чтó пишут, и с равным успехом на месте альбигойцев могли оказаться, например, методисты, а на месте «мусульманских культов» — буддизм. Подобное может происходить только в условиях, когда, с одной стороны, фрагментация научного сообщества влечет за собой сложности с качественной экспертной оценкой псевдонаучных сочинений, а с другой — постмодернистский принцип anything goes постоянно легитимирует эту псевдонаучную деятельность как научную. Не случайно один из авторов приведенной выше сентенции во вполне постмодернистском духе отстаивает свое право «мыслить иначе»:
[Разумение человека] вовсе не одно, не косное, не заданное, неважно чем или кем — традицией, родителями, государством, Богом или языком... Не бывает... того, чтобы чему-то «не было альтернативы»[10].
В этом отношении весьма примечательны следующие слова С. П. Капицы из его предисловия к русскому переводу «Интеллектуальных уловок» А. Сокала и Ж. Брикмона:
В настоящее время мы видим непрерывный рост не только произвольных, в большинстве случаев отмеченных не только полным непониманием, но и просто безграмотных сочинений как в области естественных наук, так и современной общественной мысли и философии. В таком шуме, сопровождающем нормальный процесс развития и поиска, если он сопровождается должной нелицеприятной критикой, нет серьезной опасности, пока эта деятельность не принимает организованные формы. Такое объединение носителей «новых» теорий и «основополагающих» идей, часто группирующихся вокруг харизматических личностей, часто действует по принципу: «молчи, когда с тобой разговаривают»[11].
С. П. Капица, конечно же, прав. Действительно, в самом возникновении ненаучных теорий никакой опасности для науки нет — если эти теории сразу подвергаются «должной нелицеприятной критике». Но кто должен (и может) «нелицеприятно критиковать», например, упомянутую выше группу академиков РАН, которые требуют, чтобы уфологию уравняли в правах с эволюционной биологией, и ради этого создают, как выражается академик И. Т. Касавин, «альтернативную историю мысли»? Или, скажем, кто должен проводить научную экспертизу работ упомянутых профессоров РАН, которые считают, что альбигойцы были мусульманами? Тем более, даже если попытаться подвергнуть их тексты «должной нелицеприятной критике», ответ сведется к тому самому принципу, о котором писал Капица: «молчи, когда с тобой разговаривают»[12].
Представив эту общую вводную часть, где были кратко обозначены те трудности и вызовы, с которыми сталкивается современная наука, я позволю себе перейти к более конкретным темам, имеющим непосредственное отношение к науке о религии (религиоведению). Специфика науки о религии, как, в общем, понятно из самого названия, заключается в том, что она подходит к религии как к объекту научного исследования. Однако сама религия, как правило, имеет собственные представления о том, как ее надо изучать и с какой стороны к ней следует подходить. Подавляющее большинство религий считает себя чем-то бóльшим, чем просто общественно-культурным человеческим феноменом, претендуя на сверхъестественное, божественное происхождение. Еще в XIII в. Роджер Бэкон писал: «Все верят, что получили свои религиозные учения (sectae) через откровение... Ведь любой, кто предлагает свое учение, ссылается на божественный авторитет, чтобы ему больше верили»[13]. Соответственно, редкий верующий готов признать, что его религия подобна всем остальным и что она так же, как они, может стать объектом беспристрастного научного исследования, a priori исключающего идею сверхъестественного откровения.
Как писал один из создателей научного религиоведения Ф. М. Мюллер (1823–1900), «само название “наука о религии” будет многим резать слух, и сравнение всех религий мира, которое подразумевает, что ни одна из них не будет занимать привилегированное положение, несомненно, покажется большинству опасным и достойным осуждения, так как в данном случае игнорируется особое предпочтение, которое каждый, даже простой фетишист, отдает своей собственной религии и своему собственному богу»[14]. В этом же фрагменте Мюллер упоминает о епископе Глостерском, который считал, что «так называемая современная наука о религии, с ее попытками сопоставить священные книги Индии с Библией, заслуживает самого резкого осуждения».
Уже отсюда должно быть ясно, что отношения ученых-религиоведов с христианскими церквями и их представителями изначально не были просты.
Теологи, как правило, не выказывали дружественного отношения к новой науке, напротив, официальные представители религии — это можно сказать о представителях всех религий — были самыми непримиримыми оппонентами данной отрасли знания. Укрепившись в традиционных мнениях и достигнув высоких постов благодаря защите своих вероучений, они считали само собой разумеющимся, что должны находиться в оппозиции к новой науке[15].
В конце концов, однако, наука о религии отстояла свое право на существование; более того, к началу XX в. она стала достаточно влиятельной силой, которую нельзя было просто игнорировать. В этой ситуации некоторые христианские теологи попытались использовать науку о религии в своих собственных интересах. Произошла, по выражению А. Н. Красникова, «беспрецедентная экспансия философско-идеалистических и теологических идей в религиоведение»[16]. Наиболее показательным примером здесь может быть В. Шмидт (1868–1954), автор концепции первобытного монотеизма, которая, с его точки зрения, позволяла ввести в науку о религии понятие об изначальном божественном откровении. Однако эта попытка скрестить теологию, религиозную философию и науку о религии успеха не имела — равно как и многие другие, подобные ей. Единственным их осязаемым результатом можно считать появление на свет фантомной дисциплины «конфессиональное религиоведение», которое, насколько я могу судить при практически полном отсутствии внятных примеров, является не наукой, а замаскированным под науку вариантом (христианской) теологии[17].
Другие теологи отреагировали на вышеописанную ситуацию иначе — они стали доказывать, что научное религиоведение в принципе не может дать адекватного знания о религии (или по меньшей мере об «истинной религии») и что в религии всегда остается нечто такое, о чем может рассказать только теология. Как указывает А. Н. Красников, «теоретические возражения сводились главным образом к тому, что нельзя изучать религию при помощи рациональных методов, так как она содержит в себе иррациональные или, говоря теологическим языком, “сверхразумные” элементы»[18]. Авторы подобных теоретических возражений опирались главным образом на идеи, почерпнутые из различных иррационалистических и антисциентистских доктрин (таких как экзистенциализм, философия жизни и т.д.), воспроизводя в конечном счете известную мысль Л. Шестова: «Наука полезна — спору нет, но истин у нее нет и никогда не будет. Она даже не может знать, что такое истина»[19].
Тем не менее на этой, казалось бы, тривиальной антисциентистской почве вызрела довольно оригинальная идея. В результате своеобразного прочтения К. Барта и некоторых других авторов, а также на основании историко-филологического анализа слова religio канадский теолог У. К. Смит (1916–2000) пришел к выводу, что никакой «религии», равно как и таких вещей, как «буддизм», «христианство», «индуизм» и т.д., как минимум до XVI в. не существовало, но все они были «изобретены» на Западе в процессе «реификации» («овеществления») «живой веры». Таким образом, в трактовке Смита традиционная наука о религии оказывается дисциплиной, повествующей о ею же самой изобретенных фикциях — постольку, поскольку «традиционной формой западного исследования религиозных представлений других людей было безличное представление некоего “оно” (it)»[20]. Как таковая традиционная наука о религии должна быть оставлена в пользу исследования «живой религиозности человека», или, вернее, уникальной личности, переживающей свою уникальную веру, «которая каждый день новая»[21].
Достигнув этих глубин субъективизма, Смит делает свой окончательный, «революционный», как он его сам называет, вывод: «Истинным может считаться только такое высказывание о некоей религии, которое сочтут истинным представители этой религии»[22]. Таким образом, отбросив «объективную» науку о религии как невозможную и ложную, Смит открыто встает на позицию теологии, причем теологии сугубо субъективистского типа (здесь можно вспомнить о том, что Смит был протестантом): «Сравнительное религиоведение должно стать строгим (disciplined) самоосознанием пестрой и развивающейся религиозной жизни человека»[23].
Сформулировав идею о том, что до XVI в. никакой религии нигде в мире не было (за исключением, возможно, исламских стран[24]), Смит мог теперь объявить ничтожной любую попытку науки о религии сказать хоть что-нибудь о своем предмете. Так, согласно Смиту, история религии (религий) после его критики возможна только как история «овеществления веры» на Западе, а сравнительное религиоведение, как уже отмечалось выше, за ничтожностью самого понятия «религия» должно превратиться в «строгую» интроспекцию верующих, истолковывающих, каждый по-своему, свои психологические состояния.
Критика, которой Смит подверг традиционное религиоведение, была восторженно принята в теологической среде — куда лучше, чем его идеи о религиозных реформах и «всемирной теологии»[25]. Автора почти сразу провозгласили живым классиком, однако до определенного момента его влияние на собственно науку о религии было не слишком заметным. По большей части религиоведы не понимали, каким образом из того факта, что слово religio в Средние века имело больше значений, чем слово religion в XX в., следует, что в Средневековье не существовало никакой реальности, определяемой, например, в дюркгеймовском ключе, как «религия — система верований и практик, относящихся к вещам священным, обособленным, запретным, которая объединяет в одну моральную общность, называемую Церковью, всех, кто их принимает»[26]. Однако с наступлением эпохи постмодерна ситуация изменилась кардинальным образом.
Надо отметить, что сам по себе постмодерн на удивление бесплоден, можно даже сказать — стерилен. Упомянутые выше характерные постмодернистские приемы, такие как ирония, коллаж, цитатность, интертекстуальность, пародийность и т.п., заключаются обычно в том, чтобы поместить нечто, созданное другими еще в эпоху «больших нарративов», в неожиданный контекст или смешать различные ингредиенты (также созданные другими) в какой-нибудь странной и неожиданной пропорции. Постмодернисты, так сказать, кормятся с чужого стола, а потому они не могли оставить без внимания оригинальные идеи Смита о «религии» и о ее «создании» западными учеными, философами и теологами. Тем более что эти идеи Смита хорошо сочетались с основной постмодернистской темой — темой власти и социального конструирования. В представлении постмодернистов нововременная наука не занимается изучением реальности, но сама конструирует ее с целью обретения власти и упрочения своего идеологического влияния. Человеку, неискушенному в современной философии, эта идея может показаться странной, но на самом деле она, на мой взгляд, является самым главным элементом постмодернистского кредо. Как заметил Э. Хобсбаум, «Рост интеллектуальной моды на “постмодерн” в западных университетах, особенно на факультетах литературы и антропологии... предписывает считать интеллектуальными конструкциями все “факты”, претендующие на объективность. Или, короче, не существует отчетливой разницы между фактом и фикцией»[27]. По мнению постмодернистов, «факты» (как в области общественных наук, так и в сфере естествознания) ученые «конструируют» приблизительно так же, как писатели сочиняют романы. Именно отсюда происходит уверенность постмодерна в том, что между научными и ненаучными «дискурсами» или «нарративами» нет никакой разницы, ведь все это суть фикции, конструируемые с целью обретения власти[28].
Процесс обнаружения рвущихся к власти «конструирующих акторов» называется на постмодернистском сленге «деконструкцией», и постмодернисты подвергают ей всю историю человечества и, в частности, историю науки. Наиболее успешной считается такая деконструкция научного знания, которая позволяет заклеймить деконструируемого ученого как врага демократии и сторонника тоталитаризма (здесь мы наблюдаем полную гармонию с упомянутой ранее максимой о том, что «всевластие научных экспертов — дело недопустимое, оно служит не установлению истины, а упрочению политического авторитаризма»). Поэтому, например, Д. Дубьоссон в книге с характерным названием «Западное конструирование религии», критикуя научные воззрения М. Элиаде, делает упор не столько на содержание этих воззрений (на мой взгляд, он вообще их плохо понимает), сколько на том, что «религиозная вселенная Элиаде в общем прекрасно согласовывалась с религиозной вселенной любого диктатора прошлого века, начиная с Салазара»[29]. С точки зрения постмодернизма, этого уже достаточно, чтобы отбросить феноменологические идеи Элиаде как нерелевантные — если все «дискурсы» равно истинны (или ложны), а «тоталитарный» дискурс однозначно «плох» (с точки зрения современных взглядов на политику), то все, что с ним связано (хотя бы и опосредованно — в силу совпадения «религиозных вселенных»), тоже «плохо», а потому должно быть отброшено.
Таким образом, суммируя сказанное, отмечу следующие принципиальные моменты. Одной из реакций христианских теологов на появление и бурное развитие науки о религии стала концепция, согласно которой «религия», изучаемая наукой о религии, возникла одновременно с самой этой наукой или чуть раньше — в рамках либерального протестантизма. Нечто подобное обнаруживалось еще у К. Барта, но окончательно данный тезис был сформулирован У. К. Смитом. Затем, уже к концу XX в., идея о сознательном «конструировании» религии на Западе (будь то в рамках либерального протестантизма или в рамках науки о религии) была подхвачена антисциентистски настроенными постмодернистами. В ходе непрерывной борьбы с «тоталитарными идефиксами», среди которых едва ли не главное место занимает объективная научная истина, постмодернисты активно занялись «деконструированием» науки о религии, чтобы показать социальную и идеологическую подоплеку этой самой объективной научной истины и «обосновать мысль о равноценности науки и вненаучного знания».
Отечественный постмодернист Д. Узланер так разъясняет задачи и механизм этой «деконструкции»: «Чем же именно их [постмодернистов] не устраивает научное изучение религии? <...> а) религия — это отнюдь не самоочевидное понятие, она возникла на волне вполне конкретных процессов; б) религиоведение как наука, основанная на этом понятии, оказывается идеологией определенного сложившегося status quo»[30]. Поясняя, что такое «идеология» в данном контексте, Д. Узланер указывает, что «под идеологией здесь понимается “процесс санкционирования определенного рода представлений, особенности, история или контекст возникновения которых скрывается”»[31]. Находясь под влиянием этой идеологии (или, говоря проще, скрывая вольно или невольно свою несостоятельность), «ученые, искажая реальность, получают всего лишь еще одну вариацию на тему своей же собственной культуры»[32]. Однако у Узланера вызывает оптимизм тот факт, что «вместо незамысловатого аисторического восприятия собственных практик как объективного и бесстрастного поиска истинного знания о некой вневременной сущности, называемой религией, религиоведы начинают уделять все большее внимание истокам своей деятельности и ее месту (а также роли) в историческом процессе»[33].
Любопытно, впрочем, что отчаянно критикующие все и вся постмодернисты оказываются на редкость беспомощными, когда пытаются предложить какую-то внятную альтернативу критикуемым понятиям и концепциям. Вот, скажем, уже упоминавшийся Дубьоссон со своей книгой «Западное конструирование религии». Как отмечает в своей рецензии на эту книгу К. Кьюсак, Дубьоссон «открыто декларирует свою неприязнь к правым, традиционалистам, феноменологии религии, “школе анналов”, академическому религиоведению и западной науке»[34]. Ну и, конечно, он требует отказаться от термина «религия» и от науки о религии на том основании, что «религия, то есть слово, идея и, прежде всего, та особая область, которая ими обозначается, являет собой совершенно оригинальную конструкцию, которую создал и развивал только Запад после своего обращения в христианство»[35]. Допустим, все это так и есть. Но что предлагается взамен? А взамен (то есть вместо понятия «религия») Дубьоссон предлагает ввести более чем странное (мягко выражаясь) словосочетание «космографические формации», причем с оговоркой, что каждая такая формация представляет собой «особый метафизический мир»! Как будто «космография» и «формации», а также «метафизический мир» — это термины и явления, известные всем культурам, а не очередные (к тому же выраженные в данном конкретном случае на нездоровом постмодернистском сленге) вариации на тему все той же западной философской и научной традиции. Как пишет по этому поводу К. Кьюсак, «надо надеяться, что большинство из нас способно к более аргументированному и более состоятельному исследованию, чем то, которое предложено в “Западном конструировании религии”»[36].
Или, например, Д. Узланер, отрицая существование религии в Средние века на основании историко-филологического анализа слова religio, оправдывает такой подход посредством следующей максимы: «Чего не существует в языке, не существует в действительности», поскольку «слова и язык — это, как известно, “дом бытия”»[37]. Но каким образом тогда Узланер может утверждать, что место «религии» в Средние века занимал «католицизм»?[38] Ведь термин «католицизм» этой эпохе неизвестен, тогда как слово religio употреблялось весьма активно (в том числе в таких сочетаниях, как religio Christiana, religio Romanа, religio castrensis Romanorum, religio Iudaeorum, religio Paganorum и даже religio Catholica). Например, у «первого схоласта» Боэция (ок. 480 — 524/526) мы находим следующие слова: «Эта наша религия (religio), которая называется христианской и кафолической (Christiana atque Catholica), опирается преимущественно на следующие основоположения: от века, то есть до сотворения мира, существовала божественная субстанция Отца, Сына и Святого Духа...»[39] (далее излагаются основные догматы христианской религии). В то же время термина «католицизм» у Боэция нет. Наверное, возможны разные мнения по поводу того, как Боэций понимал термин religio; но как бы он его ни понимал, факты однозначно свидетельствуют о том, что Боэций имел представление о существовании неких религий (например, «нашей христианской и кафолической религии» и «религий варварских народов»[40]), а вот о «католицизме» или о «целостной средневековой католической традиции» он ничего не слышал и слышать, вероятно, не мог[41]. Но это последнее обстоятельство почему-то нисколько не смущает Д. Узланера, который в других случаях и от других авторов требует безусловного следования принципу «чего не существует в языке, не существует в действительности».
Впрочем, насколько бы ни была очевидной несостоятельность отдельных постмодернистских идей и концепций, постоянные атаки на науку о религии, осуществляемые авторами-постмодернистами вроде Д. Дубьоссона и Д. Узланера, не должны оставаться без развернутого и аргументированного ответа. Если нам постоянно говорят о «наступающем кризисе религиоведения» — наступающем только из-за того, что некие теологи и философы[42] сочли неадекватным («идеологически ангажированным») понятие «религия», — то, вероятно, есть смысл показать, что кризис существует главным образом в псевдо- и околонаучных сочинениях этих самых теологов и философов. Исходя из этого, в настоящей книге я попытаюсь, если можно так выразиться, осуществить ревизию некоторых ревизионистов и деконструкцию отдельных деконструкторов — прежде всего в интересах религиоведения как научной дисциплины, которой оно (пока еще) является.
[8] Ковальчук М. От синтеза в науке — к конвергенции в образовании (по материалам статьи из журнала «Образовательная политика» № 11–12 (49–50) за 2010 год). URL: http://www.nrcki.ru/files/obrazovat-politika.pdf.
[10] Неретина С. С. Этьен Жильсон: новый взгляд на старое наследие // Жильсон Э. Философия в средние века. М., 2004. С. 595–596.
[9] Неретина С. С., Огурцов А. П. Пути к универсалиям. СПб.: РХГА, 2006. С. 585. Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 04-06-87016.
[11] Капица С. П. Предисловие к переводу книги «Интеллектуальные уловки» Алана Сокала и Жана Брикмона // Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. М., 2002. С. 8.
[12] Некоторое время назад я написал именно что нелицеприятную рецензию на творчество С. С. Неретиной и А. П. Огурцова (Апполонов А. В. Второе пришествие мифа // Логос. 2013. № 2. С. 237–244). Помимо прочего, в этой рецензии я отметил как безусловно ложное и абсурдное утверждение авторов о том, что «У Боэция... все единичные вещи назывались “personae”» (Неретина С. С., Огурцов А. П. Реабилитация вещи. СПб., 2010. С. 395). Любопытно, что авторы, делая это утверждение, ссылались на стр. 78 известного издания Боэция «“Утешение философии” и другие трактаты». Но на указанной странице ничего подобного о personae не написано, и это вовсе не удивительно. Потому что personae, то есть «лица», суть «индивидуальные субстанции разумной природы» (Боэций. «Утешение философии» и другие трактаты. М., 1990. С. 172 (курсив мой. — А. А.)). Полагаю, что это очевидно: «этот вот» стол (или стул) является единичной вещью, но не «индивидуальной субстанцией разумной природы»; соответственно он никоим образом не есть persona, или «лицо». Таким образом, я поймал профессоров на искажении первоисточника и на обмане читателя при помощи ложной ссылки. Авторы могли бы просто промолчать, поскольку по существу возразить на это им было нечего. Но они молчать не стали и возразили мне следующее: «Рецензент развязно рассуждает о том, что в мифологическом мышлении неотчетливо разделяются единичное и множественное, ссылаясь на трактовку Боэцием personnae на стр. 78 “Утешения философии” (“на указанной странице, естественно (?!), ничего подобного про personnae не написано, да и не могло быть написано”, с. 245). В качестве доказательства приводится определение personnae со с. 172! Между тем в “Комментарии к Порфирию” (на с. 77–78) Боэций прямо говорит о “субстанции человека как о разумности”, о том, что “наиболее собственными отличиями называются такие, которые показывают субстанцию каждой вещи”. И этот подход, сформулированный более общо, он повторяет в определении личности как “индивидуальной субстанции разумной природы” в другой работе ― “Против Евтихия и Нестория” (с. 172). Это либо придирка рецензента, либо бессвязное прочтение текстов известного мыслителя Средневековья» (Огурцов А. П. Надо же думать, что понимать // Логос. 2013. № 6. С. 179). Что имели в виду авторы, когда писали все эти слова, — я не знаю, но никакого отношения к тому простому факту, на который я указал (то есть к отсутствию на указанной профессорами странице тех слов, которые они приписали Боэцию), они явно не имеют. При этом не могу не отметить, что — удивительно, но факт — в трех случаях из трех они написали слово «personae» с ошибкой. Из этого опять-таки видно, что подобные господа не слишком переживают по поводу того, что они пишут, заранее оградив себя от любой возможной критики искренней уверенностью, что свободным и уникальным личностям, имеющим статус профессоров РАН, дозволяется все.
[14] Классики мирового религиоведения. Антология. М., 1996. Т. 1. С. 37–38.
[13] The Opus Maius of Roger Bacon. 3 vols / J. H. Bridges (ed.). Oxford, 1879–1900. Vol. 2. P. 385.
[2] «Знание за пределами науки» — название книги, изданной группой профессоров и академиков РАН для того, чтобы «обосновать мысль о равноценности науки и вненаучного знания», включающего мистику, магию и алхимию (см.: Знание за пределами науки. Мистицизм, герметизм, астрология, алхимия, магия в интеллектуальных традициях I–XIV вв. М., 1996. С. 3). Что характерно, один из главных пропагандистов «знания за пределами науки», составитель и главный редактор названной книги академик И. Т. Касавин впоследствии признал, что, несмотря на полный успех его предприятия, результаты оказались не совсем такими, каких он ожидал. Уравнивание науки в правах, например, с уфологией внезапно (для академика И. Т. Касавина) привело к падению авторитета науки: «Политическая элита пошла по пути недооценки науки во всех отношениях — как условия обучения и развития личности, как теоретического мышления и как фактора социальных и технических преобразований» (Касавин И. Т. «Мы создали что-то вроде маленькой альтернативной истории мысли...» // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2013. № 1. С. 184). Несмотря на это, академик продолжает настаивать, что, например, «можно... допустить, что весь наш мир — это большая лаборатория, которая была запущена какими-нибудь очень влиятельными пришельцами» (Там же. С. 177). На мой взгляд, достаточно очевидно, что утверждение «равноценности», например, эволюционных теорий современной биологии и уфологических «концепций» появления жизни «и особенно человека и сознания» в результате «внеземного вмешательства» необходимо должно повлечь за собой падение авторитета (и финансирования) науки — особенно если эта «равноценность» в течение десятилетий отстаивается и пропагандируется не кем-нибудь, а группой академиков РАН. Услышав от И. Т. Касавина призывы к ученым искать знаний у мистиков, магов и уфологов, любой представитель «политической элиты» может вполне обоснованно сказать: «Если вы, академики, сами признаете, что ничего не понимаете, и допускаете, что вся Земля — это космическая лаборатория пришельцев, то, может, надо выделять средства не вам, а тем, кто занимается летающими тарелками? Они-то вообще не колеблются в подобных вопросах и полностью отвергают “академическую науку” как никчемное шарлатанство». Почему И. Т. Касавин не видит причинно-следственной связи между защитой и пропагандой (им самим и его коллегами из РАН) лженауки и общей утратой интереса к науке (в том числе у «политических элит»), мне решительно непонятно.
[1] Сразу хочу оговориться, что я использую эти термины взаимозаменяемо. «Религиоведение (от лат. religio — “религия” и славянского “вéдение”) представляет собой комплексную, относительно самостоятельную научную дисциплину, имеющую свой предмет, включающую ряд разделов, применяющую определенные методы исследования... В западной культуре исторически сложилось обозначение, которое с романо-германских языков на русский переводится как “наука о религии”... Религиоведение (наука о религии) вычленялось, развивалось и развивается на стыке с рядом дисциплин — философией, историей философии, теологией, исторической наукой, культурологией, антропологией, социологией, политическими науками, психологией, лингвистикой, фольклористикой, мифологией, этнографией и др. <...> Религиоведение изучает закономерности возникновения, изменения, развития и функционирования религии, ее качественные, сущностные характеристики, строение и различные компоненты (с учетом особенностей различных религий), многообразные феномены, как они представали в истории общества (синхронно и диахронно), взаимосвязь и взаимовлияние религии и других областей культуры, а также историю самого религиоведения» (Религиоведение: учебник для бакалавров / под ред. И. Н. Яблокова. М., 2015. С. 12–13).
[3] В качестве примера можно привести известное высказывание Ж. Бодрийяра, согласно которому «постмодернизм — это всемирный вербальный блуд». Также в одном из своих интервью он утверждал: «Постмодернизм, как мне кажется, в изрядной степени отдает унынием, а то и регрессией. Это возможность мыслить все эти формы через своеобразное смешение всего со всем» (Дьяков А. Какой смысл философу верить в реальность? (Беседа с Джерри Култером) // Хора. 2009. № 2. С. 154).
[4] Под «традиционной модернистской наукой» (или «наукой Нового времени») здесь и далее я понимаю такую познавательную деятельность человека, которая предполагает наличие объективной реальности и возможность человека объективно познавать эту реальность при помощи процедур, известных как научный метод (научные методы) познания.
[5] См.: Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2005. С. 28–30.
[6] Интерпретация идей П. Фейерабенда его симпатизантом и исследователем И. Т. Касавиным (Касавин И. Т. Указ. соч. С. 183).
[7] Hollingsworth R. The Snare of Specialization // Bulletin of the Atomic Scientists. 1984. Vol. 40. No. 6. P. 34–37.
[21] Smith W. C. The Comparative Study of Religion: An Inaugural Lecture. Montreal, 1950. P. 51.
[22] Smith W. C. Comparative Religion: Whither and Why. P. 42.
[23] Smith W. C. Religious Diversity: Essays. N.Y., 1976. P. 155.
[24] Как утверждает Смит, «в конце первого тысячелетия слова islām и dīn могли вызывать в сознании слушателей образ ислама как овеществленной сущности, как одной из религий, наряду с прочими; но после тщательного исследования становится ясно, что это была не единственная и даже не главная интерпретация» (Smith W. С. The Meaning and End of Religion. Minneapolis, 1991. P. 109).
[25] Смит любил представлять себя религиозным реформатором, который должен «помочь людям в том, чтобы религия не стояла между ними и Богом» (Ibid. P. 127). Помимо «религии» (как «овеществления» живой веры) предполагалось отбросить традиционную теологию и религиозные институты (как составные части этого «овеществления»): «Вера... это глубоко личная, динамическая, предельная, непосредственная встреча человека с Богом... Если вера жива, то человеку нет дела до абстракций и до еще более вторичного вопроса об институтах» (Ibidem). В книге с характерным названием «К всемирной теологии» Смит попытался разработать некую «компаративистскую теологию религии», которая «будучи сконструированной, стала бы неоспоримой [истиной] для всего человечества» (Smith W. С. Towards a World Theology. Faith and the Comparative History of Religion. Philadelphia, 1981. P. 126). Понятно, что книга с подобным содержанием не вызвала особого энтузиазма ни у христианских теологов, ни у представителей других религий, хотя своего читателя все-таки нашла.
[27] Hobsbawm E. The New Threat to History // The New York Review of Books. 1993. December 16. P. 63.
[26] Объяснение самого Смита выглядит довольно беспомощно и заключается в том, что «наши понятия более или менее адекватно отражают некоторые аспекты реального мира» (Smith W. С. The Meaning and End of Religion. P. 17), а потому, если понятие religio в Средние века не имело того же содержания, которое предполагает для термина «религия» современное религиоведение, стало быть, никакой религии в Средние века не было. Однако Смит почему-то не подумал о том, что для обозначения того, что называл «религией», например, Дюркгейм, в Средние века могли использоваться какие-то другие термины (например, lex или secta).
[15] Jordan L. H. Comparative Religion. A Survey of its Recent Literature. L., 1920. Vol. 1. P. 135.
[16] Красников А. Н. Методологические проблемы религиоведения. М., 2007. С. 159.
[17] Например, в России единственным известным мне случаем явного воплощения идей конфессионального религиоведения является книга Ю. Максимова и К. Смоляра «Православное религиоведение. Ислам, Буддизм, Иудаизм» (М., 2008). Собственно религиоведческая составляющая данной книги заключается в пересказе общеизвестных справочных сведений о названных религиозных традициях, а конфессиональный элемент сводится к цитированию высказываний Святых Отцов. Хотя цитирование весьма обильно, авторы, на мой взгляд, могли бы ограничиться одной цитатой из Иоанна Кронштадского (приведена на с. 248), поскольку остальные мало чем отличаются от нее: «Нечестивые не узрят Славы Твоея, Христе, то есть неверующие, непрививающиеся, католики злые, лютеране-богохульники и реформисты, евреи, магометане, все буддисты, все язычники». Проще говоря, в данном конкретном примере конфессионального религиоведения мы наблюдаем теологическую (на основании христианского Предания) оценку некоего набора знаний о религиозных традициях, что, конечно, к науке никакого отношения не имеет и лишний раз свидетельствует о том, что «конфессиональное религиоведение» есть contradictio in adjecto.
[18] Красников А. Н. Указ. соч. С. 67.
[19] Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности. Париж, 1971. С. 214.
[20] Smith W. C. Comparative Religion: Whither and Why // The History of Religions: Essays in Methodology / M. Eliade, J. Kitagawa (eds). Chicago, 1959. P. 34.
[34] Cusack C. M. The Western Construction of Religion: Myths, Knowledge, and Ideology ― by Daniel Dubuisson // Journal of Religious History. 2008. Vol. 32. No. 4. Р. 482.
[35] Dubuisson D. Op. cit. P. 190.
[36] Cusack C. M. Op. cit. Р. 482.
[38] Anitius Manlius Torquatus Severinus Boethius. Brevis fidei christianae complexio; PL 64, 1333B (здесь и далее аббревиатура PL обозначает издание: Patrologiae Cursus Completus. Series Latina. 221 vols. Paris, 1844–1879; цифра после PL указывает номер тома, цифра после запятой — страницу (колонку) тома).
[37] Узланер Д. Картография постсекулярного // Отечественные записки. 2013. № 1. С. 185.
[39] Brevis fidei Christ. compl.; PL 64, 1333B.
[40] См. сноску 97 в главе I.
[28] По меньшей мере с момента выхода «Психической болезни и личности» Фуко постмодернисты уверены, например, в том, что никаких психических болезней не существует, а есть врачи, которые стремятся к обретению власти и господства за счет объявления здоровых людей «больными». Губительный характер воздействия на психиатрию этих постмодернистских идей очень хорошо описал Ю. С. Савенко: «Именно Фуко, став одним из самых влиятельных западных мыслителей последней трети XX века, вновь принес в мир старый соблазн тотальной социологизации, политизации и прагматизации истины. Если не сам Фуко, то его бесчисленные эпигоны начали утверждать, что психические заболевания, их диагностика и лечение суть мифология, придуманная и используемая для подавления всевозможных смутьянов, нарушителей общественного спокойствия. Вместо формирования уважительного отношения к психической болезни и психической патологии мы видим лоббирование интересов представителей одних групп, фактически за счет других. Социологизация, а порой даже политизация психиатрии отражает отношение к психиатрической реальности как чисто виртуальной, точнее условной, словно психиатрия нормативная наука, наподобие права, и можно, приняв новые законы, изменить ее. При таком подходе эффект наименований, переименований, изъятий и т.п. постоянно преувеличивается. Люди приучаются вместо трудных поисков истины и сакрального к ней отношения манипулировать ею по своей воле. Психиатрическая глава МКБ-10 — яркий пример такой манипулятивности: здесь фактически отрицается научный постулат, согласно которому таксономист не создает таксоны и не отменяет их, а открывает созданное природой» (Савенко Ю. С. Переболеть Фуко // Новое литературное обозрение. 2001. № 49. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2001/49/savenko.html). А вот другой пример, приведенный А. Сокалом и Ж. Брикмоном в работе «Интеллектуальные уловки», который показывает, как постмодернизм разрушает этнографию и антропологию: «Существует по крайней мере две точки зрения на происхождение американских индейцев. Общепринятая теория, основанная на многочисленных археологических находках, состоит в том, что их предки пришли из Азии. Но некоторые индейские мифы о сотворении мира полагают, что их предки всегда жили в Америке, по крайней мере со времени их переселения из подземного мира, населенного духами. Британский антрополог Роже Анион, работавший в племени Зуни, в репортаже в Нью-Йорк Таймс (22 октября 1996) заявил, что “наука — лишь один из способов познания мира среди прочих... [Видение мира зуни] столь же правомерно, как и археологическая точка зрения на предысторию”» (Сокал А., Брикмон Ж. Указ. соч. С. 60).
[29] Dubuisson D. The Western Construction of Religion: Myths, Knowledge, and Ideology. Baltimore, 2003. P. 173.
[30] Узланер Д. Расколдовывание дискурса: Религиозное и светское в языке нового времени // Логос. 2008. № 4. С. 143 (курсив мой. ― А. А.).
[31] Там же. Д. Узланер в данном случае цитирует издание: Mccutcheon R. T. Manufacturing Religion: The Discourse on Sui Generis Religion and the Politics of Nostalgia. Oxford University Press, 1997. P. 29.
[33] Там же. С. 145.
[32] Там же. С. 144.
[41] В принципе термин «католицизм» появляется довольно поздно, как оппозиция термину «протестантизм». Средневековая religio Catholica — это, строго говоря, не «католическая», а «кафолическая», «вселенская религия», то есть такая религия, которая, согласно Боэцию и Фоме Аквинскому, «заповедует правила для всех людей» и «распространилась почти во все пределы мира» (см.: Фома Аквинский. Комментарий к трактату Боэция «О Троице». М., 2015. С. 100–102).
[42] Как пишет Д. Узланер, «на идеологическое измерение научного изучения религии одними из первых обратили внимание те, кто либо изначально не был религиоведом, но затем пришел в эту дисциплину (например, из философии), либо те, кто представлял конкурирующие (например, теологию) или смежные (например, антропологию) с религиоведением дисциплины» (Узланер Д. Расколдовывание дискурса. С. 142–143). Как видно из этой цитаты, «идеологическое измерение научного изучения религии» обнаруживается и критикуется преимущественно не учеными, но теми, кто к науке не имеет вообще никакого отношения. Что же касается антропологии, то Т. Фицджеральд (а именно его Узланер приводит как пример антрополога, «разоблачающего» науку о религии) критикует не науку о религии (science of religion) вообще, а ее вполне конкретный (псевдо- или околонаучный, с его точки зрения) вариант, religious studies, который он понимает как «современный миф о религии, сформированный в философской теологии (теософии?) христианскими авторами, такими как Дж. Хик» (Fitzgerald T. The Ideology of Religious Studies. N.Y.; Oxford, 2000. P. 31). Фактически он, как ученый-антрополог, полемизирует с авторами вроде У. К. Смита (которому, кстати, в «The Ideology of Religious Studies» посвящено немало страниц) и при этом утверждает, что за редкими исключениями все, кто занимается religious studies, — христианские теологи, а не ученые. Само наличие ситуации, когда Фицджеральд критикует понятие «религия» за его ненаучность и зависимость от христианской теологии, но при этом оказывается у постмодерниста Д. Узланера в списке борцов с научным изучением религии, где фигурируют преимущественно теологи, лишний раз подчеркивает ту прискорбную путаницу, которую в науку о религии привносят как теологи, так и писатели-постмодернисты.
I. Карл Барт
Как должно быть ясно из сказанного в Предисловии, теологическая и постмодернистская критика научного религиоведения основывается главным образом на том постулате, что никакого такого явления, как «религия», в реальности не существует (по крайней мере, как универсального явления, за пределами (некоторых) западных стран), а объект религиоведения — это некая фикция, умышленно и произвольно сконструированная учеными-религиоведами. При этом сам постулат о несуществовании религии как универсального феномена доказывается в основном при помощи историко-филологических исследований, а именно анализа термина religio и производных от него[43]. В силу данного обстоятельства именно с этих историко-филологических штудий я и начну.
1. ПАУЛЬ ДЕ ЛАГАРД: ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЛИГИИ И ВЕРЫ
Идея о том, что «религия» (по крайней мере, «естественная» и христианская) является поздним «изобретением» и имеет весьма специфический характер, впервые была представлена на теоретическом уровне в работах швейцарского кальвинистского теолога Карла Барта (1886–1968). Однако еще раньше о чем-то подобном, хотя и в довольно своеобразном контексте, говорил филолог и политический писатель Пауль де Лагард (настоящее имя — Пауль Антон Беттихер, 1827–1891). Именно с цитаты из его «Немецких записок» Барт начинает собственное исследование исторических трансформаций понятия «религия».
Насколько я могу судить, творчество де Лагарда как таковое не оказало на Барта никакого влияния, поскольку в общем и целом они были полными противоположностями: де Лагард еще в юности покинул официальную Церковь (хотя и продолжал считать себя христианином); он не был теологом в строгом смысле слова (хотя и занимался в том числе критическим изданием библейских текстов); наконец, его общественно-политические убеждения были отмечены крайним национализмом и антисемитизмом (в то время как Барт относился к национализму любого толка более чем неприязненно).
Тем не менее в вопросе о происхождении «современного» понятия «религия» Барт счел нужным обратиться к тексту де Лагарда, приняв его в качестве своеобразных пролегоменов к своему исследованию. Основная идея де Лагарда, представленная в этом тексте, заключалась в противопоставлении «веры» и «религии». Он решительно заявлял, что католицизм уже умер (или по меньшей мере находится при смерти), а протестантизм утратил свою внутреннюю силу и пребывает в завершающей стадии разложения. Времена Реформации прошли, и то, что некогда вдохновляло Лютера (а именно принцип sola fide, оправдание исключительно верой), исчезло из религиозной практики почти полностью. Эти свои утверждения де Лагард постарался подкрепить рассуждением, которое и использовал в своей работе Барт. Позволю себе привести его целиком:
Того, кому эти взгляды покажутся странными, я прошу рассмотреть следующие факты. То, что понимали под словом religio римляне, нас в данном случае не интересует. В Средние же века «религиозным» назывался тот, кто вступил в некий орден, то есть принял монашеские обеты. Французских гугенотов, которые отличались высокой нравственностью, называли поэтому messieurs de la religion, монахами без обетов. В лютеранской Германии мы время от времени встречаем слово «религия» во введениях в конфессиональную догматику; современное его употребление входит в обиход у немцев лишь где-то после 1750 г., когда оно проникло [в Германию] из Англии и деистических литературных кругов (начало этому было положено работами лорда Эдварда Чербери, а завершение дано Толандом, Коллинзом и Тиндалом). Слово «религия» было введено как решительная противоположность слову «вера», столь значимому для лютеранской, реформистской и католической церквей, и главным здесь является деистическая критика общехристианской концепции откровения. Захотим ли мы теперь утверждать, что все еще пребываем в сфере Реформации? Наше промежуточное состояние, которое всегда с почтением высказывается о религиозных людях, ничего не желает знать о верующих[44].
Возможно, именно здесь традиционная христианская проблематика отношения между разумом и откровением впервые была представлена в виде четкой оппозиции «религия — вера». И надо сказать, в чем-то де Лагард был прав. Действительно, деистам было трудно называть свою религию «верой» — хотя бы потому, что она основывалась на разуме («естественная религия»), а там, где есть знание, веры уже быть не может; поэтому Коллинз, например, предпочитал применительно к себе говорить не о «вере» (faith), но об «убеждении» (belief). Однако во всех прочих отношениях концепция де Лагарда является совершенно несостоятельной. Во-первых, ничто в текстах названных им деистов не указывает на то, что они вводили (хоть в Англии, хоть в Германии) термин «религия» в качестве «решительной противоположности» термину «вера». Например, для Чербери, в его знаменитом сочинении «De veritate», характерна оппозиция «истина — откровение»[45], а вовсе не «религия — вера»: термин «религия» не был для него ключевым. Тиндал, хотя и часто употреблял этот термин, вообще не противопоставлял свою «религию природы» «религии откровения»: он предпочитал говорить об «отличиях без всякого различия» (distinctions without any difference)[46], а противопоставление у него шло по линии «религия — суеверие»[47]. Толанд по крайней мере частично признавал христианское откровение[48] и, кроме того, говоря о христианстве, употреблял преимущественно термины «Евангелие» (Gospel) и собственно «христианство» (Christianity), а не «христианская религия» (Christian religion). В общем, ничто не свидетельствует о том, что деисты сознательно вынашивали и осуществляли планы, приписываемые им де Лагардом.
Во-вторых, независимо от того, как обстояло дело с английскими деистами, не подлежит сомнению тот факт, что термин «религия» в Германии был введен в обиход значительно раньше середины XVIII в. Это очевидно хотя бы из того, что термин religio (именно в смысле «христианской религии», religio sincera et vera) часто употребляется уже в тексте «Аугсбурского исповедания» (1530)[49]. Также следует вспомнить о том, что главное сочинение Кальвина называлось «Institutio Christianae religionis», а в немецких землях (особенно в примыкающих к Нидерландам) кальвинизм распространился уже в конце XVI столетия. В 1572 г. «Institutio» было переведено на немецкий язык под заголовком: «Institutio Christianae religionis. Das ist unterweisung inn Christlicher Religion in Vier Bücher verfasset». Можно привести и другие примеры изданных в Германии теологических сочинений, в которых термин religio употреблялся значительно раньше второй половины XVIII в. Так, немецкий лютеранин Иоганн Вильгельм Байер (1647–1695) писал в своем трактате «Компендий позитивной теологии», что «в естественной теологии средства достижения блаженства суть действия ума и воли, обращенные к Богу... именующиеся одним словом “религия”»[50]. Приведем и другой пример. Изданный во Франкфурте в 1699 г. «Синопсис теологии» голландского кальвиниста Франциска Бурманна (1628–1679) начинается с главы «О религии и теологии», где, помимо прочего, сказано: «Религия есть истинное основание познания Бога и поклонения Ему, благодаря коему разумное творение оказывает Богу как первому Творцу и своему Господу должное почтение и совершает культовые действия в твердой надежде на божественное воздаяние»[51]. Нетрудно заметить, что в этих определениях (особенно это касается определения Байера, связывающего религию с «естественной теологией») нет ничего, указывающего на веру или откровение. Так что даже если поверить де Лагарду в том, что понятие «религия» внедрялось в Германии как «решительная противоположность» понятию «вера», то этим занимались отнюдь не английские деисты, а голландские кальвинисты и немецкие лютеране, и не во второй половине XVIII в., а столетием (а то и двумя) ранее.
Таким образом, мы имеем дело с более чем сомнительной теорией, противоречащей очевидным и хорошо проверяемым фактам. Впрочем, де Лагарда можно извинить. Если говорить о его политических сочинениях, то историческая истина была последним, чем он интересовался. Как совершенно справедливо охарактеризовал его стиль письма Ф. Штерн, «он писал как пророк: он не рассуждал и не разъяснял, но изливал свои обиды и жалобы, свои интуитивные прозрения и обетования; в его трудах нет ясности, нет системы, в одном и том же эссе он перескакивает от одной темы к другой»[52].
Впрочем, возможно, и сам де Лагард не принимал всерьез свою концепцию о противопоставлении религии и веры. Во второй части вышеназванного эссе он обращается уже к критике христианства как такового, безотносительно «веры» или «религии», а также безотносительно каких-либо временных рамок[53], противопоставляя ему еще не существующую, еще только создаваемую (благодаря, конечно, главным образом его усилиям) немецкую национальную религию (именно религию!), Nationalreligion. Теперь он уже не видит в термине «религия» никакого негативного оттенка; более того, он представляет себе религию как глубоко и лично прочувствованную, наличествующую «здесь и сейчас» связь человека с Богом, с тем Вечным, благодаря которому вечным становится сам человек[54].
Как бы то ни было, творчество де Лагарда in toto имеет весьма отдаленное отношение к теме настоящего исследования, а потому я не буду останавливаться на достоинствах и недостатках его политических эссе. Тем не менее необходимо отметить следующее. Барт, насколько можно судить, в целом принял его идею о противопоставлении веры и религии, однако, поскольку был знаком с протестантской теологией XVI–XVIII вв. не в пример лучше де Лагарда, не стал относить введение концепции религии на счет английских деистов (именно этим, надо думать, объясняется то, что цитата из де Лагарда приведена им в усеченном виде, без упоминания о Чербери, Толанде и др.). Кроме того, Барт провел более тонкую дистинкцию между религией и верой: с его точки зрения, речь следует вести о противопоставлении не просто религии и откровения (веры), но естественной религии и откровения (при том что концепция естественной религии, по его мнению, внедрялась в протестантскую теологию голландскими и немецкими теологами, находившимися главным образом под влиянием картезианства).
2. КАРЛ БАРТ: «СНЯТИЕ» РЕЛИГИИ
Для лучшего понимания этих идей Барта необходимо хотя бы в общих чертах рассмотреть ситуацию, сложившуюся в протестантской теологии к началу XX в. Как уже говорилось в Предисловии, отношение христианской теологии к научному религиоведению с самого начала было в общем враждебным; однако в протестантских землях Германии сложилась совсем другая ситуация. Либеральный протестантизм в лице своих наиболее выдающихся представителей (Д. Штраус, А. Ритчль, А. Гарнак, Э. Трёльч и др.) отнесся к новой науке о религии настолько сочувственно, насколько это вообще было возможно[55]. Такой подход, предполагавший (в теории) стирание границ между научным изучением религии и теологией, в общем и целом нашел понимание в интеллектуальных кругах Европы и стал своего рода визитной карточкой немецкоязычной теологии. А. Швейцер (с явно излишним, на мой взгляд, пафосом) утверждал в 1906 г., что «в будущем, когда грядущие поколения смогут рассматривать наш период цивилизации как некое единое и законченное целое, станет ясно, что немецкая теология является величайшим, уникальным феноменом интеллектуальной и духовной жизни нашего времени. Ибо только в Германии обнаруживается ныне столь совершенным образом живой комплекс условий и факторов: философской мысли, критической проницательности, исторической интуиции и религиозного чувства»[56].
Однако, как весьма точно заметил А. Н. Красников:
Столь тесное, на первый взгляд, взаимодействие либеральной теологии и религиоведения в Германии не устранило противоречия между ними. Это противоречие проявлялось не только в институциональной сфере, оно было перенесено в сами теологические доктрины. Когда немецкие теологи желали быть беспристрастными исследователями религии, они переставали быть теологами в прямом смысле этого слова, если же они оставались на позициях христианской теологии, то они переставали быть объективными учеными. Пытаясь разрешить это имманентное противоречие, протестантские теологи были вынуждены прибегать к смягчению теологических и научных идеалов, к размыванию границ между ними, что явилось одной из причин кризиса либеральной теологии[57].
У этого кризиса была и другая причина: некоторые теологи начали понимать, что с течением времени либеральная теология все больше утрачивала свою собственно христианскую теологическую составляющую; возникла опасная для самых основ веры ситуация, когда Religionswissenschaft именно как Wissenschaft, то есть человеческая наука, начинала диктовать теологии как учению о Боге, что считать истинным, а что ложным. В 1922 г. Барт (который еще недавно сам склонялся к либеральной теологии) отреагировал на эту ситуацию публикацией новой, второй редакции своего комментария к Посланию к Римлянам, которая стала вехой в истории западной теологии, заложив основы «нео-ортодоксии». В этой же работе Барт впервые представил в развернутом виде свои идеи по поводу «естественной человеческой религиозности» и христианской религии. В религии — той самой, о которой так много говорила либеральная теология, пытавшаяся стать «наукой о религии», — Барт не обнаружил ничего, кроме греха, смерти, нечестия и безбожия, а также человеческого самодовольства и самоуверенности[58]. Однако, отдав должное критике религии с позиции Фейербаха (и даже Маркса), Барт отмечает, что хотя христианская религия как таковая не может привести человека к Богу, она «приводит нас в то место, где мы должны ждать встречи с Ним». «Нет» религии превращается в божественное «Да» в тот момент, когда религия как последняя «данность» (Gegebenheit) «снимается» благодатью откровения, а потому человек не может избежать религии и не должен стремиться заменить ее чем-то другим[59]. Парадоксальный характер этой идеи довольно точно зафиксировал Г. Грин: Барт устанавливает «приоритет откровения над религией, не отрицая религиозной природы откровения»[60].
В «Церковной догматике» Барт в значительной степени развил и дополнил эту свою концепцию, а заодно детально проработал вопрос о взаимоотношениях религии и откровения, «науки о религии» и христианской теологии, разума и веры. Согласно Барту, человек как таковой всегда был, есть и будет религиозным:
Насколько можно судить, человеческая культура в общем и человеческое существование в частности всегда и везде соотносились людьми с чем-то предельным и окончательным... как культура, так и существование человека детерминировались (хотя бы частично) почтением перед чем-то явственно бóльшим, перед чем-то Иным (даже совершенно Иным), относительно Высшим (даже абсолютно Высшим)... Где и когда человек не осознавал своего долга поклоняться Богу или богам в форме того или иного конкретного культа: создавая изображения или символы божества, принося жертвы, каясь, молясь, учреждая традиции, игрища и таинства, формируя общины и церкви?[61]
Религия, таким образом, является универсальным феноменом, и прилагательное «христианский» в случае «христианской религии» есть не более чем предикат при субъекте, который может иметь и другие предикаты («буддистская», «иудейская», «мусульманская» и т.д.). Более того, Барт настаивает на том, что отрицание этого факта ведет к отрицанию божественного откровения, которое есть «судящее, но также и примиряющее присутствие Бога в мире человеческой религии» и которое осуществляется через излияние Духа Святого[62]. Дело в том, что откровение есть событие, которое происходит с человеком. Источником откровения является Бог (и Бог же является основанием возможности того, что человек воспримет откровение — Барт категорически не допускает «субъектности» человека в его отношениях с Богом[63]), но в любом случае это событие хотя бы отчасти «обладает формой человеческого состояния, опыта и деятельности», «а также видом и чертами человеческого, исторически и психологически схватываемого феномена»[64]. И, будучи таким человеческим феноменом, религия как таковая (это относится и к христианской религии, конечно) предстает — в сравнении с откровением — как Unglaube, неверие, и, соответственно, как грех. «Грех — это всегда неверие. А неверие — это вера человека в самого себя... И эта вера есть религия»[65]. В религии человек, как пишет Барт, замахивается на то, чтобы то, чтобы самостоятельно постичь Бога. Но это самонадеянная и притом бессмысленная попытка: согласно Барту, Бог — абсолютно Иной, и если Он сам не сообщит о себе в своем откровении, то пытаться постичь Его бесполезно (и не только бесполезно, но и вредно: как пишет Кальвин, которого с одобрением цитирует Барт, «они не воспринимают Бога так, как Он предложил себя, но воображают себе как Бога то, что сами создали произвольным образом»[66]).
Таким образом, более или менее ясно, что хочет сказать Барт, когда говорит о религии как о неверии. Взаимоотношения религии и откровения напоминают отношения падшего человека и божественной благодати в традиционной кальвинистской трактовке. Сам по себе, без божественной благодати, падший человек не способен ни к каким благим действиям; точно так же без благодати откровения любая религия (в том числе христианская) есть «неверие, идолопоклонство, самоуверенность».
Если, говоря об «истинной религии», мы имеем в виду истину, которая принадлежит религии как таковой, религии самой по себе, то это понятие столь же некорректно, как и понятие «благой человек», если под благостью человека понимается то, чего человек достигает при помощи своих собственных возможностей. Она может только стать истинной — постольку, поскольку начнет соответствовать тому, на что она претендует и что отстаивает. И она может стать истинной лишь в том же самом смысле, в каком оправдывается человек, то есть благодаря чему-то такому, что приходит извне... что приходит к нему вне зависимости от его собственных качеств или заслуг[67].
Стать истинной христианская религия может только благодаря тому, что «снимается» откровением, которое как бы принимает ее в себя. Однако — и это крайне важно для понимания концепции Барта — откровение «снимает» и «принимает в себя» христианскую религию вовсе не потому, что в ней самой есть что-то, благодаря чему она принципиально превосходит все остальные религии. «Мы не можем слишком настойчиво подчеркивать связь между истиной христианской религии и благодатью откровения», — пишет Барт[68]. Почему? Потому что как Бог оправдывает человека вне зависимости от его заслуг (которых у того просто не может быть до оправдания), так и христианская религия «снимается» божественной благодатью исключительно потому, что этого хочет Бог; соответственно, христианство как таковое не занимает какого-то особого привилегированного положения в мире религий (которое обеспечивало бы, так сказать, его связь с откровением). Бог исключительно по собственному усмотрению избрал время и место для своего откровения, равно как он исключительно по своему усмотрению избирает людей, составляющих Церковь Христову, которая есть «место истинной религии». Это избирание и оправдание и, соответственно, становление христианства в качестве истинной религии происходит постоянно:
Если мы начнем говорить о христианской религии как о реальности, нам будет недостаточно просто обратиться к прошлому, к моменту ее сотворения, и к ее историческому бытию. Нам надо будет думать о ней так же, как о своем собственном существовании и о существовании мира; как о реальности, которая была сотворена и творится Иисусом Христом: вчера, сегодня и завтра. Вне акта своего сотворения именем Иисуса Христа, каковое творение относится к типу creatio continua (постоянного сотворения), и, следовательно, вне Творца она не имеет реальности[69].
Исходя из этой общей картины отношения религии и откровения, легко понять претензии Барта к либеральному протестантизму. Главный недостаток протестантской теологии начала XX в. (повлекший, по мнению Барта, более чем серьезные последствия для христианской Церкви и веры) заключается вовсе не в фиксации того факта, что христианство — по крайней мере, в некоторых своих аспектах — является религией, такой же, как и другие. Главная проблема в том, что протестантская теология — в виде либерального протестантизма — потеряла всякий интерес к божественному откровению как к своему специфическому и собственному предмету и практически всецело погрузилась в сферу человеческой религии.
3. КАРЛ БАРТ: «ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ» И ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ «КАТАСТРОФЫ» ЛИБЕРАЛЬНОГО ПРОТЕСТАНТИЗМА
3.1. Концепция
Собственно, до этого момента Барт остается в рамках обычной для конца XIX — начала XX в. парадигмы: религия есть универсальный феномен sui generis, она является человеческим, а не божественным феноменом и вполне адекватно исследуется наукой о религии. Да, у Барта к этому добавляется определенная специфика: по его мнению, христианская религия отлична от других — она является истинной религией и становится таковой благодаря тому, что «снимается» божественным откровением. Но в этом его подходе также нет ничего принципиально нового, кроме разве что оригинального и сугубо кальвинистского по своей сути способа утверждения и объяснения «особенности» христианской религии.
Однако Барт на этом не останавливается. Христианство, говорит он, далеко не всегда было «религией» в указанном смысле. Точно так же и протестантская (и шире — христианская) теология отнюдь не всегда тяготела к науке о религии. Чтобы показать это, Барт предпринимает специальное историческое исследование, о котором мне хотелось бы сказать более подробно — поскольку некоторые его результаты легли в основу «религиоборчества» более поздних авторов.
Исследование Барта начинается с краткого рассуждения о Средних веках. По мнению швейцарского теолога, Фома Аквинский, хотя иногда и писал о religio Christiana как об объекте теологии, но «даже и не помышлял ни о какой христианской религии»[70]: ему, как и любому средневековому католическому теологу, было совершенно чуждо «понятие религии, как общее понятие, которое объемлет христианскую религию, как и все прочие»[71]. Барт полагает, что «религия» и «христианство» в ту эпоху были безусловно тождественны друг другу. Те положения христианской религии, которые относятся к ее «человеческой» составляющей, никогда не рассматривались средневековыми авторами в отрыве от христианской жизни. Иначе говоря, они вычленялись ими (скажем, в рамках естественной теологии) не как особые элементы человеческой религиозности «вообще», но исключительно как элементы религиозной жизни христианина в благодати.
В этом отношении ничего не изменилось и с началом Реформации: Жан Кальвин, говоря о religio Christiana, и не помышлял о том, чтобы сделать прилагательное Christiana предикатом «чего-то человеческого в нейтральном и универсальном смысле... для него religio являлось сущностью Х, которая получает содержание и форму только тогда, когда она эквивалентна христианству, то есть постольку, поскольку откровение принимает его в себя и оформляет по своему образу»[72]. Те же самые идеи (с незначительными вариациями) Барт приписывает ранним представителям протестантской схоластики, приводя в качестве иллюстрации следующие слова Аманда Полануса (1561–1610): «В собственном смысле слова существует только одна истинная религия, а остальные не существуют, но лишь называются таковыми»[73].
Катастрофа — именно это слово использует Барт — произошла в результате деятельности Соломона ван Тиля (1643–1713) и Иоганна Франца Буддеуса (1667–1729). Благодаря творчеству этих теологов рождается концепция «естественной религии» (как некоего минимума религиозных представлений, свойственного всем (или почти всем) известным религиозным учениям). Она определяется как объект «естественной теологии» — учения о Боге, достигаемого «средствами естественного разума», вне и независимо от божественного откровения. Именно так, по мнению Барта, возник либеральный протестантизм, или неопротестантизм, важнейшей характеристикой которого является то, что в нем не религия постигается в свете откровения, но откровение — в свете «человеческой религии». Начиная с Буддеуса и ван Тиля, полагает Барт, протестантские теологи постоянно подходят к откровению с рациональными, человеческими мерками. Таким образом, человеческий разум выносит суждение об откровении («судит откровение»), а это, согласно Барту, есть самовозвеличивание человека и в конечном счете грех неверия. В принципе неважно, с чем именно соотносится библейское учение: с «естественной религией» Буддеуса и ван Тиля, с этической системой И. Канта или, скажем, с библейской критикой Д. Ф. Штраусса. Либеральная теология во всех этих случаях проявляет колебания в самой сущности веры:
В своей теории и в своей практике она перестала рассматривать важнейшие положения лютеранского и хайдельбергского исповедания как непререкаемые аксиомы. Исходно и преимущественно грехом было неверие, умаление Христа... когда мы начали тайно тяготиться Его владычеством и Его утешением. Не отрицая положения катехизиса, эта теология считала, что ее задача заключается в том, чтобы рассмотреть человека с некоей точки зрения, отличной от точки зрения царства и владычества Христа[74].
Как научное религиоведение должно относиться к бар-товской теории религии? Может ли эта теория рассматриваться как научная, хотя бы в некоторой степени? Ответ достаточно очевиден. Даже в первом приближении ясно, что предложенная Бартом концепция религии является теологической: он писал как христианский теолог и для христианской аудитории, то есть исходил из принципов, имманентных христианскому вероучению как таковому. Собственно, сам Барт неоднократно указывал на это, говоря, например, о том, что его задачей является «теологическая оценка религии и религий»[75]. При этом данная оценка предполагает, что «человек рассматривается и познается как субъект религии со всей серьезностью», но «это не должен быть человек, обособленный от Бога, человеческое существо само по себе; это должен быть человек, для которого (неважно, знает он сам об этом или нет) родился, умер и воскрес Иисус Христос; это должен быть человек, к которому обращено Слово Божие (неважно, слышал он его или нет); это должен быть человек, для которого (неважно, осознает он это или нет) Христос является Господом»[76].
Равным образом совершенно очевидно, что в компетенцию научного религиоведения не входит вопрос о том, является ли христианство религией, «снятой» и «вознесенной» божественной благодатью, или не является; научное религиоведение может только констатировать, что ее считают таковой Барт и его последователи. Кроме того, едва ли можно сомневаться в том, что сам Барт никогда бы не согласился с тем, чтобы его концепции был придан научный статус — ведь это значило бы, что христианство рассматривается и оценивается с позиции науки, и сам этот факт сделал бы его обычной религией, одной из многих[77]. Таким образом, теория религии Барта никоим образом не является научной теорией: она относится не к научному религиоведению, не к философии религии, но к «теологии религии», что совершенно справедливо отмечает, например, Джозеф Ди Нойя[78].
Имеются, однако, и другие вопросы, ответы на которые крайне важны для настоящей работы. Насколько корректны исторические изыскания, проведенные Бартом? Действительно ли трансформация понятия «религия» происходила в соответствии с представленной в «церковной догматике» схемой? Можно ли утверждать, что именно творчество ван Тиля и Буддеуса стало своего рода отправным пунктом для либеральной протестантской теологии? И наконец, самое главное: верно ли утверждение Барта о том, что концепции «христианской религии» и «естественной теологии» (по крайней мере в том виде, в каком они представлены у ван Тиля и Буддеуса) абсолютно чужды европейскому Средневековью?
Итак, рассмотрим более подробно «естественную религию» и другие «опасные новшества», которые, по мнению Барта, внедрили в протестантскую теологию Соломон ван Тиль и Иоганн Франц Буддеус, в результате чего протестантизм постигла упомянутая выше «катастрофа». Для удобства изложения я разделил текст Барта на отдельные тезисы и пронумеровал их следующим образом.
1. Соломон ван Тиль и Иоганн Франц Буддеус первыми сформулировали концепцию «естественной религии». Изложение церковной догматики (речь идет прежде всего о таких работах, как «Компендий обеих теологий» ван Тиля и «Установления догматической теологии» Буддеуса) теперь начинается с представления и описания «общей, естественной и нейтральной религии», которая является «предпосылкой» всех прочих религий.
2. «Естественная религия» опирается на естественный разум и является «определенным человеческим усердием» (certum hominum studium). Согласно «убежденному картезианцу» ван Тилю, «началом, от которого естественная религия должна получать доказательную силу касательно того, что относится к Богу и Его культу, является свет разума», а сама «естественная религия» есть «определенное человеческое усердие», «коим любой по своему разумению направляет свои способности к созерцанию и поклонению определенному божеству, насколько считает это для себя подобающим, чтобы это божество ответило ему при случае благосклонностью»[79].
3. «Естественная религия» разворачивается в «естественную теологию», которая является основанным на естественном разуме учением о природе и атрибутах Бога, о Его отношении к миру и т.д. Буддеус утверждает, что человек и без откровения может обладать знанием о бытии «высшего существа», а также о том, что это существо: а) соединяет совершенство знания, мудрости и свободы; б) является вечным и всемогущим, совершенно благим и правдивым, истинным и святым; в) является предельной причиной и руководящим принципом вселенной; г) является высшим благом человека; д) открывает перед ним путь к бессмертию души и обретению высшей награды; поэтому е) человек должен подчиняться этому существу и исполнять определенные обязанности по отношению к нему самому и к своим ближним. Все таковое может быть познано «без особого труда», ведь «разум прекрасно научает всех людей, а эти [положения] соединяются друг с другом таким образом, что если некто опытен в рассуждении и наделен здравым умом, то он, как только помыслит таковое, тут же с ним соглашается»[80].
4. При этом Буддеус и ван Тиль предупреждают о недопустимости «смешения начал разума и веры»; одной «естественной религии» для спасения недостаточно, человек нуждается также и в божественном откровении. Согласно Буддеусу, знание «естественной религии» о Боге не распространяется на вечное спасение, поскольку человек, даже постигая — благодаря своему естественному разуму — все то, что сообщает ему естественная теология, не имеет сверхъестественных (благодатных) средств, которые позволили бы ему вступить в общение с высшим благом, Богом. Соответственно, «естественная религия» должна дополняться откровением.
5. С другой стороны, именно «естественная религия» оказывается критерием оценки всех прочих религий и даже божественного откровения. Согласно Буддеусу, «естественная религия» содержит notiones (понятия), которые суть «основы и начала любой религии». Именно благодаря этим notiones мы можем распознавать «религии, которые опираются на откровение». Откровение не может противоречить разуму, поэтому то, что противоречит этим «понятиям естественной религии», либо не является откровением, либо является неправильно понятым откровением. У ван Тиля естественная теология «достигает своей кульминации» в учении о praeparatio evangelica («предуготовлении к Евангелию»), в котором: 1) из преамбул и данных естественной религии логически постулируется необходимость примирения Бога и человека; 2) опять-таки из начал естественной религии выводятся условия этого примирения; 3) наконец, сравниваются друг с другом религии еретиков, иудеев, мусульман и христиан, причем показывается, что христианская религия отвечает выведенным условиям и, соответственно, признается богооткровенной религией.
Далее Барт заключает:
Это и есть программа ван Тиля и Буддеуса... Человеческая религия, отношение с Богом, которым мы можем обладать и актуально обладаем независимо от откровения, есть не неизвестная, но вполне известная величина — как в том, что касается формы, так и в том, что касается содержания; и как таковая она есть нечто, что следует признать имеющим центральное значение для любого теологического мышления. Она фактически образует предпосылки, критерии, необходимый аппарат для понимания откровения. Она демонстрирует нам вопрос, на который отвечают все положительные религии (включая религию откровения), и при этом оказывается, что христианская религия, как наиболее удовлетворительный ответ на этот вопрос, обладает преимуществами перед другими религиями, а потому по праву должна называться богооткровенной. Христианский элемент теперь действительно стал предикатом нейтрального и универсального человеческого элемента, а вместе с этим завершилась и теологическая переориентация, которая угрожала еще со времен Ренессанса[81].
3.2. Подоплека
В общем и целом Барт вполне адекватно изложил отдельные идеи, представленные в сочинениях ван Тиля и Буддеуса. Однако, как мне кажется, по определенным причинам (о которых я подробнее скажу чуть позже) он сильно сместил акценты, умолчав о некоторых других идеях этих теологов. Начать с того, что в случае ван Тиля естественная религия едва ли имеет «центральное значение для любого теологического мышления»: объектом богооткровенной теологии (а соответственно, тем, что имеет для нее «центральное значение») у ван Тиля является не естественная религия, не некие рационально познаваемые истины, но сам Бог, причем именно сообразно тому, чтό Он сообщил о себе в откровении:
[Теология] есть слово о Боге, от Бога, в присутствии Бога и ради Бога: «о Боге» — потому, что ее объектом является Бог; «от Бога» — потому, что [ее источником] является божественное откровение; «в присутствии Бога» — потому, что она содержит слова, которые должны говориться в страхе Божием; «ради Бога» — потому, что распространяется во славу Божию[82].
Далее ван Тиль пишет: «Истинная религия есть приверженность пути спасения (Деян. 16:17), который был дан во Христе (Ин. 14:6) и открыт Богом (Пс. 24:8) и который предназначен для того, чтобы привести грешника к блаженному общению с Богом (Притч. 8:32)»[83]. Как таковая истинная религия obiective (то есть сообразно объектам) делится на три части: 1) разъяснение таинств; 2) изложение обетований; 3) предписывание заповедей. При этом ее признаками (notae) являются следующие: во-первых, она содержит: а) полное и исчерпывающее знание о Боге и б) все необходимые установления, относящиеся к религиозному культу; во-вторых, в ней в) человек приводится к наивысшему смирению; г) совершенным образом восхваляется божественная благодать; д) устанавливается подлинное благочестие.
Приняв это во внимание, можно задать вопрос: почему, собственно, представленное выше определение «истинной религии» нельзя считать, словами самого Барта, «нормативным понятием, сформулированным на основе Священного Писания»? В чем принципиальное отличие этого определения и следующей за ним детализации (деление и признаки) от концепции, скажем, Фридриха Венделина, который писал следующее:
Объектом теологии является истинная религия, которая есть основание познания Бога и поклонения Ему, предписанная Богом в Его славу и во спасение человека... Основных признаков, сообразно которым истинная религия в общем отличается от ложной, суть три: 1) она обращает нас и наш культ к истинному Богу; 2) учит культу, откровенному Богом и никогда не упразднявшемуся; 3) указывает подобающее основание, сообразно которому удовлетворяется справедливость Бога, а человек достигает вечного спасения[84].
Я не вижу никаких принципиальных различий в определении «истинной религии» у ван Тиля и Венделина. Оба они говорят одно и то же: истинная религия — та, которая дана в божественном откровении, предоставляет знание об истинном Боге, ведет человека к спасению и т.д. Тем не менее, если о Венделине Барт пишет, что он «не виновен в выведении понятия vera religio из conscientia (совести) и natura (природы), а также во введении в учение о Писании апологетического элемента» (в связи с чем «сформулированное им понятие является полностью объективным и безусловно христианским»)[85], то ван Тиль, напротив, обвиняется им во всем вышеуказанном, хотя голландский теолог прямо утверждает, что источником vera religio является Бог, как Он открыл себя в своем Писании. При этом не могу не отметить, что Венделин, когда пишет о различии между религией и суеверием, приводит в качестве нормативного известное определение Цицерона (106–43 до н.э.)[86]. Казалось бы, присутствие язычника (с его cultus deorum, «почитанием богов») в doctrina sacra пострашнее «апологетического элемента» (к тому же отсутствующего у ван Тиля, насколько речь идет об истинной религии и богооткровенной теологии), но Барт предпочел не заметить данного обстоятельства.
Таким образом, игнорируя вышеуказанный аспект (правильнее сказать — не аспект, а половину, причем наиболее важную) «Компендия» ван Тиля, Барт, напротив, всячески подчеркивает другой: «естественную религию», которая отныне «становится центральной для теологического мышления», «фактически образуя предпосылки, критерии, необходимый аппарат для понимания откровения». Однако, как мне кажется, Барт и здесь умышленно сместил акценты. Совсем не очевидно, что естественная религия — или, вернее, естественная теология[87] ван Тиля — является «критерием» или «необходимой схемой для понимания откровения», инструментом его постижения. Автор «Компендия» нигде не утверждает ничего подобного; напротив, можно привести некоторые его высказывания, которые если не исключают, то делают проблематичной ту трактовку, которую предлагает Барт. Во-первых, голландский теолог, характеризуя естественную религию, часто использует термин «правдоподобное» (verisimile)[88], что, в общем, не удивительно, если принять во внимание, что истинной (vera) религией, как было показано выше, для него является все-таки богооткровенное христианство. Ван Тиль подчеркивает, что истина, конечно, не принимает большей или меньшей степени (fateor veritatem simplicem esse, nec recipere magis et minus), но знание, полученное в результате рационального исследования, не столь надежно, как сообщенное в Священном Писании, а также не столь совершенно, ибо «верой мы достигаем того, чего не может достичь разум». Еще более четко высказывается Буддеус: «Даже если то знание, которым снабжает нас здравый рассудок... и является истинным, оно при этом несовершенно и, кроме того, весьма непрочно»[89]. Соответственно, имеет смысл задаться вопросом, а мог ли ван Тиль (или Буддеус) в принципе допустить, что правдоподобное, несовершенное и непрочное является «критерием в понимании» безусловно истинного, совершенного и надежного?
Ответ на этот вопрос, причем отрицательный, можно обнаружить у самого ван Тиля. В предваряющем «Компендий» Dedicatio он особо подчеркивает необходимость разграничения естественной и богооткровенной теологии — как раз для того, чтобы избежать ситуации, в которой рациональное исследование становится «необходимой схемой для понимания откровения». «Естественную теологию надлежит соотносить с богооткровенной теологией здраво — чтобы показать, что последняя не противоречит истине разума; но из-за этого естественное знание не должно привноситься в богооткровенное»[90]. Ван Тиль убежден, что смешение богооткровенной и естественной теологии недопустимо, и указывает, что главное заблуждение католической схоластики состоит именно в том, что она разрешила таковое смешение, в результате чего «сделала свою философию толкователем Писания» (philosophiam suam fecerint Scripturae interpretem), из-за чего в конечном счете стала пренебрегать им и презирать его. Надо сказать, что в этом аспекте ван Тиль скорее прав, чем неправ: еще Роджер Бэкон в XIII в. жаловался на то, что на факультете теологии Парижского университета пренебрегают изучением Библии, место которой заняли «Сентенции» Петра Ломбардского[91]. Но вот что интересно: если ван Тиль прекрасно видел эту проблему, то Барт принципиально ее не замечает — для него все подходы к «естественной теологии», имевшие место до ван Тиля и Буддеуса, носят «нормативный» характер.
Как бы то ни было, позиция ван Тиля в данном вопросе достаточно очевидна: вопреки тому, что пишет Барт, он вовсе не стремился «постигать откровение в свете естественной религии» и не рассматривал разум как критерий и меру откровения; напротив, такой подход («философия как толкователь Писания») рассматривался им как однозначно ошибочный и недопустимый.
Нельзя сказать, что Барт не заметил этого обстоятельства. Тем не менее он счел его несущественным и отделался парой фраз:
Но что же тогда с «первой наукой», исходным знанием человека о себе и о Боге, которую он [ван Тиль] затем определяет и описывает как преамбулу естественной религии? Как только мы принимаем это знание, сколь долго и почему мы не должны говорить о том, что это знание не засвидетельствовано столь же твердо, как то, которое мы получаем от откровения?[92]
В итоге у Барта получилось так, будто ван Тиль не заметил (или не захотел заметить), что одна часть его ключевых идей и концепций принципиально несовместима с другой. Действительно, если «первая наука» «засвидетельствована столь же твердо», как и откровение, то зачем тогда ван Тиль подразделяет свою догматику на две автономные (это признает и сам Барт) секции, принципиально отказываясь, таким образом, смешивать богооткровенное и рациональное знание? Почему он осуждает католическую схоластику за «истолкование Писания при помощи философии», если, по сути дела, занимается тем же самым? Как понимать его слова о том, что «вовсе не следует, что обе доктрины [то есть богооткровенная и естественная теология] обладают равной очевидностью»?[93] Как должно сочетаться желание «судить» христианство с позиций разума с утверждением о том, что слово Божие, данное в Писании, «пленяет колеблющийся человеческий разум» и «принуждает его подчиняться вере»[94]?
В принципе, не слишком убедительную — на мой взгляд — попытку Барта оправдать свою интерпретацию идей ван Тиля, равно как и его упорное нежелание принимать во внимание некоторые высказывания голландского теолога, объяснить достаточно просто. Для Барта любое соотнесение богооткровенной и естественной теологии (веры и разума, откровения и религии) недопустимо в принципе: всякий, кто занимается этим, уничтожает христианскую теологию и превращает ее в дурной вариант Religionswissenschaft, так как замещает человеческим божественное.
Попытки систематического сравнения откровения и религии (то есть истолкование их как сопоставимых областей, проведение границ между ними, фиксация их отношений между собой) всегда подразумевают полное непонимание ситуации. При этом намерение может заключаться, например, в том, чтобы начать с религии (то есть с человека) и, таким образом, подчинить откровение религии и, возможно, в конце концов растворить его в ней. Или, наоборот, намерение может заключаться в том, чтобы сохранить автономию и даже превосходство сферы откровения при помощи определенных оговорок и мер предосторожности. Это, однако, второстепенный вопрос. Какие бы ни были решения, они не играют существенной роли. Существенно одно — мы ставим человеческую религию на тот же уровень, что и божественное откровение, и обращаемся с ним сходным образом. Мы рассматриваем религию как нечто, в некотором смысле равное откровению. Мы можем приписывать ей автономное по отношению к откровению существование и статус. Мы можем интересоваться отношением этих двух сущностей и сравнивать их между собой. И тот факт, что мы можем это, показывает, что наши намерения заключались в том, чтобы начать с религии, то есть с человека, а не с откровения. Все, что мы скажем позднее в рамках этой схемы о необходимости и истинности откровения, будет не более чем меланхолическим воспоминанием о войне, которая была проиграна в самом начале. Все это будет не более чем затемнением реального послания и содержания откровения. Фактически будет лучше — ибо так более поучительно — принять логические следствия нашей начальной позиции и опустить все дальнейшие хлопоты, касающиеся откровения. Ибо если мы думаем, что откровение в принципе можно соотносить или сравнивать с религией, то мы не понимаем его как откровение[95].
Эти слова Барта демонстрируют его глубокую преданность идеям Жана Кальвина (в данном случае уместно говорить именно о Кальвине, а не о кальвинизме вообще), который в первых же строках своего «Наставления в христианской вере» писал: «Почти вся наша мудрость — во всяком случае, заслуживающая наименования истинной и полной мудрости — разделяется на две части: знание о Боге и обретаемое через Него знание о самих себе»[96] (еще более четко Кальвин высказывается несколько позже: «Известно, что человек никогда не достигнет верного знания о себе самом, пока не увидит лика Бога и от созерцания его не обратится к созерцанию самого себя»[97]). По сути дела, Барт всего лишь помещает эту установку в контекст отношения «(естественная) религия — откровение»: если теолог желает понять божественное откровение, он должен прежде всего оставить в стороне то, что относится к естественной человеческой религиозности, а потому любое (вообще любое) соотнесение человеческого с божественным в рамках теологии недопустимо. По мнению Барта, христианство «имеет оправдание только в имени Иисуса Христа или не имеет его вообще»[98], и эта идея прекрасно коррелирует со следующим утверждением Кальвина: «Никакие доводы не достаточны сами по себе для того, чтобы утвердить истинность Писания. Только Отец Небесный, являя в нем свет своей Божественности, избавляет нас от всех сомнений и колебаний и побуждает к Его благоговейному почитанию»[99].
Именно отсюда происходит свойственное Барту глубокое недоверие к любого рода рациональной апологетике христианства. И отсюда же то смещение акцентов в интерпретации «Компендия» ван Тиля, которое я отметил выше; Барту, в общем, не интересно, что там хотел сказать ван Тиль об «истинной религии» и какие цели он при этом преследовал: «Это, однако, второстепенный вопрос... Если мы думаем, что откровение в принципе можно соотносить или сравнивать с религией, то мы не понимаем его как откровение». Как совершенно справедливо отмечает Ф. Реати: «Бог Карла Барта — это Deus absconditus (“Неведомый Бог”), “Совершенно Иной”... Никакая дорога не ведет от человека к Богу: ни человеческий опыт (Шлейермахер), ни история (Трёльч), ни метафизика. Единственно возможен путь от Бога к человеку — и это Иисус Христос. Он — путь веры, безвозмездный дар Божий, ниспосланный свыше и судящий человеческое разумение»[100].
В целом достаточно очевидно, что радикализм (или, если угодно, (нео)ортодоксальность) этой установки Барта проистекает из основного (на мой взгляд) положения традиционного кальвинизма о полном и безоговорочном ничтожестве падшего человеческого существа. Если, скажем, Фома Аквинский считал, что грех не может уничтожить человеческую природу полностью[101], а потому в некотором смысле человек остается благим даже после грехопадения, то для Барта, как кажется, исходным пунктом всей его теологической доктрины стало учение о неизбывной и окончательной (при отсутствии благодати) порочности человека. Именно поэтому для Фомы Аквинского естественная теология (вполне в духе ван Тиля и Буддеуса) была не только возможна, но и обязательна[102], а для Барта она есть «не-сущее», греховное порождение человеческого разума (который точно так же сам по себе ничтожен). Именно поэтому Фома Аквинский мог допустить, что даже язычники могли познавать истинного Бога[103], а для Барта подобное утверждение выглядит как антихристианская ересь.
Хорошо известно, что своему коллеге Э. Бруннеру — когда тот в работе «О природе и благодати» (1934) заявил, что задачей нового поколения теологов является возврат к истинной theologia naturalis, — Барт ответил статьей, имевшей короткое название: «Nein». Собственно, в этом «Nein» — все отношение Барта к естественной теологии, хотя, конечно, его позицию можно представить и более детально. Например, в «Церковной догматике» Барт писал:
Естественная теология есть учение о единении человека с Богом, имеющем место вне Божественного откровения, данного в Иисусе Христе... Что бы мы ни думали о ее характере (реальна она или иллюзорна), несомненно одно: ее область возникает и существует благодаря наличию человека, противостоящего Богу... Она не может быть содержанием и посланием теологии. К ней можно относиться только как к не-существующему. В этом смысле, следовательно, ее надлежит устранять без всякой жалости[104].
3.3. «Через рассматривание творений видимы»
Суровый, бескомпромиссный и последовательный кальвинизм Барта, о котором шла речь в предыдущем разделе, может вызывать уважение (или, наоборот, неприязнь[105]); но совершенно очевидно, что при рассмотрении вопросов, связанных с историей христианской теологии, ученый-религиовед должен рассматривать эти личные теологические пристрастия Барта как тот фактор, который мог оказать (и действительно оказал) губительное воздействие на объективность его суждений. Отсутствие этой объективности просто показать на примере уже упомянутого Иоганна Вильгельма Байера. Барт пишет, что у него «ни материально, ни формально откровение не соотносится с религией»[106]; поэтому Байер оценивается им как верный продолжатель традиции Реформации. Но у самого Байера мы читаем:
В естественной теологии средства достижения блаженства суть действия ума и воли, обращенные к Богу, посредством коих Бог познается и почитается должным образом; и они именуются одним словом «религия». Они содержатся в естественном, или нравственном, законе, и частично направлены непосредственно на Бога; частично — на человека (на себя самого или на ближнего), а затем на Бога[107].
Далее Байер указывает, что «естественная теология, как в отношении своих начал, так и в отношении своих заключений, которые из них выводятся, совершенно истинна и достоверна и не противоречит истинной богооткровенной теологии»[108]. Затем он упоминает о том, что специально рассматривал отношение естественной и богооткровенной теологии на диспуте, прошедшем в 1676 г.[109] Наконец, он использует естественную теологию для доказательства, например, существования Бога: «Существование Бога можно доказать из рассмотрения этого универсума, из свидетельства совести, из согласия народов, как языческих, так и христианских»[110].
Совершенно очевидно, что в «Компендии» Байера присутствуют все те элементы, которые однозначно осуждаются Бартом как несовместимые с христианской теологией. Тут и «естественная религия» («теология»), которая «совершенно истинна и достоверна», и «свет природы», на который она опирается[111], и даже «совесть», из свидетельств которой выводится существование Бога[112]. Почему же тогда Байер оказывается для автора «Церковной догматики» представителем подлинной традиции Реформации (как он ее понимает)? Хотя на этот вопрос нелегко дать однозначный ответ, возможно, все дело в том, что Байер слишком близок по времени к Лютеру и Кальвину, поэтому, если начать отсчет «либерального протестантизма» уже с него, то будет в принципе трудно говорить о такой вещи, как «традиция Реформации».
На самом деле в парадигме Барта, если рассматривать ее объективно и последовательно, единственными «правильными» христианскими теологами из известных исторических фигур можно считать разве что Лютера, Кальвина и, возможно, Кьеркегора (которым Барт увлекался в молодости и который, несомненно, оказал на него сильное влияние). Даже совсем не склонный к естественной теологии Тертуллиан с его максимой о том, что человеческая душа — по природе христианка, выглядит сомнительно (что значит «по природе»? нет ли здесь соотнесения человеческого с божественным?). А первым исказителем христианской теологии в этой парадигме должен, безусловно, считаться Климент Александрийский (ок. 150 — ок. 220), который писал нечто прямо противоположное Кальвину: «Прекраснейшей и важнейшей из всех наук несомненно является самопознание. Потому что кто сам себя знает, тот дойдет до познания и Бога»[113].
Поскольку данный вывод может показаться кому-то слишком резким (например, могут возразить, что Барт очень высоко ценил Ансельма Кентерберийского и даже в некотором смысле считал его своим учителем в теологии), приведу в подтверждение своих слов следующий показательный, на мой взгляд, пример. В «Кратком толковании Послания к Римлянам» Барт комментирует в том числе эти слова апостола: «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце» (Рим. 1:19–21). И его комментарий таков:
Если бы стихи 19–21 дошли до нас сами по себе, возможно, как фрагмент, вырванный из контекста произведения неизвестного автора, то вполне можно было бы прийти к предположению, что здесь идет речь о «естественном», то есть предшествующем откровению Божьему в Иисусе Христе и самостоятельном по отношению к нему познании Бога язычниками. Это место часто и прочитывали именно как подобного рода фрагмент, а потому оно и в самом деле рассматривалось и приводилось в качестве доказательства общего учения о таком естественном богопознании. Из столь странной предпосылки делали слишком далекоидущие выводы[114].
Кто именно делал эти «далекоидущие выводы» из «столь странной предпосылки», Барт не сообщает. Но в любом случае очевидно его негативное отношение к данным персонам: ведь налицо та самая естественная теология, которую, согласно Барту, необходимо изгнать из христианского учения. Между тем такая «естественно-теологическая» трактовка — общее место средневековой католической схоластики, и едва ли можно найти средневекового автора, который, комментируя эти слова апостола, понимал их как-то иначе.
Вот, например, как интерпретировал соответствующие стихи в своем «Комментарии к Посланию к Римлянам» Фома Аквинский:
Во-первых, [апостол показывает], что они [язычники] познавали Бога; во-вторых, он показывает, от кого они получили это познание (там, где сказано: «потому что Бог явил им»); в-третьих, он показывает, каким способом они это познали (там, где сказано: «Ибо невидимое Его»). И, во-первых, он прямо говорит, что они обладали божественной истиной, ведь в них было в некоторых аспектах истинное знание о Боге, ибо «что можно знать о Боге» (то есть то, что может быть познано о Боге человеком при помощи разума), «явно для них» (то есть очевидно им благодаря тому, что есть в них, то есть благодаря внутреннему свету)... Итак, следовательно, Бог явил им, либо излияв внутренний свет, либо расположив вовне видимые творения, в которых, как в некоей книге, они читали знание о Боге... Однако, как говорят, [философы] ошиблись в третьем знаке, то есть в Духе Святом, поскольку не полагали ничего соответствующего Ему так, как они полагали нечто, соответствующее Отцу, то есть первоначало, и нечто, соответствующее Сыну, то есть первый тварный ум, который они называли разумом Отца, как говорит Макробий[115].
Практически то же самое можно обнаружить у Бонавентуры, который в своих «Комментариях к “Сентенциям” Петра Ломбардского» интерпретирует стих 20 так:
Следовательно, человек мог постигать разумом ума или созерцать невидимое Божие «через рассматривание творений», видимых или невидимых. И в этом ему помогали две вещи: его природа, которая разумна, и деяния Божьи, которые были содеяны, чтобы явить человеку истину... И вот еще как они, ведомые разумом, могли познать и даже познавали Бога. Августин говорит в книге «О граде Божием»: «Наиболее выдающиеся философы видели, что никакое тело не является Богом, а потому в поисках Бога устремлялись за пределы телесного. Они видели также, что ничто изменчивое не является высшим Богом и началом всего, а потому устремлялись [в своих поисках] за пределы любой души и любого изменчивого духа; далее, они видели, что все, что изменчиво, может происходить только от Того, Кто неизменен и прост. Следовательно, они постигали, что Он и создал все таковое, и сам не мог быть создан ничем другим»[116].
В этих двух фрагментах представлена вся средневековая традиция толкования Послания к Римлянам — от Августина до Фомы Аквинского и Бонавентуры. Подавляющее большинство средневековых теологов признавали, что человек может обладать знанием о Боге до и вне откровения, данного в Иисусе Христе. Да, это знание неполно и касается лишь «некоторых аспектов»; самое главное, это не спасительное знание. Но ведь и ван Тиль писал о том же и специально подчеркивал, что вне истинного откровения нет спасения. Таким образом, не существует никакой принципиальной разницы между позицией ван Тиля и позицией, скажем, Фомы Аквинского. Кроме того, Барту следовало бы уточнить: «слишком далекоидущие выводы» из «странных предпосылок» об «общем учении о естественном богопознании» делались Бонавентурой, Фомой Аквинским и другими средневековыми теологами. Однако, как и в других подобных случаях, Барт предпочел не заметить неудобных для него фактов.
3.4. «Praeparatio evangelica»
Полагаю, что после представленных выше замечаний о средневековой традиции толкования слов апостола из Послания к Римлянам должно быть ясно, что личное негативное отношение Барта к естественной теологии обусловило утрату им объективности при интерпретации важнейших принципов средневековой и протестантской схоластики. И это относится в том числе к praeparatio evangelica («предуготовлению к Евангелию») — заключительному разделу первой части «Компендия обеих теологий» Соломона ван Тиля. Напомню, что, по мнению Барта, именно в praeparatio ван Тиля «естественная теология достигает своей кульминации» и, соответственно, именно здесь происходит полный и окончательный разрыв с предшествующей христианской традицией, влекущий за собой возникновение либерального протестантизма. Далее я покажу, что на самом деле это совсем не так.
Прежде всего мне хотелось бы сказать пару слов о самом названии раздела. Оно является вполне традиционным и копирует название сочинения Евсевия Кесарийского (ок. 263 — 340) «Εὑαγγελικὴ προπαρασκευή» (лат. «Praeparatio evangelica»). Само по себе это сочинение весьма примечательно. Во-первых, как нетрудно догадаться, будучи апологией христианства, написанной в начале IV в., оно изобилует «апологетическими элементами», использование которых в христианской теологии Барт считал недопустимым (христианство «имеет оправдание только в имени Иисуса Христа или не имеет его вообще»). Во-вторых, «Предуготовление» насыщено цитатами из сочинений античных философов (прежде всего Платона и платоников), которые постоянно соотносятся с цитатами из Библии. Это связано с тем, что основной целью Евсевия было доказательство «плагиата греков» — того предположения, что вся греческая философия имеет своим истоком священное писание евреев. Однако, преследуя эту цель, Евсевий приходит к тому, что начинает структурировать содержание библейского учения по образу и подобию греческой философии (скорее всего, он, обращаясь в своей апологии прежде всего к людям, получившим классическое позднеантичное образование, — и будучи сам выходцем из их среды, — просто не мог излагать свои идеи иначе).
Сопоставление библейского учения и философии Платона выглядит в «Предуготовлении», например, так: «Платон разделил все учение философии (πάς ὁ λόγος της φιλοσοφίας) на три [части] — физику, этику и логику; и ту [часть], которая повествует о природе, далее разделил на исследование чувственно воспринимаемого и на исследование бестелесного. Но мы обнаружим то же тройственное деление учения (διδασκαλία) у евреев, поскольку они рассматривали все то же самое еще до рождения Платона»[117]. Соответственно, у Евсевия появляется «логика евреев» и «еврейская наука о природе» (φυσιολογία). Причем, объясняя отношение последней к греческому аналогу, он пишет следующее:
Действительно, тот самый Платон, которым все восхищаются, также и при разъяснении этого учения (παίδευσις) и науки (θεωρίᾱ) об умопостигаемых и бестелесных [вещах], следовал не менее мудрому Моисею и еврейским пророкам — либо потому, что до него дошла молва и слухи о них... либо потому, что он сам постиг подлинную природу вещей, либо же его тем или иным образом удостоил знанием сам Бог (εἴτε όπωσούν ὑπὸ Θεοῦ καταξιωθείς τῆς γνώσεως). Ведь, как говорит апостол: «Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны»[118].
Интересно, что здесь мы снова сталкиваемся с «естественно-теологической» традицией толкования стихов 19–21 из Послания к Римлянам (вернее, с рождением этой традиции). С точки зрения Барта, Евсевий совершает недопустимые для христианского теолога вещи: обнаруживает в Библии некую философскую «науку о природе», которую можно познавать «естественным образом», и даже допускает, что Бог сообщал знание о себе языческим философам, таким как Платон[119]. Особо отмечу, что в данном случае речь идет именно о «знании» (γνῶσις), а не о вере (πίστις). Значение такого аподиктического (доказательного) знания для христианской теологии и миссионерской деятельности Евсевий лишний раз подчеркивает в другой своей работе, имеющей характерное название «Доказательство Евангелия» («Εὐαγγελικὴ ἀπόδειξις»). Он пишет:
Множество клеветников постоянно обвиняет нас в том, что мы не в состоянии ничего доказать посредством ясного свидетельства истины, но желаем от приходящих к нам только веры... и что мы не хотим от них никакой иной убежденности, кроме того, чтобы они, как неразумные животные, движимые слепой уверенностью, не задавая никаких вопросов, беспрекословно подчинялись тому, что мы им говорим (и потому их называют «верными», или «верующими», сообразно этой их животной уверенности)... Но я показал [в «Предуготовлении к Евангелию»], что мы обратились не вследствие иррациональной уверенности и не без исследования, но по здравому рассуждению и размышлению...[120]
Из сказанного со всей очевидностью следует, что «предуготовление к Евангелию», в ходе которого в том или ином виде христианская догматика соотносится с до- и/или нехристианскими религиозными, философскими и иными учениями с целью рационального доказательства (в соответствии с представлениями данной конкретной эпохи и/или данного конкретного автора о рациональности и о доказательстве) истинности христианства, не является изобретением ван Тиля или его современников, но благополучно практиковалось уже христианскими апологетами в IV в. Более того, есть все основания считать, что традиция «рационального суждения» об откровении берет свое начало в апологетических сочинениях первых христиан, которым требовалось изложить (и не просто изложить, но представить в выгодном свете) основы христианства на языке, понятном образованному населению Римской империи, то есть, по сути дела, на рациональном языке греко-римской философии.
То, о чем я здесь говорю, обычно называют «эллинизацией христианства». И эта эллинизация, подразумевающая интеллектуализацию (и даже, если можно так выразиться, философизацию[121]) евангельской проповеди, изначально — относительно простой, произошла практически сразу после того, как миссия к «еллинам» стала приносить свои плоды. Как пишет А. фон Гарнак:
Около 130 г. начался прилив греческой религиозной философии, тотчас же занявшей в христианской религии центральное положение. Эта философия искала внутреннего соприкосновения с христианской религией; последняя же, со своей стороны, также искала близости с этой союзницей... Фазис прилива характеризуется усвоением христианством греческой философии, главным образом — платонизма... представление греческой философии об истинной религии как об «учении», притом учении, охватывающем всю область знания, все более усваивалось христианством... Уже в эту эпоху христианская религия прониклась тою склонностью к интеллектуализму, которая осталась у нее и впоследствии[122].
Несомненно, Барт никогда не согласился бы с этими идеями фон Гарнака; но, как показывает в том числе приведенный выше анализ исследуемых в настоящей работе проблем, Барт почти всегда оказывался в плену своих кальвинистских установок и был склонен к утрате объективности из-за личной вендетты, которую он всю жизнь вел против либерального протестантизма. В то же время историческая правота фон Гарнака подтверждается и современными исследователями. Например, Э. Р. Доддс, описывая платонизм Александрийской школы богословия, говорит о «смелом переписывании новозаветного христианства»[123]. В правильности этой формулировки едва ли можно сомневаться. Спор возможен разве что о том, насколько радикальным было это переписывание, происходившее под влиянием неоплатонической философии и аллегорического метода истолкования священных текстов.
Впрочем, надо отметить, что сходство между «Praeparatio evangelica» Соломона ван Тиля и «Praeparatio evangelica» Евсевия Кесарийского наблюдается только на уровне базового подхода, предполагающего возможность и желательность «рационального суждения» о содержании божественного откровения в случае апологетической или миссионерской деятельности. У Евсевия нет естественной теологии как особой дисциплины, которая отличалась бы от богооткровенной теологии. Он сравнивает библейское учение и греческую философию так, как если бы они были некими подобными друг другу областями человеческого знания (именно «знания», γνῶσις, которое, впрочем, понимается очень широко) — здесь еще нет четкого разделения «естественного» и «богооткровенного», веры и разума, философии и теологии. Именно поэтому Евсевий предлагает читателю самому решать, как объяснить сходство между философией Платона и словами Библии — тем, что Платон изучил в Египте еврейскую мудрость, или тем, что он открыл ее посредством своего «естественного разума», или даже тем, что он удостоился особого просвещения со стороны Бога.
Ван Тиль, живший в иную эпоху, уже не мог подходить к подобного рода вопросам со столь наивными эпистемологическими установками. Он уже знал о многочисленных кризисах в христианской теологии, причиной которых стало слишком легкомысленное отношение отдельных ее представителей к вопросу о границах между верой и разумом, и указывал, что «все способности и науки, в том числе теология и философия, имеют свои границы и пределы, в которых они должны оставаться, чтобы не случилось их смешения и чтобы одна не вторгалась в другую»[124]. Именно отсюда происходят постоянные оговорки и уточнения ван Тиля, начиная с того, что «естественную теологию надлежит соотносить с богооткровенной теологией здраво», и заканчивая тем, что недопустимо «делать философию толкователем Писания».
Благодаря методичному и тщательно проработанному подходу ван Тиля представить цели и задачи его «Компендия» достаточно легко. Приняв деление теологии как учения о Боге на богооткровенную и естественную, он пишет далее:
Я излагаю богооткровенную теологию как теолог, на основании Священного Писания, так, чтобы не было никакого отступления от доктрины, определенной в формулах ортодоксии, бережно охраняя догматы реформированной Церкви от любого инакомыслия... И я присоединяю естественную теологию, чтобы воспрепятствовать распространенным среди публики представлениям о том, что эта дисциплина нами совершенно забыта... И я излагаю ее отдельно от богооткровенной теологии, поскольку полагаю, что их следует представлять по отдельности, дабы избежать смешения одной и другой[125].
Естественная теология ван Тиля подразделяется на три основные части. В первой повествуется о природе и атрибутах Бога; во второй — о том, какие обязанности человек имеет по отношению к Богу. Третья — это собственно praeparatio evangelica, содержание которого вкратце таково:
В предуготовлении к Евангелию речь идет о том, как нужно примириться с Богом после признания человеком своей греховности, а потому [этот раздел] повествует: 1) о некоем правдоподобном (verisimile) примирении [с Богом]; 2) о том, что требуется для справедливого возмещения; 3) об историческом обнаружении истинной религии посредством устранения ложных, в ходе которого показывается, что только христианская религия может содержать в себе все то, что требуется для справедливого примирения с Богом[126].
Все это нужно ван Тилю прежде всего в апологетических целях. Так, например, он упоминает об антихристианских рационалистических учениях (атеизм, спинозизм, либертинизм) и указывает, что видит свою задачу в том, чтобы «наши теологи получили наставление в отношении того, как опровергать их заблуждения»[127]. Если же вспомнить, что естественная теология с ее praeparatio evangelica является пролегоменами к богооткровенной теологии, цель которой заключается в том, чтобы «передать доктрину, определенную в формулах ортодоксии», то общий план «Компендия обеих теологий» будет выглядеть следующим образом. Основная задача трактата — изложение христианской истины, как она представлена в Священном Писании; но чтобы защитить эту истину, в том числе от рационалистической критики, а также чтобы, насколько это возможно, показать несостоятельность других религий, ван Тиль включает в свой трактат раздел, посвященный естественной теологии.
Однако ровно такие же задачи и способы их решения характерны, например, для «Суммы против язычников» Фомы Аквинского. В самом начале этого труда Фома заявляет о том, что «наша задача — изложить... истину, которую исповедует католическая вера, устраняя противоположные ей заблуждения»[128]. Но поскольку далеко не все приверженцы указанных «заблуждений» признают истинность Священного Писания, а потому при спорах с ними ссылаться на него невозможно, то иногда «необходимо прибегать к естественному разуму, с которым все вынуждены соглашаться». При этом Фома, как и ван Тиль, сразу же оговаривается, что «в делах божественных» естественного разума «недостаточно»[129].
Подобно тому, как ван Тиль разделяет свой «Компендий» на две части сообразно двум объектам двух разных теологий, Фома говорит о наличии «в том, что мы исповедуем о Боге» (то есть, по сути, в теологии) двух видов истин: «Есть такие истины о Боге, которые превосходят всякую возможность человеческого разума, например, что Бог тройствен и един. А есть такие, которые доступны даже естественному разуму, например, что Бог существует, что Бог един и тому подобные»[130]. Следует особо отметить, что, согласно Фоме, эти последние истины «доказывали о Боге даже философы, ведомые естественным светом разума»[131]. Более того, хотя «истина христианской веры превосходит способность человеческого разума, однако то, что дано разуму от природы, не может противоречить этой истине. В самом деле, известно, что то, что врождено разуму от природы, в высшей степени истинно — настолько, что даже помыслить это ложным невозможно... невозможно, чтобы вышеупомянутая истина веры противоречила тем принципам, которые разум познает естественным образом»[132].
Совершенно очевидно, что перед нами именно тот случай, когда утверждается, что откровение (вера) не может противоречить разуму — на том основании, что «то, что врождено разуму от природы, в высшей степени истинно — настолько, что даже помыслить это ложным невозможно». И, соответственно, в парадигме Барта это именно тот случай, когда «разум судит откровение» — никакой иной трактовки приведенные выше слова Фомы в этой парадигме иметь не могут. Более того, упомянутые Фомой «принципы, которые разум познает естественным образом», вполне могут быть истолкованы как аналог notiones Буддеуса, которые суть «основы и начала любой религии». Несмотря на то что самого термина «естественная религия» у Фомы нет, отдельные идеи, относящиеся к концепции естественной религии, как она представлена у ван Тиля и Буддеуса, обнаруживаются у него без особого труда.
Religio для Фомы — это главным образом моральная добродетель. Подробнее о такой трактовке religio я скажу позже, а в данный момент важно указать, что в качестве моральной добродетели religio есть часть справедливости и естественная (а не влиянная свыше[133]) добродетель, заключающаяся в воздаянии должного Богу «в соответствии с тем, к чему обязывает закон»[134]. В этом смысле religio есть божественный культ (cultus Dei)[135], предполагающий «внешнее выражение веры»[136], где главным элементом является подношение (oblatio)[137]. Следующий фрагмент, как мне кажется, дает достаточное представление о сути вопроса:
Естественный разум диктует человеку, что он подчинен чему-то более высокому: из-за ущербности, которую он в себе ощущает и в силу которой он нуждается в направлении и помощи того, что выше него. И чем бы таковое ни было, все называют его Богом. Но как в вещах естественных низшее по природе подчиняется высшему, так и естественный разум по природной склонности указывает человеку, чтобы он должным образом подчинялся и воздавал почести тому, что выше его. А этот должный образ, подобающий человеку, заключается в том, чтобы он пользовался телесными знаками для выражения чего-либо, поскольку познание начинается от чувства. И потому от естественного разума происходит то, что человек использует некие чувственно воспринимаемые вещи в качестве подношения Богу, как знак должного подчинения и почтения, подобно тому, как люди отдают нечто своим господам, признавая их таковыми. И в этом заключается сущность обряда жертвоприношения. И потому принесение жертвы относится к естественному закону[138].
Таким образом, religio тоже относится к естественному закону. И здесь самое время вспомнить слова Барта о том, что Фоме Аквинскому чуждо «понятие религии как общее понятие, которое объемлет христианскую религию, как и все прочие». Однако из приведенных выше слов самого Фомы ясно, что если religio есть «внешнее выражение веры», то должны быть и нехристианские религии. Кроме того, как уже отмечалось, религия должна быть универсальным феноменом, поскольку «естественный разум диктует человеку, что он подчинен чему-то более высокому... и чем бы таковое ни было, все называют его Богом... и естественный разум, по природной склонности, указывает человеку, чтобы он должным образом подчинялся и воздавал почести тому, что выше его». И действительно, у Фомы можно найти упоминания о нехристианских религиях. Например, он пишет, что «бытие [Бога] можно познать как из общего мнения ученых и простецов, так и из самих религий варварских народов (ex ipsis religionibus gentium barbararum), которых не было бы, если бы не существовало Бога»[139].
Или приведем другой пример. Ссылаясь на Августина, Фома пишет, что «во всех религиях были некие внешние знаки, которыми было принято поклоняться Богу; но наиболее истинная религия есть теперь... в Церкви Божией»[140]. Наконец, Аквинат сообщает о том, что «толкование предзнаменований, сновидений и тому подобного относится к той религии, посредством которой поклоняются идолам (ad religionem... qua idola colebantur)»[141]. О существовании «религии идолопоклонников» говорится также в «Комментарии к трактату Боэция “О Троице”», где Фома отмечает, что она «не является единой религией, но различается у разных народов, поскольку разные народы установили себе разных богов для поклонения»[142].
Остается рассмотреть еще одну важную тему — провести сравнение естественной религии (теологии) с историческими, посредством которого ван Тиль доказывал истинность христианства. По мнению Барта, до «Компендия» голландского теолога ничто подобное не могло иметь места в принципе. Однако это совсем не так. Ровно такую же схему использовал Роджер Бэкон (1214/22 — ок. 1292) в своих «Opus maius» и «Opus tertium». Более того, надо отметить следующий любопытный нюанс. Барт полагает, что естественная теология стала «естественной этикой» (ethica naturalis) только в творчестве Канта[143]. Однако нельзя не отметить, что тот раздел «Opus Maius», в котором Бэкон представляет свою естественную теологию, называется «моральной философией». Конечно, эта «моральная философия» Бэкона никоим образом не тождественна этической системе Канта (с ее категорическим императивом, «религией в пределах только разума» и т.д.). Тем не менее нельзя обойти вниманием тот факт, что оценка естественной теологии как этики (во вполне кантианском смысле «практического разума») была произведена уже в XIII в. Впрочем, предоставлю слово самому Бэкону.
Теперь я хочу рассмотреть основы четвертой науки, которая... одна является практической... и учреждена для [исследования] наших действий — в этой жизни и в жизни грядущей. В самом деле, все прочие науки... повествуют о делах рукотворных и естественных, а не о моральных... В этой науке практика понимается узко, то есть как то, что связано с нравственными действиями, благодаря которым мы становимся благими или дурными, при том что в широком смысле слова практическими называются все те науки, целью которых является некая деятельность... И термин «практика» употребляется здесь по антономасии, поскольку обозначает науку, исследующую основные действия человека, связанные с добродетелями и пороками, а также со счастьем и несчастьем грядущей жизни. И моральной, и гражданской называется та практическая наука, которая упорядочивает человека по отношению к Богу, ближнему и к себе самому, а также доказывает [истинность] этого упорядочения и действенно побуждает и увлекает нас к нему. И эта наука повествует о спасении человека благодаря добродетели и об обретении счастья; и она содействует этому спасению, насколько это возможно для философии... Равным образом только эта (или преимущественно эта) наука имеет дело с тем же, что и теология, поскольку только теология рассматривает пять вышеназванных вещей[144], хотя и иначе, а именно в соотнесении с верой Христовой. И эта практическая наука содержит много свидетельств об этой вере и, как мы покажем далее, издавна предвосхищала ее основные положения, что стало большой поддержкой христианской вере[145].
В принципе уже из этих слов ясно, что в бартовской парадигме Бэкон должен оказаться в компании ван Тиля и считаться его прямым предшественником. Однако в некоторых отношениях Бэкон даже радикальнее ван Тиля. Современного консервативного теолога, такого как Барт, несомненно, должны шокировать его слова о том, что моральная философия еще до пришествия Христа предвосхищала основные положения христианства. (Причем, обосновывая эту идею, Бэкон готов допустить даже, что некоторые языческие философы получили от Бога особое откровение[146], — позиция совершенно невероятная в случае ван Тиля или Буддеуса, но в том или ином виде принимавшаяся многими средневековыми авторами, о чем уже говорилось выше.)
Впрочем, за исключением этой и некоторых других сходных концепций, моральная философия Бэкона практически полностью соответствует естественной теологии ван Тиля. Английский мыслитель точно так же развертывает ее «в объемное учение о природе и атрибутах Бога, о творении и провидении, о естественном нравственном законе, о бессмертии души и даже о грехе», причем разделы бэконовской моральной философии зачастую совпадают с разделами естественной теологии ван Тиля[147]. Что же касается praeparatio evangelica, то этому разделу «Компендия» ван Тиля у Бэкона соответствует четвертая часть моральной философии. Вот что пишет Бэкон об этой части:
Теперь я хочу обратиться к четвертой части этой науки... которая убеждает в том, что надлежит верить истинному учению (secta), которое должен принять род человеческий, любить его и удостоверять делами. И из всей философии нет ничего более необходимого человеку, более полезного и благородного... Ибо вся мудрость направлена на постижение того, как спастись роду человеческому, а это спасение заключается в принятии того, что ведет человека к счастью будущей жизни... Поэтому полезно рассмотреть основные идеи этой части, и любому христианину подобает это сделать для подтверждения своих убеждений; и в ней он обретет знание, как исправить заблуждающихся. И Бог никогда не мог отказать человеческому роду в познании пути к спасению, ибо, согласно апостолу, Он желает, чтобы все люди спаслись (2 Пет. 3:8). И его благость бесконечна, а потому Он всегда представлял людям способы, благодаря которым они просвещались бы в познании путей истины[148].
Иначе говоря, в этой части своей моральной философии Бэкон, опираясь на ранее полученные результаты, решает вопрос о том, какое из известных ему религиозных учений (sectae) является истинным, то есть «содержит в себе спасение рода человеческого». Таковым у него, понятно, оказывается христианство; однако, что характерно, Бэкон специально отмечает, что подобного рода попытки (стремление найти лучший «закон», «приводящий к блаженству будущей жизни»), предпринимались и ранее, в частности Аристотелем:
Философы всегда были озабочены этой темой и обращали на нее всю свою мудрость, зная, что должно быть только одно учение (secta), которое приведет человека к блаженству иной жизни... И для обнаружения этого учения Аристотель в своей «Политике» перечисляет законы отдельных городов и государств, а также цели этих законов — чтобы на основании благородства, полезности и утонченности цели выбрать закон, который превосходит все прочие[149].
Неудивительно, что именно у «философов»[150] Бэкон заимствует принципы классификации «сект», или «законов». Он сравнивает и классифицирует известные ему религии сообразно трем аспектам: 1) secundum diversitates finium (то есть сообразно тому, что тот или иной религиозный «закон» полагает в качестве цели существования человека); 2) secundum usum gentium (то есть сообразно тому, как различные народы (nationes)[151] поклоняются Богу или богам); 3) secundum viam astronomiae (то есть сообразно тому, как небесные тела могут влиять на возникновение и существование религий, а также на приверженность того или иного народа определенной религии).
Если говорить о первом аспекте, то, согласно Бэкону, каждое человеческое сообщество руководствуется определенными законами, а эти законы устанавливаются сообразно тем целям, к которым стремятся члены данного сообщества. Бэкон называет шесть таких «простых» целей, из которых пять — это временные блага («плотская любовь», «богатство», «власть», «господство над всем миром», «почести»), а одна — вечное благо («благо будущего блаженства»). Хотя к последней цели стремятся все люди, представления о ней у разных народов различны.
Вычленение этих шести «простых целей» намекает на то, что число основных религий также будет равно шести. И действительно, в случае классификации secundum usum gentium у Бэкона получилось шесть основных «сект»: язычники, идолопоклонники, татары, сарацины, иудеи и христиане. Это число Бэкон пытался подтвердить и при помощи классификации secundum viam astronomiae — исходя из того, что число конъюнкций известных планет и Юпитера также равно шести[152]. Однако это обстоятельство внесло в построения Бэкона некоторую путаницу. Дело в том, что конъюнкцию Луны и Юпитера астрологи его времени связывали исключительно с «законом антихриста», а потому в «Opus maius» Бэкон колебался и в списке шести «основных сект» место ислама иногда занимал этот самый «грядущий закон», «который временно одолеет все прочие, кроме разве что избранной группы христиан».
Осуществив все эти классификации, Бэкон переходит к процедуре выбора «истинной секты». Он приводит целый ряд рациональных аргументов, которые, по его мнению, должны убедить как колеблющихся христиан, так и нехристиан, что таковой должна считаться именно христианская религия. Здесь нет необходимости представлять все эти аргументы в развернутом виде: я ограничусь только общей схемой. Никто из мудрецов, полагает Бэкон, не будет отрицать, что Бог является первой причиной, которая была всегда и всегда будет; равным образом никто не будет отрицать, что эта первопричина обладает бесконечным могуществом, благостью и мудростью, что она все создала, всем управляет и т.д. Из этой естественной теологии следует, что человек должен исполнять волю Бога: во-первых, человек должен чтить Его; во-вторых, поклоняться Ему; в-третьих, предаваться созерцанию божественных вещей. И из этих трех обязанностей человека по отношению к Богу возникает cultus divinus, «божественный культ» (по большому счету, это и есть естественная религия, как ее понимал ван Тиль).
Однако для того, чтобы исполнять волю Бога, человек должен ее знать. Но он не может полностью познать ее при помощи естественного разума, поскольку — здесь Бэкон ссылается на Аристотеля и Авиценну — «человеческий разум соотносится с божественным так же, как глаз летучей мыши — с Солнцем». Соответственно, чтобы полностью познать волю Бога, человек нуждается в божественном откровении. Здесь, однако, возникает проблема: согласно Бэкону, представители всех религиозных традиций считают, что истоком их верований так или иначе является божественное откровение (omnes credunt suas sectas per revelationem haberi[153]). Таким образом, главной задачей четвертой части моральной философии становится доказать, что только христианское откровение является истинным откровением.
Опять-таки здесь нет необходимости перечислять все аргументы, которые, по мнению Бэкона, должны привести человека к выбору подлинного (то есть христианского) откровения, поэтому я приведу только один фрагмент, который должным образом иллюстрирует общий подход Бэкона к данной проблеме:
...философия дает прекрасные свидетельства в пользу закона Христова и наилучшим образом восхваляет его, как явствует из того, что я представил в математической части [«Opus Maius», где говорил] о соотнесении математики с этикой. Ибо там я показал при помощи возможностей астрономии, что христианский закон является наиболее благородным, а потому предпочесть следует именно его. Но, как я уже здесь объяснил, учение спасения (secta salutis) только одно; следовательно, это будет христианское учение. Кроме того, философия рассматривает все догматы нашего учения (secta)... и утверждает, что Христос есть Бог и человек. Но философия не дает обоснования догматам иных учений. В самом деле, поскольку философия предшествует [религиозному] учению и на нем завершается, а также располагает к нему при помощи сходных истин и его исследует, то надлежит, чтобы учение Христа было именно тем учением, которое стремится утвердить философия... Кроме того, философия не только предоставляет свидетельства в пользу христианского закона, а также затрагивает его истины, но и опровергает другие два закона [Моисея и Магомета]; и это очевидно из книги, которую Сенека написал против религии иудеев, а также из слов Авиценны, который отвергает Магомета на том основании, что он говорил о славе не души, но тела[154].
На мой взгляд, каких-то дополнительных комментариев здесь не требуется. Роджер Бэкон — точно так же, как и ван Тиль — формулирует некие принципы естественной религии (понимаемой им как cultus divinus, «божественный культ», основанный на принципах моральной философии), чтобы затем, соотнося ее с историческим христианством, обосновать истинность последнего. Можно ли говорить о том, что в данном случае «разум судит откровение», как то, по мнению Барта, бывает только в либеральном протестантизме, возникшем благодаря ван Тилю и Буддеусу? Да, конечно. Достаточно привести следующие слова Бэкона: «Итак, совершенно очевидно, что те три секты [язычники, идолопоклонники и «закон татар»] несостоятельны, но три другие (а именно законы Христа, Моисея и Магомета) куда более разумны (sunt magis rationabiles)»[155].
Таким образом, никаких принципиальных различий между четвертой частью моральной философии Бэкона и praeparatio evangelica ван Тиля нет. Это, впрочем, не означает, что они полностью тождественны. Так, например, ван Тиль, будучи протестантом, уделяет особое внимание греховности человека и, соответственно, необходимости оправдания грешников, которая становится для него ключевой при переходе от естественной к богооткровенной теологии. Бэкон, со своей стороны, больше поглощен обнаружением неких рациональных элементов, общих для всех религий, что дает в итоге несколько неожиданный эффект: похоже, именно его можно считать отцом-основателем сравнительного религиоведения[156]. Однако, повторю еще раз, по отношению к рассматриваемой здесь проблеме эти различия не имеют принципиального значения.
4. КАРЛ БАРТ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как представляется, из всего вышесказанного можно сделать только один вывод: идея Барта о том, что европейскому Средневековью неизвестно «понятие религии как общее понятие, которое объемлет христианскую религию, как и все прочие», не соответствует историческому материалу. Фома Аквинский видел в религии некий универсальный феномен и потому говорил, например, о «религии идолопоклонников» или о «религиях варварских народов». Роджер Бэкон оперировал такими общими понятиями, как secta и lex (в содержание которых входили определенные рационально постигаемые положения, почерпнутые из естественной теологии), применительно как к христианству, так и к другим религиям. Кроме того, эти рационально постигаемые положения являлись, с точки зрения средневековых авторов, не только эффективным инструментом миссионерской деятельности, но и своего рода преамбулами к догматам веры, изложение которых полезно и необходимо даже в рамках собственно христианской теологии (в соответствии с известным принципом, что «естественное познание является предварительным условием веры так же, как и природа — предварительным условием благодати»).
Таким образом, Барт явно недооценил рациональность европейского Средневековья — рациональность, которая была обусловлена и предопределена эллинизацией христианства еще во II–III вв. Равным образом Барт не принял во внимание тот факт, что в своем теологическом аспекте Реформация была не чем иным, как реакцией на эту самую рациональность. Поэтому, совершенно справедливо указав на определенные рационалистические отклонения от исходных доктрин Кальвина и Лютера в протестантской схоластике ван Тиля и Буддеуса, Барт тем не менее предпочел не заметить того обстоятельства, что эта схоластика была в общем и целом воспроизведением на (относительно) новом материале более раннего католического оригинала. Почему так произошло? Однозначно ответить сложно; но, как кажется, главной причиной весьма специфической избирательности Барта в данном вопросе было его — не менее специфическое — представление о развитии (вернее, с точки зрения самого Барта, деградации) протестантской теологии в Новое время:
Реальная катастрофа протестантской теологии была не тем, чем ее обычно представляют. Это было вовсе не отступление перед лицом растущего самосознания современного образования. Это было вовсе не неосознанное увлечение тем, что, как утверждали философия, история и естественные науки, является «свободным исследованием истины». Это было вовсе не непреднамеренное превращение в преимущественно нелогичную практическую мудрость. Сами по себе современный взгляд на вещи, современное самосознание человека и т.д. не могли причинить никакого вреда. Реальная катастрофа заключалась в том, что теология утратила свой объект — откровение во всей его уникальности[157].
В представлении Барта (как христианского теолога, принципиально рассматривающего исторические процессы sub specie aeternitatis), христианскую веру европейских народов не могло поколебать ничто, кроме ошибок (вольных или невольных) тех, кто должен был нести им эту веру. Поэтому в своем историческом экскурсе из «Церковной догматики» он стремился главным образом к тому, чтобы установить, кто именно из теологов мог совершить эти гипотетические роковые ошибки. Исходя из того что христианская теология существует как бы сама по себе, в некоей особой сфере, которую не затрагивают философские и научные тенденции, а также социальные процессы, Барт практически не колеблясь назначил на должность главных губителей протестантской теологии ван Тиля и Буддеуса, которые, по его мнению, совершили ничем не обусловленную ошибку, волюнтаристски заменив один объект теологии на другой.
Однако, на мой взгляд, здесь Барта подвело его пренебрежительное отношение к историческому материалу и к истории вообще. Рационалистический подход ван Тиля и Буддеуса к христианской теологии не был чем-то совершенно новым, он лишь продолжал старую средневековую традицию. Можно сказать, что вся протестантская схоластика XVI–XVIII вв. была в некотором смысле возвращением от оригинального протестантизма Лютера и Кальвина к схоластической традиции Средневековья; но это возвращение, конечно, проходило на новом уровне, который был обусловлен новым историческим контекстом. Так, например, из наследия Средних веков было изъято все, что относилось к аристотелевской науке, поскольку таковая считалась устаревшей и к тому же дискредитированной своей тесной связью с католицизмом; с другой стороны, в неприкосновенности осталась практически вся (еще греко-римская по своему происхождению) метафизика, на основе которой протестантские мыслители XVI–XVIII вв., включая ван Тиля и Буддеуса, создавали свои «естественные теологии». В этой истории метафизики не было разрывов и радикальных переворотов, но была очень сложная эволюция, описание которой требует от исследователя пристального внимания к историческим деталям, осторожности в суждениях и полной беспристрастности. С сожалением могу отметить, что Барт не достиг успеха на этом поприще.
[127] Ibidem. Dedicatio.
[128] Фома Аквинский. Сумма против язычников. С. 37.
[130] Там же. С. 39.
[129] Там же.
[132] Там же. С. 55 (курсив мой. — А. А.).
[131] Там же.
[140] Thomas Aquinas. Commentum in quartum librum Sententiarum / Doctoris Angelici divi Thomae Aquinatis Opera Omnia. Parisiis, 1873. Vol. 10. P. 11.
[61] Barth K. Die kirchliche Dogmatik. Zürich, 1975. Bd. 1. Hbd. 2. S. 307.
[142] Фома Аквинский. Комментарий к трактату Боэция «О Троице». С. 139.
[141] Thomas Aquinas. Summa contra Gentiles / Doctoris Angelici divi Thomae Aquinatis Opera Omnia. Parisiis, 1874. Vol. 12. P. 460.
[143] «Затем последовал кантианский рационализм, который... свел religio naturalis к ethica naturalis» (Barth K. Die kirchliche Dogmatik. S. 317).
[62] Ibid. S. 304.
[63] В связи с этим более чем показательны следующие слова Барта: «Единственная предельная и действительная серьезная определенность для верующего — та, которая исходит от Иисуса Христа. Строго говоря, верующий больше не является субъектом: в своей и вместе со своей субъективностью он становится предикатом к субъекту — Иисусу Христу, благодаря Которому он оправдывается и освящается, от Которого он получает указания и утешение» (Ibid. S. 342).
[144] Насколько можно судить, исходя из текста «Opus Maius», эти «пять вещей» суть действия человека по отношению к Богу, к ближнему и к самому себе, а также загробное блаженство и наказание.
[65] Ibid. S. 343.
[64] Ibid. S. 305.
[145] The Opus Maius of Roger Bacon. Vol. 2. P. 223–234 (курсив мой. — А. А.).
[147] Я укажу только некоторые, самые очевидные параллели. Из шести разделов «моральной философии» Бэкона первые три суть: 1) собственно естественная теология, в рамках которой рассматриваются вопросы, связанные с существованием Бога и с Его атрибутами; 2) политическая философия, в рамках которой рассматривается тема отношения человека к ближнему; 3) этика частной жизни, в рамках которой рассматриваются добродетели и пороки, или отношение человека к самому себе. У ван Тиля первому разделу соответствует первая книга «Компендия», которая называется «О познании Бога»; второму разделу соответствует, в частности, субсекция «Об обязанностях, которые следует соблюдать по отношению к сотоварищам по жизни»; наконец, третьему разделу соответствует субсекция «Об обязанностях, которые следует соблюдать по отношению к нам самим», а также первый и второй «экскурсы» из второй книги «Компендия».
[66] Barth K. Die kirchliche Dogmatik. S. 331.
[146] «Тот, кто владеет этими четырьмя средствами [имеются в виду очищение души от грехов, отвлечение ее от естественного желания повелевать телом, обращение ума к сверхчувственному миру и удостоверение через откровение и пророчества в том, что ум человека не может знать сам по себе], не будет считать, что счастье доступно только в этом мире... но вместе с Аристотелем, Теофрастом, Авиценной и другими истинными философами будет пребывать в созерцании грядущего счастья, насколько это возможно для человека в силу его естественных способностей, до тех пор, пока благой и милосердный Бог не откроет ему более полной истины, ибо, как сказано в [моей] Метафизике, Он открыл ее не только тем, кто был рожден и воспитан в ветхом и новом законах, но и другим людям» (Ibid. P. 243 (курсив мой. — А. А.)).
[133] Согласно Фоме, «добродетелью обычно называют все то, что является благим и похвальным в человеческих действиях или страстях» (Thomas Aquinas. Summa Theologica. Vol. 3. Р. 313). При этом Фома проводит четкое различие между «самостоятельно приобретаемыми» добродетелями, virtutes adquisitae, к которым относятся интеллектуальные и моральные добродетели, и «влиянными» добродетелями, virtutes infusae, которые «изливаются» в человека Богом (к ним относятся теологические добродетели, такие как вера, надежда и любовь). Как уже было отмечено, religio есть часть справедливости, а потому она как таковая относится к добродетелям, которые приобретаются естественным образом. Поэтому можно сказать, что в определенном смысле для Фомы естественной является любая религия, и в этом отношении религия принципиально отличается от «влиянной» веры.
[134] «Религия, которая соотносится с Богом, равно как и преданность (pietas), которая соотносится с родителями, кровными родственниками и отечеством... воздают должное сообразно с тем, к чему обязывает закон» (Thomas Aquinas. Commentum in tertium librum Sententiarum // Doctoris Angelici divi Thomae Aquinatis Opera Omnia. Parisiis, 1872. Vol. 9. P. 542).
[135] «Religio est quae Deo debitum cultum affert» (Thomas Aquinas. Summa Theologica. Vol. 4. Р. 555).
[136] «Religio est... fidei protestatio per aliqua exteriora signa» (Ibid. Vol. 5. Р. 8).
[138] Ibid. Р. 592 (курсив мой. — А. А.).
[137] «Имя “подношение” в общем смысле применяется к любой вещи, которая используется в божественном культе. Так, если нечто используется в божественном культе как в чем-то священном, и если оно поэтому должно быть израсходовано, оно есть и подношение (oblatio), и жертва (sacrificium)» (Ibid. Vol. 4. Р. 597).
[139] Эти строки взяты из комментария к трактату Боэция «О гебдомадах» (lectio 4). Само выражение ex ipsis religionibus gentium barbararum является прямой цитатой из этого трактата, в чем можно усмотреть явный признак того, что, вопреки мнению Барта, еще Боэций знал о существовании нехристианских религий (то есть «внешних выражений веры», свойственных нехристианам). В Средние века трактат «О гебдомадах» комментировался неоднократно; при этом, например, Гильберт Порретанский (1085/1090–1154) толковал это выражение следующим образом: «“Из религий”, то есть из страха и обрядов “варварских народов”» (Gilbertus Porretanus. Commentaria in librum Boethii Quomodo substantiae in eo quod sint bonae sint cum non sint substantialia bona; PL 64, 1327B). Под «страхом» здесь надлежит понимать страх Божий, поскольку, как пишет Гильберт в другом своем комментарии, «в религии имеется также страх Божий и любовь Божия, и все таковое прочее» (Gilbertus Porretanus. Commentaria in librum Boethii De Trinitate; PL 64, 1261B). Следует особо отметить, что там же он говорит, что «многие считают религию первым видом естественного права (ius naturale)» (Ibidem), причем сам он нисколько не возражает против такой трактовки.
[155] Ibid. P. 173.
[74] Ibid. S. 320.
[154] Un fragment inédit de l’Opus Tertium. P. 173–174.
[76] Barth K. Die kirchliche Dogmatik. S. 323.
[156] Конечно, некоторые принципы сравнения, предложенные Бэконом (удаление/приближение к истинной религии, то есть к христианству, или соотнесение религиозных учений с планетарными конъюнкциями), не могут считаться научными с современной точки зрения. Тем не менее в некоторых аспектах бэконовская классификация религий выглядит вполне современно (подразделение религий сообразно таким критериям, как многобожие/единобожие, наличие/отсутствие священства, наличие/отсутствие священных текстов, наличие/отсутствие мест публичного богослужения и т.д.). Нельзя не отметить также довольно смутного, но все же историзма, который характеризует бэконовское исследование религий. Сама идея «гороскопа религий», согласно которому религии возникают, развиваются и исчезают, неслучайно вызывала жесткую критику со стороны ортодоксальных теологов. Хотя подобные гороскопы (которые, благодаря Бэкону в том числе, стали довольно популярны в XIV в.) были ненаучны и даже нелепы, они исподволь вводили принципы исторического мышления и ставили под сомнение ортодоксальную идею о вневременности и неизменности религии. Таким образом, если оставить в стороне общую теологическую ориентацию творчества Бэкона, нельзя не заметить, что уже им закладывались принципы рационалистической критики («критики» — в смысле «объективного научного исследования») религии, которыми впоследствии активно пользовались мыслители эпохи Просвещения.
[75] Ibid. S. 323.
[77] Принципиальное отличие своего подхода от научного Барт описывает так: «“Чистая” наука о религии — та, которая никоим образом не претендует на то, чтобы быть теологией» (Ibid. S. 321). С этим его замечанием трудно не согласиться.
[157] Barth K. Die kirchliche Dogmatik. S. 321.
[78] The Cambridge Companion to Barth. Cambridge, 2000. P. 243.
[79] Til S. van. Theologiae utriusque compendium. Lugduni Batavorum, 1704. Vol. I. P. 2.
[80] Buddeus I. F. Institutiones theologiae dogmaticae. Francofurti et Lipsiae, 1791. P. 9–10.
[67] Ibid. S. 356.
[68] Ibid. S. 324.
[149] Un fragment inédit de l’Opus Tertium de Roger Bacon. Quaraccchi, 1909. P. 164.
[148] The Opus Maius of Roger Bacon. Vol. 2. P. 366–367 (курсив мой. — А. А.).
[70] Ibid. S. 310.
[69] Barth K. Die kirchliche Dogmatik. S. 380.
[150] Хотя Бэкон ссылается главным образом на Аристотеля, нельзя не отметить, что он обращается преимущественно к его арабским комментаторам. При этом наиболее важным для Бэкона автором является, судя по всему, Аль-Фараби (872–951) с его «Трактатом о взглядах жителей добродетельного города», где безразличное, в общем, к религии политическое учение Аристотеля преломляется весьма специфическим образом — так, что теперь оно начинается с естественной теологии, а в повествование о гражданских добродетелях вплетаются темы религии и откровения, например, в таком ключе: «У различных добродетельных городов и добродетельных народов могут быть различные религии, хотя все они верят в одно и то же счастье и стремятся к одним и тем же целям» (Аль-Фараби. Философские трактаты. Алма-Ата, 1972. С. 341).
[71] Ibidem.
[151] Следует отметить, что термин natio, народ, Бэкон обычно использует для обозначения не этнической общности, но общности, объединенной религиозным «законом» (lex), а потому он говорит о христианском, иудейском и прочих народах.
[153] The Opus Maius of Roger Bacon. Vol. 2. P. 385.
[72] Barth K. Die kirchliche Dogmatik. S. 310.
[152] Согласно средневековым астрономическим представлениям, всего планет семь: Меркурий, Венера, Марс, Сатурн, Юпитер, Луна, Солнце. Конъюнкция в астрологии — один из основных аспектов (под «аспектом» подразумевается дуга определенной величины, соединяющая два элемента гороскопа (как правило, планеты), откладываемая вдоль эклиптики и измеряемая в градусах). Конъюнкция подразумевает расположение планет в непосредственном соседстве друг с другом (дуга 0°).
[73] Ibidem.
[88] Til van S. Op. cit. Vol. I. P. 139.
[87] Ван Тиль описывает естественную религию как объект естественной теологии (religio, quae theologiae naturalis obiectum est...). И именно так, «Естественная теология», а не «Естественная религия», называется первая часть его «Компендия». Мне кажется, Барт вполне сознательно решил не упоминать об этом обстоятельстве.
[89] Buddeus I. F. Op. cit. P. 13.
[90] Til van S. Op. cit. Dedicatio (курсив мой. — А. А.).
[91] «Ужасной ошибкой является то, что при чтении лекций на факультете теологии преобладает одна учительская позиция, [представленная] в “Сентенциях”... И тот, кто читает по “Сентенциям”, имеет преимущество в [лекционных] часах, устанавливая их по своему желанию; обладает он и помощниками из числа монашествующих, и доступом к средствам, а тот, кто читает лекции по Библии, лишен всего этого и ему недостает [лекционных] часов» (Fr. Rogeri Bacon Opera quaedam hactenus inedita. L., 1859. P. 328–329).
[93] Til van S. Op. cit. Dedicatio.
[92] Barth K. Die kirchliche Dogmatik. S. 313.
[82] Til van S. Op. cit. Vol. II. P. 2.
[81] Barth K. Die kirchliche Dogmatik. S. 315.
[83] Ibid. P. 7.
[84] Wendelin M. F. Christianae theologiae Libri II. Hanoviae, 1634. P. 5–6.
[85] Barth K. Die kirchliche Dogmatik. S. 312.
[86] «Ибо те, которые целыми днями молились и приносили жертвы, чтобы их дети пережили их (superstiti sibi essent), те были названы суеверными (superstitiosi), позже это название приобрело более широкий смысл. А те, которые над всем, что относится к почитанию богов, усердно размышляли и как бы перечитывали (relegerent), были названы религиозными (religiosi)». Цит. по: Цицерон. Философские трактаты. М., 1985. C. 124.
[100] Реати Ф. Э. Бог в XX веке. СПб., 2002. С. 15.
[101] «Благо природы, умаляемое через грех, является природной склонностью к добродетели. Эта склонность, понятно, подобает человеку в силу того, что он разумен: в самом деле, благодаря разумности он обладает возможностью действовать сообразно разуму, что и значит — действовать сообразно добродетели. Но грех не может полностью устранить разумность человека, ибо тогда он не был бы способен к совершению греха. Поэтому невозможно, чтобы грех полностью устранял указанную природу блага» (Thomas Aquinas. Summa Theologica. Parisiis, 1880–1882. Vol. 3. Р. 313).
[102] «Наша задача — изложить... истину, которую исповедует католическая вера, устраняя противоположные ей заблуждения... [И при этом] необходимо прибегать к естественному разуму, с которым все вынуждены соглашаться. Правда, в делах божественных его недостаточно. Однако, исследуя какую-либо истину, мы будем одновременно показывать, какие именно заблуждения она исключает и каким образом доказуемая истина согласуется с верой христианской религии» (Фома Аквинский. Сумма против язычников. Долгопрудный, 2000. С. 33).
[103] «Есть такие [истины], которые доступны даже естественному разуму, например, что Бог существует, что Бог един и тому подобные; их доказывали о Боге даже философы, ведомые естественным светом разума» (Там же. С. 37).
[105] К. Армстронг, например, так характеризует эту позицию Барта: «Швейцарский богослов Карл Барт (1886–1968) решительно воспротивился либеральному протестантизму Шлейермахера с его повышенным интересом к религиозным переживаниям. С другой стороны, Барт был и видным противником естественного богословия. По его мнению, пытаться изъяснить Бога рациональными концепциями — большая ошибка, и не только по причине ограниченности человеческого ума, но и потому, что люди испорчены Грехопадением. Следовательно, любое представление о Боге, складывающееся в уме человека, изначально таит в себе изъян, и поклонение такому божеству оказывается идолопоклонством. Единственный надежный источник познаний о Боге — Библия. Идеология Барта вместила, пожалуй, худшее из всего, чем когда-либо грешило богословие: прочь переживания, прочь естественный рассудок; человеческий ум слишком испорчен и доверия не заслуживает, а у других религий научиться ничему нельзя, ибо единственное достоверное откровение — это Библия. В совмещении столь радикального скептицизма по отношению к силе разума и совершенно некритического признания истин Священного Писания было что-то нездоровое» (Армстронг К. История Бога. М., 2011. С. 420–421).
[104] Barth K. Church Dogmatics. N.Y., 1956. Vol. 1.2. P. 168–171.
[106] Barth K. Die kirchliche Dogmatik. S. 311.
[94] Ibidem.
[95] Ibid. S. 322 (курсив мой. — А. А.).
[96] Кальвин Ж. Наставления в христианской вере. М., 1997. Т. 1. С. 33 (курсив мой. — А. А.).
[97] Там же. С. 34.
[99] Кальвин Ж. Указ. соч. С. 84.
[98] Barth K. Die kirchliche Dogmatik. S. 391.
[115] Tommaso d’Aquino. Commento al Corpus Paulinum (expositio et lectura super epistolas Pauli apostoli). Vol. 1: Lettera ai romani. Bologna, 2005. Р. 124–126.
[114] Барт К. Толкование Посланий к Римлянам и Филиппийцам. М., 2010. С. 22.
[116] Sanctus Bonaventura. In primum librum Sententiarum // Doctoris Seraphici S. Bonaventurae S. R. E. Episcopi Cardinalis Opera Omnia. Ad Claras Aquas, 1882–1902. Vol. 1. Р. 62–63 (курсив мой. — А. А.).
[117] Εὐσέβιος τῆς Καισαρείας. Εὑαγγελικὴ προπαρασκευή. XI, 1; PG 21, 845 (здесь и далее аббревиатура PG обозначает издание: Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca. 167 vols. Paris, 1857–1912; цифра после PG указывает номер тома, цифра после запятой — страницу (колонку) тома).
[118] Ibid. XI, 8; PG 21, 867.
[119] Идеи о том, что Бог ниспосылал некоторым язычникам особые иллюминации, просвещая их умы и наставляя в знаниях (в том числе тех, которые относятся к христианской догматике), были широко распространены среди позднеантичных и средневековых христианских теологов. Для латинского Запада важнейшим источником подобного рода представлений были сочинения Аврелия Августина, в частности трактат «О граде Божием», где, например, рассказывалось о «пророчестве сивиллы», предсказавшей пришествие Христа: «Эта сивилла, Эритрейская ли она, или, как думают некоторые, скорее Кумейская, во всех своих стихах, из которых мы привели только маленькую частичку, не высказывает ничего такого, что относилось бы к культу ложных или измышленных богов и что, напротив, не говорило бы против них и их почитателей; так что и сама она, по-видимому, относилась к числу тех, которые принадлежат к граду Божию» (Sanctus Aurelius Augustinus. De Civitate Dei contra Paganos. XVIII, 23; PL 41, 580). В XIII в. Роджер Бэкон все еще был убежден, что «Благой и милосердный Бог... открыл [истины, относящиеся к христианской догматике] не только тем, кто был рожден и воспитан в ветхом и новом законах, но и другим людям» (The Opus Maius of Roger Bacon. Vol. 2. P. 243). Причина популярности подобных идей вполне понятна: они позволяли легко объяснить очевидное сходство между раннехристианской теологией и позднеантичной философией.
[120] Εὐσέβιος τῆς Καισαρείας. Εὑαγγελικὴ προπαρασκευή. I, 1; PG 22, 21.
[107] Baierus G. I. Op. cit. P. 13 (курсив мой. — А. А.).
[108] Ibid. P. 18.
[110] Ibid. P. 143.
[109] Ibid. P. 19.
[111] «Lumine naturae... nititur» (Ibid. P. 5).
[112] Как уже отмечалось выше, Барт писал о Венделине, что он «не виновен в выведении понятия vera religio из conscientia (совести)», а потому «сформулированное им понятие является полностью объективным и безусловно христианским». Однако Байер, как мы видим, вполне «виновен» в этом.
[113] Климент Александрийский. Педагог. М., 1996. С. 213. Сравните эту фразу с приведенной выше максимой Кальвина: «Известно, что человек никогда не достигнет верного знания о себе самом, пока не увидит лика Бога и от созерцания его не обратится к созерцанию самого себя».
[47] Ibid. P. 232.
[48] «Таким образом, Бог нашел уместным открыть нам в Писании некоторые удивительные вещи, такие как сотворение мира и последний суд, и много других удивительных истин, которые человек сам по себе не мог даже вообразить» (Toland J. Christianity not Mysterious. L., 1702. P. 41).
[50] Baierus G. I. Compendium theologiae positivae. Lipsiae, 1759. P. 13.
[49] При этом уже здесь термин «религия» используется как по меньшей мере не полностью тождественный термину «вера»: «...для рассмотрения разногласий в нашей святой религии и христианской вере» («...in causa nostrae sanctae religionis et Christianae fidei»; Praef., 1).
[51] Burman F. Synopsis Theologiae. Genevae, 1678. P. 4.
[52] Stern F. R. The Politics of Cultural Despair. Berkeley, 1974. P. 27.
[53] Теперь он рассуждает так: «В течение всей истории мы имели дело не с Евангелием, а с христианством, то есть с иудейскими, греческими и римскими элементами, внедренными в новый материал Евангелия» (Lagarde P. de. Op. cit. S. 32).
[122] Там же. С. 146–155.
[121] Фон Гарнак писал в «Сущности христианства»: «Наряду с этикой Церковью было воспринято от греков и одно космологическое понятие, которому предстояло через несколько десятилетий занять центральное положение в ее учении. Это — Логос. Размышление над миром и внутренней жизнью привело греческое мышление... к понятию о некоторой действенной центральной идее. Эта центральная идея понималась как единство высшего начала мира, мышления и этики; в то же время под нею понимали само Божество как творческое и действующее, в отличие от того же Божества, взятого как начало покойное. Христианские апологеты сделали в начале II столетия важнейший из всех сделанных в истории развития христианского учения шагов, когда провозгласили: Логос есть Иисус Христос. Уже до них древние учители Церкви прилагали к Христу, в числе прочих предикатов, и название «Логоса»... теперь же выступили учители, до своего обращения бывшие приверженцами платоно-стоической философии; понятие Логоса было поэтому неотъемлемым элементом их миросозерцания. Они стали провозглашать, что Иисус Христос был воплощением Логоса... Таким образом, вместо совершенно непонятного представления о Мессии сразу обретено было вполне ясное понятие... Отождествление Логоса с Христом оказалось решающим моментом для слияния греческой философии с апостольским наследием и привело к последнему мыслящих греков... для той эпохи идея Логоса была наиболее целесообразной формулой соединения христианской религии с греческим мышлением... в гораздо большей степени, нежели более древние умозрения о Христе, она сосредоточила на себе интересы верующих, отвлекла их от простоты Евангелия и превратила [христианство] в религиозно-философскую систему» (Фон Гарнак А. Сущность христианства. М., 2010. С. 148–150).
[123] Доддс Э. Р. Язычник и христианин в смутное время. СПб., 2003. С. 209.
[43] Необходимо отметить, впрочем, что некоторые авторы пытаются отрицать универсальность религиозных феноменов на основании этнографических и антропологических данных. Аргументы подобного типа я рассмотрю в четвертом разделе второй главы.
[124] Til van S. Op. cit. Dedicatio.
[45] О чем свидетельствует уже само название его трактата: «De Veritate, prout distinguitur a revelatione, a verisimili, a possibili, et a falso», то есть «Об истине, как отличающейся от откровения, от правдоподобного, от возможного и от ложного».
[126] Ibid. Vol. I. P. 13.
[44] Lagarde P. de. Deutsche Schriften. Goettingen, 1878. S. 17.
[125] Ibidem.
[46] Tindal M. Christianity as Old as the Creation. L., 1730. Р. 82.
[54] Ibid. S. 34.
[56] Schweitzer A. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Tübingen, 1984. S. 45.
[55] В связи с этим весьма примечательно замечание Э. Трёльча, который полагал, что попытки отделить «религиозную веру» от «научной деятельности» разрушительны для культуры, а потому «различные источники знания надлежит некоторым образом объединить и гармонизировать» (Troeltsch E. Writings on Theology and Religion. L., 1977. P. 57). При этом он считал, что возглавить этот процесс должны «ученые и профессора» (Ibid. P. 199).
[57] Красников А. Н. Указ. соч. С. 23.
[58] Barth K. Der Römerbrief. Zürich, 1989. S. 237.
[59] Barth K. Der Römerbrief. S. 244.
[60] Green G. Challenging the Religious Studies Canon: Karl Barth’s Theory of Religion // The Journal of Religion. 1995. Vol. 75. P. 479.
