автордың кітабын онлайн тегін оқу Штурмуя цитадель науки. Женщины-ученые Российской империи
История науки
О. А. Валькова
Штурмуя цитадель науки: женщины-ученые Российской империи
Новое литературное обозрение
Москва
2019
УДК 001(091)(47+57)«17/190»-055.2
ББК 72.3(2)5
В16
Редактор серии К. Иванов
Штурмуя цитадель науки: женщины-ученые Российской империи / О. А. Валькова. — М.: Новое литературное обозрение, 2019. — (Серия «История науки»).
Монография О. А. Вальковой посвящена истории научной деятельности женщин в Российской империи в период с конца XVIII и до начала ХХ века включительно. В книге рассмотрен процесс постепенной интеграции женщин в сферу профессиональной научной деятельности в России с конца XVIII века и на протяжении всего XIX века, захватывавший с течением времени все большее количество участниц. Какие формы и виды принимала в этот период научная работа женщин? Какие законодательные акты влияли на нее? Какие существовали способы взаимодействия женщин-любительниц наук с профессиональным научным сообществом? Как относились широкие слои образованного общества к женщинам-ученым и их занятиям? Эти и многие другие вопросы поднимаются в книге. Исследование основано на обширном круге исторических источников, прежде всего архивных, впервые вводимых в научный оборот. Автором был также найден и использован уникальный, ранее неизвестный статистический материал, характеризующий российских женщин, занимавшихся естественными науками во второй половине XIX — начале ХХ века. О. А. Валькова — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН.
На обложке: Женщина сравнивает солнце с рисунком солнца рядом с ней на стене. Ян Лёйкен, 1687. Рейксмузеум, Амстердам.
ISBN 978-5-4448-1058-3
© О. А. Валькова, 2019
© ООО «Новое литературное обозрение», 2019
Содержание
- Предисловие
- Часть 1 Женщины — любительницы наук в России в конце XVIII — первой половине XIX века
- Глава 1 Дамы — любительницы наук в России в XVIII веке — миф или реальность?
- Глава 2 «Ученая женщина», «философка», «женщина со вкусом»... Новые понятия в русском литературном языке начала XIX века
- Глава 3 «Мы все учились понемногу…», или Естественно-научное образование российской благородной барышни в первой половине XIX века
- Глава 4 Кабинеты натуральной истории и естественно-научные коллекции российских женщин в первой половине XIX века
- Глава 5 Женщины — посетительницы публичных научных мероприятий в ученых и учебных учреждениях Российской империи в первой половине XIX века
- Глава 6 Первая научная публикация российской женщины: «Анализ силы» княгини Евдокии Ивановны Голицыной (1780–1850)
- Глава 7 Женщины-ученые и их работы на страницах российских общественно-литературных журналов в первой половине XIX века
- Часть 2 Начало процесса профессионализации научной деятельности женщин в России в 50-е годы XIX века
- Глава 1 Политэкономические теории М. Н. Вернадской (1831–1860) о женском труде
- Глава 2 Рост интереса к естественным наукам среди российских женщин в конце 50-х — начале 60-х годов XIX века
- Глава 3 Юридические основания профессиональной научной деятельности женщин в Российской империи до начала XX века
- Часть 3 Российские женщины-ученые и российские научные общества во второй половине XIX века
- Глава 1 Женщина — член-основатель естественно-научного общества. 1864 год
- Глава 2 Первые российские женщины в рядах естественно-научного общества
- Глава 3 Российская женщина — почти полноправный участник масштабной географической экспедиции (1868–1872)
- Глава 4 Дамы среди организаторов научно-просветительских выставок в Москве в конце 60-х — 70-е годы XIX века
- Глава 5 Впервые в истории: женщина — во главе крупнейшего научно-издательского проекта второй половины XIX века
- Глава 6 Почти профессионалы: участие женщин в деятельности российских естественно-научных обществ в 70–90-е годы XIX века
- Часть 4 Женщины — «любительницы наук» vs женщины — «профессиональные ученые» в российской науке в 1900-e годы
- Глава 1 На старте — первые женщины на службе в высших учебных и ученых учреждениях Российской империи в 1900-е годы
- Глава 2 «Зима недаром злится, прошла ее пора…» или нет? Независимые исследовательницы в России в 1900-е годы
- Глава 3 Частные женские научно-исследовательские учреждения в России в 1900-е годы
- Глава 4 «Поехали!» — Изменения законодательных оснований профессионального научного труда женщин в России в начале ХХ века
- Часть 5 Немного статистики: данные о российских женщинах-естествоиспытательницах второй половины XIX — начала ХХ века по материалам съездов русских естествоиспытателей и врачей: 1867–1913 годы
- Глава 1 Динамика посещения женщинами съездов русских естествоиспытателей и врачей в период с 1867 по 1913 год
- Глава 2 Карта проживания участниц съездов русских естествоиспытателей и врачей на территории Российской империи
- Глава 3 Социальный и профессиональный статус участниц съездов русских естествоиспытателей и врачей
- Глава 4 Данные о регулярности посещения женщинами съездов русских естествоиспытателей и врачей
- Глава 5 Секции, заседания которых посещали участницы съездов русских естествоиспытателей и врачей
- Глава 6 Женщины-докладчики на съездах русских естествоиспытателей и врачей
- Глава 7 Женщины во главе научных секций съездов русских естествоиспытателей и врачей
- Список сокращений
- Приложение 1 Женщины — члены Дома Романовых — почетные члены естественно-научных обществ и учреждений Российской империи
- Приложение 2 Список научных обществ и учреждений, российских и иностранных, членом которых состояла О. А. Федченко
- Приложение 3 Список научных обществ, учреждений и организаций, российских и иностранных, членом которых состояла графиня П. С. Уварова
- Приложение 4 Список слушательниц физико-математического отделения С.‐Петербургских Высших женских курсов, оставленных при курсах для подготовки к профессорскому званию
- Приложение 5 Данные о проживании участниц съездов русских естествоиспытателей и врачей на территории Российской империи
- Приложение 6 Список участниц съездов русских естествоиспытателей и врачей, посетивших более одного съезда
- Список иллюстраций
- Словник для именного указателя
Предисловие
До настоящего времени в нашем обществе сохранилось немало предрассудков, определяющих модель социального поведения женщины, в том числе устойчивые представления о том, что является и что не является «женским делом» и (или) достойным занятием (образом жизни) женщины. Даже наоборот, некоторые из этих клише, побледневшие и, казалось, почти забытые за время активной феминистской пропаганды ХХ века (хоть ее так никогда и не называли в СССР), в последние годы вновь возникли и усиленно обсуждаются и пропагандируются в средствах массовой информации. Они безусловно влияют на стандарты воспитания подрастающих поколений, как девочек, так и мальчиков, ориентацию и жизненные приоритеты молодых женщин, парадигмы поведения людей в семье и обществе. Тем не менее даже поверхностное сравнение сферы возможной (и обычной) для женщины деятельности, жившей, например, в середине XVIII века, и нашей современницы (с экономической, юридической, моральной и социальной точки зрения), деятельности, которая разрешается, поддерживается и допускается (если не одобряется) обществом, выявит поразительные отличия. Всего за двести пятьдесят лет (срок очень маленький по историческим меркам) в некоторых отношениях положение женщины изменилось кардинально, а ее возможности значительно расширились. И прежде всего это касается интеллектуальных сфер деятельности, поскольку, насколько нам известно, никто никогда не протестовал против занятия женщин тяжелым физическим трудом, будь то в сфере сельского хозяйства, обслуживания или ремесла (по крайней мере до начала Новейшего времени). Хотя, конечно, некоторая специализация и разделение женских и мужских обязанностей и профессий безусловно существовали и в области физического труда, но сам факт того, что женщина может и должна им заниматься, общество не оспаривало. Крестьянки, служанки, прачки, ткачихи… общество не считало, что эти занятия не подобают женщине, противоречат ее физиологии, отвлекают ее от заботы о семье и способствуют падению уровня нравственности в обществе. Совсем другое дело — умственный труд. Для того чтобы отвоевать себе право зарабатывать на жизнь не только тяжелым, вредным для здоровья, а зачастую и опасным физическим трудом, разумеется плохо и крайне мало оплачиваемым, потребовались те самые двести пятьдесят лет, о которых мы упомянули выше. И если с точки зрения глобального исторического процесса подобный срок — это сущий пустяк, то с точки зрения жизни человека — это жизни более десяти поколений, потраченные на достижение одной цели. А это уже совсем, совсем не мало. Хотя опять-таки, как мы уже упоминали, даже сегодня найдутся люди (и мужчины, и женщины), отрицающие подобное право женщины, причем их аргументы, как правило, не отличаются от тех, которые можно было услышать лет сто пятьдесят тому назад.
Научная деятельность представляет собой всего лишь одну из разновидностей интеллектуального труда, в праве на который общество отказывало представительницам женского пола не только в XVIII, но и в XIX веке и которая в настоящее время является вполне привычным и для них, и для самого общества видом деятельности. По данным современных исследователей, к 80-м годам ХХ века женщины составляли около 40 % научных сотрудников Российской Федерации[1]. Если учесть, что в первый год ХХ века по законам Российской империи женщины не имели права поступать в университеты империи, получать научные степени и звания, а также занимать должности научных сотрудников в государственных учреждениях, то можно с уверенностью утверждать, что перемена, произошедшая в ХХ веке в сфере профессионально-научной занятости женщин в России, была стремительной по историческим меркам. Однако, как свидетельствует опыт исторического развития, подобные перемены не происходят, как правило, одномоментно: подготовительные процессы, приводящие к ним, могут протекать в течение предшествующих десятилетий и даже столетий.
Именно таким был процесс постепенной интеграции женщин в профессиональную научную деятельность, процесс, занявший около двухсот лет. Изучение истории превращения блестящей и элегантной дамы-аристократки, любительницы и покровительницы наук, которую можно было иногда встретить на заседании Академической конференции в XVIII веке, в строго одетого и делового доктора наук, профессора и руководителя научно-исследовательского учреждения, которую можно было найти в коридорах научных институтов уже в первой четверти века ХХ, является целью настоящего исследования. Несомненно, нельзя не признать, что слом устоявшихся стереотипов и моделей социального поведения людей — один из сложнейших и интереснейших для изучения исторических процессов, происходящих в обществе. Тем более слом поведенческих стереотипов женщины (и восприятия происходящих изменений обществом как таковым), поскольку этот конкретный процесс затрагивает жизнь всех без исключения людей, влияя в том числе и на повседневную жизнь наших современников. Тем более странно, что ранее в отечественной историографии подобные попытки не предпринимались. В имеющихся же немногочисленных исследованиях появление в России первых профессиональных женщин-ученых часто относят уже ко второму десятилетию ХХ века, что, безусловно, не соответствует действительности. В несколько более многочисленных работах, посвященных истории высшего женского образования в России, стремление к которому ярко проявилось среди российских женщин с конца 50-х — начала 60-х годов XIX века, существует традиция связывать воедино историю высшего женского образования и историю профессиональной научной деятельности женщин, что также не выдерживает проверки фактами, по крайней мере в том, что касается 60–80-х годов XIX века.
Итак, в книге, которую вы держите перед собой, впервые в историографии отечественной истории науки предпринята попытка проследить удивительную метаморфозу ученой дамы в доктора наук и члена-корреспондента Императорской академии наук; изучить процесс постепенной интеграции российских женщин в ряды профессионального научного сообщества, неспешно протекавший в России с конца XVIII и вплоть до начала ХХ века; написать историю российских женщин-ученых, историю, в которой были свои герои, свои победители и неудачники, мученики и злодеи; написать историю штурма крепости, стоящей на высоченном утесе и казавшейся неприступной, насмешливо манившей издалека светом своих огней, но тем не менее поддавшейся многолетней осаде, отчаянным и безумным штурмам и в конце концов распахнувшей свои двери перед желающими войти…
1
Агамова Н. М., Аллахвердян А. Г. Российские женщины в науке и высшей школе: историко-научные и науковедческие аспекты (к 150-летию со дня рождения С. В. Ковалевской) // Вопросы истории естествознания и техники. 2000. № 1. С. 149.
Часть 1
Женщины — любительницы наук в России в конце XVIII — первой половине XIX века
Глава 1
Дамы — любительницы наук в России в XVIII веке — миф или реальность?
Я еще повторю, упражняйтесь в науках! Матери, внушайте дочерям своим вкус к ним с самых нежных лет.
Сведения, которыми мы сегодня располагаем о российских женщинах, увлекавшихся, интересовавшихся и тем более систематически занимавшихся естественными и математическими науками во второй половине XVIII века, очень скудны. Однако в исторической литературе XIX века бытовало мнение, что женщины, имевшие подобные интересы, не только существовали, но что число их было не так уж мало. Например, в 1895 г. писатель Владимир Осипович Михневич (1841–1899), посвятивший целую главу своей книги «Русская женщина XVIII столетия» «писательницам и ученым», заявлял: «В течение означенного периода мы встретим не мало женщин-писательниц и даже ученых[2], — и далее объяснял характер их занятий следующим образом: — Но все они упражняются в сочинительстве, в науках и искусствах не по профессии, а исключительно, как “любительницы”-дилетантки. Это все хорошо обеспеченные барыни, прекрасно образованные, начитанные, нередко талантливые, исполненные искренней любви к науке[3], к литературе и искусству, но занятия сими последними — для них не более, как забава, развлечение или предмет суетного тщеславия. Тут нет места ни системе, ни серьезным целям, ни сознанию общественного долга, как не может быть им места во всякой личной, хотя бы и очень изящной и остроумной прихоти. Оттого-то так тощи и ничтожны в итоге плоды умственно-художественной производительности русской образованной женщины за времена минувшие». И после небольшого отступления продолжал: «Труда[4], именно, и не хватало предшествовавшим генерациям русской образованной женщины, пробовавшей свои творческие силы на поприще литературы, науки и искусства! Мы говорим о профессиональном[5] труде, подчиняющемся духовным потребностям общества и одушевленном общественными идеалами. Отсутствие такого труда низводит самое прилежное, самое утонченное занятие наукой и искусством на степень эстетического переливания из пустого в порожнее. К сожалению, таков был, в большинстве случаев результат женской производительности в помянутой области до последнего почти времени»[6]. (Заметим в скобках, что единственное исключение В. О. Михневич делал для актрис, труд которых он также признавал интеллектуальным и весьма выдающимся[7].)
К сожалению, В. О. Михневич, кратко перечислив нескольких писательниц, переводчиц и поэтесс, деятельность которых с тех пор многократно изучалась, назвав несколько известных светских дам — покровительниц наук и художеств, также неоднократно привлекавших внимание исследователей, не назвал ни одного имени женщины-ученой, кроме, конечно, Е. Р. Дашковой. Таким образом, не очень понятно, на чем же основывалось его утверждение о большом количестве женщин-ученых в России второй половины XVIII века и на основании чего он давал такую детальную характеристику их социального положения, уровня образования и, главное, характера занятий науками. Возможно ли, что В. О. Михневич ошибался или дал волю писательской фантазии? Посмотрим на этот предмет несколько подробнее.
13 октября 1717 года по личному приглашению Петра I прибыла в Петербург Доротея Мария Генриетта Графф (1678–1743), дочь знаменитой художницы, путешественницы, энтомолога Марии Сибиллы Мериан (1647–1717). Она получила место преподавателя в Фигурной палате Академии наук, обучая первых российских граверов и художников рисованию и живописи, но этим не ограничивался круг ее деятельности. Доротея Мария ухаживала за своей знаменитой матерью в последние годы ее жизни. Она же была распорядителем ее наследства, прежде всего научного. Как пишет биограф Марии Сибиллы Т. А. Лукина, «своей главной задачей она сочла завершение третьей части “Книги о гусеницах”. Мария Сибилла в последние годы жизни была особенно заинтересована в этой работе, так как хотела включить в нее свои новые наблюдения и исправить вкравшиеся ошибки. Книга вышла в свет в год смерти ее создательницы. На титульном листе значилось: “Третья и последняя часть “Происхождения и питания гусениц” Марии Сибиллы Мериан. Приложение содержит некоторых суринамских насекомых. Их наблюдала ее старшая дочь Иоганна Елена Херолт во время пребывания в Суринаме. Все вместе нарисовала и издала в свет младшая дочь Доротея Мария Хенрика”. Пятьдесят гравюр этой части были выполнены по рисункам Марии Сибиллы. Ею же был написан и пояснительный текст»[8]. В России Доротея Мария помимо преподавания рисовала экспонаты Кунсткамеры, в основном птиц. Она многое сделала для развития музейного дела в нашей стране. «То, что дочь Марии Сибиллы без колебаний согласилась переселиться в далекую, не известную ей страну, в город, который только еще строился, подтверждает ее смелость и решительность, — пишет Лукина. — Она была достойна своей матери. Доротея Мария, или “Гзельша”, считалась в стенах Петербургской Академии авторитетом не только в вопросах художеств, но и во всем, что касалось Южной Америки: ведь, подобно своей матери, она побывала там среди первых исследователей Суринама, первооткрывателей его животного и растительного мира (более ранние исследователи Южной Америки, жившие в России, неизвестны)»[9]. По имеющимся на сегодняшний день сведениям, Доротея Мария Графф являлась первой женщиной, принятой на службу в Петербургскую Академию наук. Второй стала через шесть с лишним десятилетий княгиня Е. Р. Дашкова.
В одном В. О. Михневич был, безусловно, прав: говоря о женщинах, интересовавшихся наукой в последние десятилетия XVIII века, никак нельзя обойти молчанием деятельность светлейшей княгини Екатерины Романовны Дашковой (1743–1810). Директор Петербургской академии наук (1783–1796), создатель и президент Российской Академии (1783–1796), она давно и с полным правом признана выдающимся организатором науки своего времени[10]. Из собственных записок княгини широко известны ее увлечения философией, музыкой, архитектурой, художественной литературой. Однако сведений о ее отношении к естественным и точным наукам (здесь мы имеем в виду личный интерес к естествознанию) почти нет, да и исследователи жизни и творчества Е. Р. Дашковой не обращали особого внимания на этот вопрос. Тем не менее отдельные замечания, разбросанные по страницам «Записок» княгини, позволяют предположить, что и эта сфера человеческого знания входила в круг ее интересов. Рассказывая, например, о своем пребывании в Брюсселе во время второго заграничного путешествия (1775–1782), она пишет: «Каждое утро мы отправлялись с доктором Бюртеном в окрестности города и составляли гербарий из растений, не виданных мною у нас»[11]. Во Флоренции она осматривала не только картинную галерею, церкви, библиотеки, но и «великогерцегский кабинет естественной истории». И не просто осматривала, поскольку, по ее словам, «его королевское высочество приказал дать мне все дублеты, которые я пожелаю иметь, вследствие чего я получила много окаменелостей и не только местных, но со всего земного шара…»[12]. Описывая собор города Пизы, Е. Р. Дашкова отмечает: «Любитель естественной истории[13] заметит, что одна из маленьких колонн, поддерживающих кафедру, составлена из кусочков разных сортов порфира, соединенных между собой пастой из простого порфира»[14]. Во время пребывания в Вене Екатерина Романовна посещает императорский музей, причем замечает, что император Иосиф «… мне предложил выбрать из его кабинета какие угодно дублеты и простился со мной, заявив, что, зная мою любовь к естественным наукам, не решается дальше отнимать у меня драгоценное время», — чем Е. Р. Дашкова не преминула воспользоваться: «Я выбрала кое-какие образцы минералов Венгрии и других провинций», — пишет она[15]. В Праге княгиня купила «очень дешево» «коллекцию окаменелостей различных пород деревьев и образцы мрамора»[16]. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что как сама Е. Р. Дашкова, так и окружающие причисляли ее к «любителям наук» и что собирание естественно-научных коллекций, несомненно, было одним из ее увлечений. Правда, основываясь на материале «Записок», трудно определить глубину этого интереса, поскольку приведенные нами упоминания отрывочны. Кроме того, известно, что Е. Р. Дашкова совершала свое путешествие с целью завершить образование сына (во всяком случае, так она заявляла), так что посещение естественно-научных музеев и кабинетов могло быть частью образовательной программы, составленной ею для сына, а отнюдь не данью собственным увлечениям. Можно ли с полным правом назвать Е. Р. Дашкову «натуралистом», как это делает в своей работе Л. Я. Лозинская[17]? Было ли ее занятие коллекционированием всего лишь данью моде? В нашем распоряжении недостаточно фактов, чтобы ответить на эти вопросы. Однако некоторые факты, подтверждающие мнение Л. Я. Лозинской, все-таки имеются. Так, в 1783 году, заняв пост директора Академии, Е. Р. Дашкова стала инициатором чтения академиками бесплатных популярных курсов математики и естественной истории (1785–1802). Современные исследователи очень высоко оценивают их, относя к числу «крупнейших просветительских начинаний, осуществленных Е. Р. Дашковой в Академии наук»[18]. Рассказывая об этом начинании, Е. Р. Дашкова писала: «Я часто присутствовала на лекциях…»[19] Также не раз и не два на страницах своих «Записок» Е. Р. Дашкова упоминает сады, в создании которых она принимала непосредственное участие. В ее собственном саду, распланированном ею, «каждое дерево и каждый куст были посажены» по ее выбору и на ее глазах[20]. По просьбе брата, А. Р. Воронцова, она занималась планировкой и обустройством его сада и пр.[21] Помимо этого Е. Р. Дашкова вскользь замечает, что имела «некоторые познания в медицине»[22]. Таким образом, подводя краткий итог, можно сказать, что княгиня Е. Р. Дашкова занималась собиранием естественно-научных коллекций, причем в создании некоторых (например, гербариев) принимала личное участие. За границей она посещала естественно-научные музеи и кабинеты, а в России — академические лекции по математическим и естественным наукам и несомненно увлекалась садоводством. Все это подразумевает, что она имела достаточно широкий кругозор в области естественных наук.

Рис. 1. Портрет княгини Е. Р. Дашковой. 1808 г. Неизвестный художник с оригинала 1790-х гг.
Однако для нашего исследования важен ответ на вопрос: насколько типичными для своего времени или, наоборот, нетипичными были познания и увлечения княгини Е. Р. Дашковой? В своих «Записках» Е. Р. Дашкова как-то упоминает церемонию раздачи премий в Академической конференции: «День, назначенный для раздачи премий, был объявлен заранее в газетах, и публики собралось очень много. Были иностранные министры и даже дамы…» — пишет она[23]. Было ли появление «дам» в Конференции Академии событием чрезвычайным, вполне заслуживавшим эпитета «даже»? Трудно сказать. Е. Р. Дашкова, по ее собственным словам, «не любила появляться в научных конференциях»[24], так могла ли она знать о том, кто там бывал регулярно? Вполне возможно. К сожалению, из отчетов академиков, читавших публичные лекции, нельзя понять, посещали ли их женщины. Никто из них об этом не упоминает, так же как и сама княгиня[25].
Однако при внимательном изучении литературных источников можно встретить отрывочные и мимолетные упоминания о современницах княгини Е. Р. Дашковой, так или иначе проявивших свой интерес к естественным наукам. Например, в № 13 «Дамского журнала» за 1830 год в рубрике под названием «Материалы для истории русских женщин-авторов» появилась краткая информация о сестрах, княжнах Анне Михайловне (впоследствии — Грессер, 1776 (?) — 1827) и Екатерине Михайловне (впоследствии — Кожина, 1777–1834) Волконских, дочерях бригадира князя М. П. Волконского, опубликовавших в 1792 г. выполненный ими перевод книги «Рассуждения о разных предметах природы, наук и художеств»[26]. К этому времени в русской литературе уже были известны имена нескольких дам и девиц переводчиц. Но никто из них раньше, кажется, не обращал внимания на научную и научно-популярную литературу. «Рассуждения о разных предметах природы, наук и художеств» представляли собой в соответствии с современной терминологией «книгу для чтения» или, можно сказать, хрестоматию, содержавшую отрывки из сочинений по естественным наукам, астрономии, письму и книгопечатанию, а также из политических и «моральных» наук. Как замечал анонимный автор «Дамского журнала»[27], сестры перевели и напечатали «весьма полезную для Натуральной Истории книгу… <…> Профессор Озерецковский[28] и многие другие из наших ученых естествоиспытателей отдавали всю должную справедливость счастливому выбору переводчиц и хвалили самый перевод их, не затрудненный даже и при технических выражениях — науки, столь много замечательной, в особенности под пером женщины!»[29] Чем был вызван выбор княжон Волконских: личным интересом, желанием угодить кому-то из родственников и друзей, случайностью — неизвестно. Однако, как заметил в 1874 году писатель и историк Даниил Лукич Мордовцев (1830–1905) в книге «Русские женщины нового времени», «надо отдать честь этим девушкам, что их не остановила трудность такой работы, как перевод ученого и весьма капитального в то время сочинения»[30]. Д. Л. Мордовцев счел необходимым добавить от себя несколько слов по поводу «ученой терминологии», которая «была несравненно менее установлена и выработана, чем в настоящее время: известно, как ученая терминология и теперь затрудняет наших современных переводчиков и переводчиц», — писал он[31]. Автор «Дамского журнала» передал также слова, якобы сказанные по поводу работы сестер Волконских Д. И. Фонвизиным некоему приятелю: «Прочти перевод княжен Волконских; его скоро напечатают, и ты увидишь, что при изображении моей последней Софьи я еще весьма мало задал ей учености: наши Россиянки начали уже и сами знакомить нас с Бонетами[32] и Бюффонами»[33]. Вообще, кажется, публикация перевода княжон Волконских не прошла незамеченной. По словам графа Дмитрия Ивановича Хвостова, приславшего некоторые дополнения и исправления в редакцию «Дамского журнала», перевод этот был показан княгине Е. Р. Дашковой, которая в свою очередь передала его императрице Екатерине II. Екатерина пожелала познакомиться с переводчицами лично, и Е. Р. Дашкова представила ей их во время одного из петергофских маскарадов. «Императрица изволила приласкать юных переводчиц пред всею публикою», — замечал Д. И. Хвостов[34].
То, что научный перевод требует от переводчика не только свободного владения иностранным языком (что было в тот период вполне обычным для русской аристократки), но и понимания сути предмета, не вызывает сомнений. Чтобы создать перевод, вызвавший такие похвалы, сестры Волконские просто не могли не иметь какого-то естественно-научного образования, хотя бы и самого поверхностного. Поэтому можно предположить, что выбор объекта перевода был обусловлен их собственной заинтересованностью и любопытством или, возможно, на этот выбор оказало влияние европейское увлечение того времени. Материалы Международного симпозиума «Посредники наук: женщины — переводчики научных текстов 1600–1850»[35], прошедшего в рамках XXIII Международного конгресса по истории науки и техники «Идеи и инструменты в социальном контексте», свидетельствуют о том, что занятие женщин переводами научных текстов в XVIII веке встречалось достаточно часто в различных европейских странах, в том числе во Франции, в Неаполитанском королевстве, в Испании[36].
Хотя это, конечно, не больше чем предположение. Однако, несмотря на то что мотивы сестер Волконских остаются для нас неясными, они — первые русские женщины (насколько это известно на сегодняшний день), выступившие в печати с научным (научно-популярным) сочинением, пусть пока что только переводным. Кроме того, что описанная работа свидетельствует в пользу тезиса о существовании в России в последние десятилетия XVIII века женщин, достаточно серьезно интересовавшихся науками, она представляет собой первый опыт профессии, в будущем давшей занятие и заработок многим российским образованным женщинам. Как, на наш взгляд, совершенно справедливо заметил Д. Л. Мордовцев, «к чести “россиянок” прошлого века следует отнести, что они являются как бы прототипами тех полезных[37] женщин-писательниц нашего времени, которые своею переводческою деятельностью значительно пополняют недостаточность научной подготовки русской читающей публики»[38].
На страницах «Дамского журнала» нам удалось отыскать еще одно женское имя, связанное с занятием точными и естественными науками в XVIII столетии. В уже упоминавшейся рубрике этого журнала «Материалы для истории русских женщин-авторов», помимо сведений о писательницах, поэтессах и переводчицах, журнал поместил заметку о некоей Маргарите Николаевне Струйской, дочери небезызвестного дворянина, прозаика и стихотворца, а также типографа Николая Еремеевича Струйского (1749–1796). Как и другие дамы, Маргарита Николаевна пробовала свои силы в переводах, и в 1791 году один из них увидел свет[39], но не это привлекло наше внимание. Редактор «Дамского журнала» пишет о ней: «…разделяла литературные труды со своим родителем, не скучала его философическою жизнию и не редко препровождала с ним целые недели на обсерватории[40], устроенной тогда в их Пензенской вотчине[41]»[42]. Источник этих крайне интересных сведений нам установить, к сожалению, не удалось, так же как и найти какие-либо подробности.
«Русский биографический словарь» также сообщает о нескольких представительницах рода Голицыных, живших во второй половине XVIII века и интересовавшихся науками. Так, в статье, посвященной княгине Екатерине Дмитриевне Голицыной (1720–1761), дочери молдавского господаря Дмитрия Константиновича Кантемира и княжны (в девичестве) Анастасии Ивановны Трубецкой, Н. Чулков писал, что княгиня воспитывалась в доме матери под наблюдением ее брата, известного отечественного деятеля Ивана Ивановича Бецкого, и «считалась одной из образованнейших русских женщин своего времени»[43]. Он также сообщал: «…Голицына интересовалась медициной и по духовному завещанию оставила 22 000 р. в пользу страждущего человечества, с тем, чтобы на проценты с этого капитала были отправляемы Московским воспитательным домом чрез каждые 6 лет трое молодых людей в возрасте 15–18 лет, природные русские или родившиеся в России, для изучения медицинских наук в иностранные университеты, преимущественно в Страсбургский, славившийся в то время лучшим преподаванием повивального искусства»[44]. По сведениям Н. Чулкова, именно на эти средства получили образование первые представители отечественного акушерства, в том числе, по выражению историков медицины ХХ века, признанный «отец» русского акушерства[45] Н. М. Максимович-Амбодик[46], А. М. Шумлянский[47] и др.[48]
Еще одна княгиня Голицына, широко известная своим интересом к наукам и упомянутая в «Русском биографическом словаре», — княгиня Амалия Самуиловна Голицына, урожденная Шметтау (1748–1806)[49], дочь прусского графа, генерал-фельдмаршала и президента Берлинской академии наук Самуила Шметтау (1684–1751). Амалия Шметтау вышла замуж за любителя естественных наук князя Дмитрия Алексеевича Голицына (1734–1803), большую часть жизни проведшего в Европе[50]. Хотя после замужества Амалия Шметтау носила российскую фамилию Голицына, бывала в России (по крайней мере, она была представлена при дворе Екатерины II), тем не менее ее трудно причислить к российским женщинам — любительницам наук. Однако, поскольку, по мнению автора биографической статьи историка Павла Пирлинга, дом княгини «служил средоточием высшего общества» и в гостях у нее бывала «русская знать»[51], она могла оказывать значительное влияние на мировоззрение, а также увлечения российских дам — своих гостий. Поэтому мы считаем необходимым сказать здесь о ней несколько слов. Уже после замужества и рождения двоих детей княгиня решилась заняться самообразованием. По словам Пирлинга, «…с редкою энергиею и неутомимым усердием княгиня взялась за изучение математики, философии, греческого языка и вместе с тем, обдумав широкий план и усвоив себе надлежащие приемы, она стала сама преподавать детям первоначальные знания»[52]. Проживая в швейцарском Мюнстере, она собрала вокруг себя кружок ученых и увлекавшихся науками людей, ставший известным по всей Германии под именем familiasacra. Как пишет П. Пирлинг, «ежедневно, по вечерам, в ее доме велись научные разговоры. В них участвовали университетские профессоры, местные ученые, высшие сановники»[53]. Княгиня А. С. Голицына состояла в переписке со многими известными учеными своего времени. Первая часть дневниковых записок княгини была опубликована в Штутгарте в 1868 году под названием «Mittheilungen aus dem Tagebuch und Briefwechsel, nebst Fragmenten und einem Anhange»[54]. Продолжение вышло в Мюнстере в 1874–1876 годах. На русский язык они никогда не переводились[55].
В упоминавшейся выше книге В. О. Михневича приведен еще один пример женщины-ученой, оставшейся, однако, безымянной. В. О. Михневич взял его из работы «Н. М. Карамзин» журналиста и редактора Альберта Викентьевича Старчевского (1818–1901). Это история воспитания братом Н. М. Карамзина Василием Михайловичем Карамзиным (1751–1827) «одной девочки», у которой им были замечены «необыкновенные способности». «Эта редкая женщина выучилась даже латинскому языку[56] и считалась ученейшею в своем околодке, не выезжая из пределов Симбирской губернии», — приводит В. О. Михневич цитату из работы А. В. Старчевского и добавляет: «К сожалению, г. Старчевский, сообщающий эти сведения, <…> не указывает их источника и не называет даже имени этой “редкой женщины” — ученой»[57]. Тем не менее он не подвергает сомнению данное свидетельство.
Конечно, несколько найденных имен не может свидетельствовать о положении дел в целом. Однако в нашем распоряжении имеются и другие, объективные данные о существовании интереса к точным и естественным наукам среди российских женщин последних десятилетий XVIII века.
По сведениям современного специалиста по истории отечественной книги XVIII века, доктора исторических наук А. Ю. Самарина, изучившего подписные листы различных научных изданий, только с 1787 по 1800 год женщины подписались, как это следует из таблицы 1, на следующие научные книги:
Таблица 1. Женщины — подписчицы математических и естественно-научных изданий (1787–1800)
| Название книги |
Количество женщин-подписчиц |
| Войтяховский Е. Д. Теоретический и практический курс чистой математики. Т. 1–3. М., 1787. |
1 |
| Пиль Р. Понятие о совершенном живописце. СПб., 1789. |
1 |
| Лангер К. Г. Полный географический лексикон. Ч. 1–3. М., 1794. |
3 |
| Ертов И. Д. Начертание естественных законов, происхождения вселенной. Т. 1–2. СПб., 1798–1800. |
1 |
Конечно, как мы видим, число подписчиц очень невелико. Как замечает А. Ю. Самарин, «особенно плохо женщины подписывались на книги по естественным наукам и технике. Две трети изданий такого рода, имеющих печатные списки подписчиков, женщины вообще не заказывали»[58]. Следует заметить, что гораздо большее число женщин выписывали в тот же период книги исторического (103 человека) и философско-религиозного (36 человек) содержания[59]. Однако одними только книгами не могло ограничиваться чтение образованного человека. К сожалению, ученые и учено-литературные периодические издания не часто печатали списки подписчиков. Тем не менее мы можем отметить, что среди подписчиков периодических изданий, имеющих то или иное отношение к точным и естественным наукам и опубликовавших списки своих читателей, были и женщины. Так, в 1780 году 20 женщин выписывали журнал «Экономический магазин», в 1792 году одна дама подписалась на «Санкт-Петербургские врачебные ведомости», в 1794 году 2 женщины выписывали «Библиотеку ученую, экономическую, нравоучительную» и, наконец, в 1799 году 9 дам подписались на «Журнал о земледелии для Всероссийской империи»[60].
Безусловно, приведенные выше данные более чем относительны. Если дама сама не выписывала журнал или книгу, то это мог сделать кто-нибудь для нее по ее просьбе. Например, среди подписчиков издававшейся в Тобольске «Библиотеки ученой, экономической, нравоучительной» поименованы две дамы: «девица Марья Ивановна Протасова» (в Орловском наместничестве)[61] и «стат[ского] сов[етника] Осипа Дмитриевича Лукина дочь Анна Осиповна» (в Рязанском наместничестве)[62]. Однако помимо них упомянут Яков Баженов «его сиятельства господина генерал-поручика, действительного камергера и разных орд[енов] кавалера Михайла Михайловича Голицына супруги княгини Анны Александровны урожденной баронессы Строгановой служитель» (из Пермского наместничества)[63]. Выписывал ли он журнал для себя или для своей сиятельной патронессы? На этот вопрос нет ответа. Точно так же некоторые подписчицы могли действовать по поручению родственников или друзей-мужчин и совершенно не интересоваться тем, что они выписывали.
Кроме того, конечно, человек, серьезно занимавшийся наукой в последние десятилетия XVIII века, не мог ограничиваться только отечественными изданиями. Скорее наоборот: число выписываемых им зарубежных специальных сочинений должно было бы преобладать. Вполне возможно, что плохо, а иногда вообще не читавшие по-русски аристократки просто не обращали внимания на русскоязычные книги и переводы, предпочитая им иностранные оригиналы. А в том, что это были именно аристократки, нет никаких сомнений. По сведениям А. Ю. Самарина, «социальный состав женщин-подписчиков более аристократичен, чем подписчиков-мужчин. Среди них практически отсутствуют представительницы недворянских сословий, а значительная часть (более трети) принадлежит к титулованной аристократии и генералитету»[64].
Однако меньше ли было число женщин — читательниц научных изданий по сравнению с приведенными выше данными или, наоборот, больше, не особенно важно для нас. Достаточно самого факта: подобные женщины существовали. И хотя, по-видимому, их было мало, но сам факт того, что уже в последние десятилетия XVIII века некоторые российские аристократки проявляли интерес к наукам, не подлежит сомнению. И, как мы видели выше, не все они ограничивались исключительно чтением.
Свидетельством, косвенно подтверждающим наши выводы, может также служить одна крайне любопытная журнальная публикация. В 1793 году журнал «Чтение для вкуса, разума и чувствований» опубликовал статью француза по фамилии Гартиг, переведенную на русский язык Михаилом Вышеславцевым[65], под названием: «Рассуждение о женщинах, и о выгодах, которые получили бы они от упражнения в науках». Это не была первая статья в истории отечественной журналистики, посвященная ученым женщинам. Еще в 1759 году миллеровские «Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие» опубликовали «Известие о некоторой ученой девице в Англии», представлявшее собой биографию английской писательницы и переводчицы Елизаветы Картер (1717–1806) с сопутствовавшими рассуждениями о пользе учения как для самих девиц, так и для их семейств[66].
Статья не подписана, непонятно, перевод ли это или оригинальное сочинение отечественного журналиста. Любопытно, что безымянный автор относится к занятиям своей героини с полным одобрением и с энтузиазмом объясняет самим девицам и их родным, как увлечение науками может быть полезно для всех заинтересованных сторон. «Женскому полу служить может немалым ободрением к упражнению в науках, когда узнают, что без дальнего труда могут приобресть довольные знания к пользе и увеселению жизни человеческой способствующия; ибо едва ли есть один род учения, в котором бы не прославились женщины в различные веки, — писал он. — Ежели число оных не весьма велико, то всякой сам может себя уверить, что сие происходит не от недостатку женского разума: но с того, что не было довольно случаев изощрять оной; потом стали и представлять ученых женщин в комедиях, яко бы оне все легкомысленны, горды и педантки, — указывал автор, очевидно ссылаясь на знаменитую пьесу Мольера «Ученые женщины», замечая, правда, — что однако не более об них, как о мужеском поле сказать можно». Автор признавал, конечно, что подобные занятия вовсе необязательны: «Правда, что состояние, к которому божие провидение определило женщин, не требует того, чтоб оне знали высокие науки и чтобы разумели ученые языки: однако ж сие не препятствует пользоваться им всеми возможными случаями, для просвещения их разума и для исправления их нраву». И продолжал далее, выдавая аргумент в пользу женского образования, которым на протяжении последующих полутора столетий будут пользоваться все радетели за женское образование в России: «Сие учение есть великой важности, как для них самих, так и для их фамилии, тем наипаче, что большая часть детей получают от женщин, а особливо от матерей, первые понятия, с которых следы во всю жизнь у них остаются». Но этот аргумент не был единственным: «Сверх того, — отмечал журналист, — склонность к добру, которая основана только на внешних, нетвердых и минуемых приятностях, бывает недолговечна, и многократно подвержена печальным переменам: напротив того здравый разум, подкрепленный непоколебимыми основаниями и просвещенный приятными знаниями, есть такое увеселение, которое на всякой час услаждает и не прежде как с самою жизнию окончевается»[67]. Таким образом, автор середины XVIII века считал женское занятие науками полезным не только для общества, но и для самих женщин.
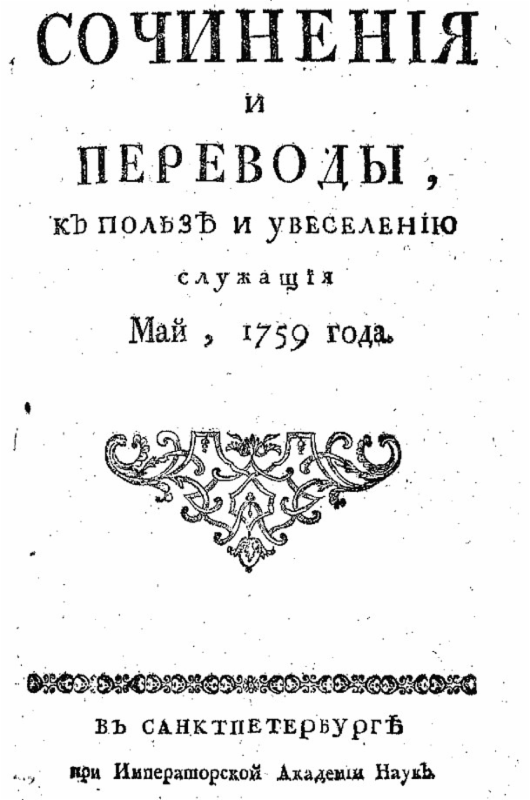
Рис. 2. Титульный лист журнала «Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие». 1759 г. Май
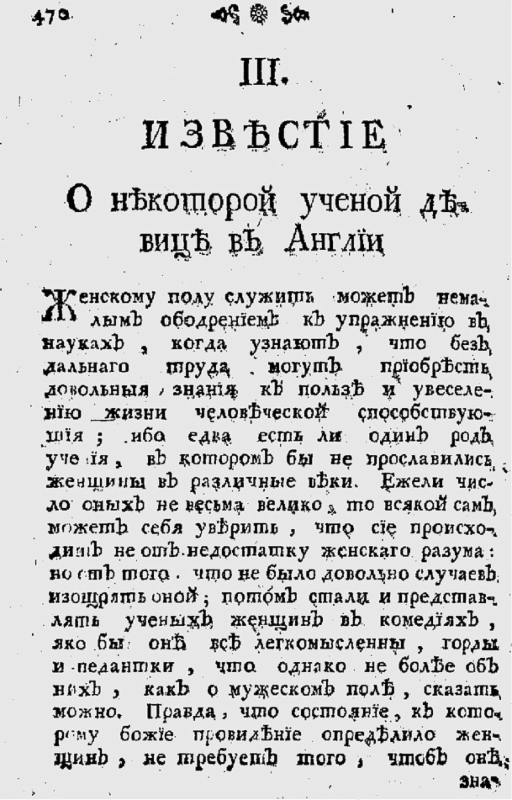
Рис. 3. Первая страница статьи «Известие о некоторой ученой девице в Англии» (Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие. 1759. Май. С. 470)
Статья господина Гартига, увидевшая свет на 34 года позднее, во многом, однако, перекликается с этой ранней безымянной публикацией. Господин Гартиг подробно рассматривает способность или неспособность женщин к занятию различными науками и искусствами, приводя в пример знаменитых европейских дам, прославившихся своими познаниями или даже заслугами в науке, и приходит к выводу, что никаких препятствий, обусловленных «природой» женщины, для занятий этим видом деятельности не существует: «…каковы б ни были <…> препятствия, сей род наук (имеются в виду «отвлеченные понятия», требующие тщательного изучения и логического мышления. — О. В.) соразмерен разуму женщин; многие с успехом упражнялись в них», — пишет он и добавляет: «Во всех веках были женщины, которые с успехом упражнялись в самых трудных науках; оне умели преодолеть своим мужеством и проницанием все препятствия, которые природа, повидимому, противоположила им только, чтобы зделать торжество их гораздо блистательнее. Что касается до тех познаний, которые зависят от памяти, то я не вижу причины, которая б препятствовала женщинам быть к оным способными; способность содержать в памяти понятия им столько ж свойственна, как и нам; и если мы внимательно о сем рассудим, то может быть выгода будет еще на их стороне»[68]. Таким образом, единственное, что служит, по мнению автора статьи, помехой и преградой, мешающей женщинам заниматься наукой, — существующие в обществе предрассудки. Почему же женщины не наслаждаются «благополучием», которое приносит, по утверждению философов, занятие науками, спрашивает автор? «Для чего в то время, когда просвещение со дня на день умножается, они осуждены оставаться во мраке?» — задает он вопрос. И сам же отвечает: «Для того, что предрассудок воспитания берет верх над самым разумом; для того, что женщины довольствуясь тем, что могут нравиться прелестями красоты, не радят о продолжительнейших прелестях разума и чувствований; для того, что большая часть мущин имеют свои выгоды в том, что препятствуют просвещению их ума, которое бы открыло им их слабости, и могло бы предохранить их от оных»[69].
Далее автор приводит различные доводы, стремясь убедить женщин в том, что занятие науками может быть им очень приятно и полезно, объясняя, почему невежество превращает всю их жизнь в «цепь огорчений и страданий». Не довольствуясь собственными доводами, он призывает на помощь древних, в том числе Плутарха и Цицерона, цитируя знаменитое высказывание последнего о пользе наук: «Науки, говорит Римской Оратор, образуют юношество, и составляют утехи зрелаго возраста; щастие украшается ими, нещастие получает от них облегчение; в своем доме, в домах чужих, в путешествиях, в уединении, всегда и везде оне составляют сладость нашей жизни», — пишет он[70]. Высказывание это к 1793 году уже хорошо известно в России и существует на русском языке, включенное М. В. Ломоносовым в его знаменитую «Оду на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» — «Науки юношей питают…»:
Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде,
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде.
И, по некоторому совпадению, М. В. Ломоносов в свое время также адресовал эти слова женщине, хотя, конечно, не столько призывая ее заняться наукой лично, сколько убеждая в необходимости высочайшего покровительства наукам и ученым. Впрочем, автор статьи 1793 года также не предлагает женщинам профессиональное занятие наукой, поскольку, по его мнению, это приносит мало радости: «…судьба упражняющихся в науках для славы видеть себя в печати, и предавать мысли свои потомству, по истине, не есть самая щастливая. Слава их почти всегда отравляется ядом ненависти. Судьба простаго и безкорыстнаго любителя подлинно предпочтительнее», — пишет он[71]. И, взывая на этот раз к авторитету Вольтера, продолжает: «Г. Волтер говорит, что один есть судия (то есть любитель. — О. В.), а другой подсудимый (то есть профессионал. — О. В.): я предлагаю женщинам судьбу перваго; она лучше б была скучной праздности. Какое удовольствие может для них быть больше сего удовольствия, когда оне умеют отличать те красоты, которых непосвященные не могут видеть, и которых приятное впечатление есть сокровище для тех, кои способны к принятию онаго! О когда б все вы могли познать сие благополучие! Сколь приятны были б тогда для вашего вкуса те творения, в которых разум изливает нежнейшие лучи свои!» — восклицает он[72].
Завершается статья пылким, можно сказать, пламенным призывом к женщинам заниматься наукой: «Прелестной и столь часто обманываемый пол, таков плод просвещения! Ежели благополучие ваше вам драгоценно, то упражняйтесь в науках; они будут составлять ваше отдохновение и вашу подпору; предохранят вас от скуки и от прельщения; соделают сердце ваше твердейшим, а разум основательнейшим; самая любовь найдет в них новыя удовольствия. Разум подкрепит ваши прелести, и когда, достигнув тех лет, в которыя время пожинает их, вы будете ежедневно видеть разрушение ваше, когда останется вам одно печальное воспоминание того, что вы были; то укрываясь в их объятия, вы можете ополчиться против самой старости. Они подадут вам силу сносить мужественно лишение красоты вашей, и доставят вам удовольствия, которые никогда не кончатся, разве с вашею жизнию. Я еще повторю, упражняйтесь в науках! Матери внушайте дочерям своим вкус к ним с самых нежных лет. А вы, которые преступили пределы, в коих вас содержали, вы, которых число к сожалению весьма ограничено, не устрашайтесь усилий невежества; будьте довольны одобрением существ мыслящих, и сохраняйте для себя способ которой некогда зделает вас младыми в глазах самых хулителей ваших»[73].
К сожалению, пока не удалось определить, кем был господин Гартиг, подлинное ли это имя или только псевдоним, скрывший… кого? Может быть, одну из тех женщин-ученых, любительниц наук, о которых писал В. О. Михневич? В любом случае статья вряд ли появилась на «пустом месте» и соответствовала общему духу благосклонности к «ученым» дамам. Эта благосклонность, несомненно, подпитывалась европейскими примерами. Так, еще в 1785 году издательство Новикова выпустило в свет очередную часть сочинения знаменитого французского писателя, аббата Антуана Франсуа Прево (1697–1763), «История о странствиях вообще по всем краям земного круга», на страницах 511–562 которой был помещен свободный перевод с французского книги упомянутой нами выше немецкой художницы, гравера, издателя и… натуралиста, энтомолога, путешественницы Марии Сибиллы Мериан «Суринамские насекомые», сделанный М. И. Веревкиным[74]. Прево счел нужным предварить эту часть своей работы коротким рассказом об оригинальном авторе текста: «…для значительной части этого раздела, — писал он, — взята небольшая выдержка из “Собрания суринамских насекомых”, изображенных с необыкновенным изяществом одной молодой немкой, которая специально в 1699 г. предприняла путешествие в эту голландскую колонию, и изданных в семидесяти двух таблицах; экземпляры его можно найти теперь только в кабинетах редкостей»[75]. С большой долей вероятности можно предположить, что это первая научная книга, посвященная естественным наукам и написанная женщиной, опубликованная в России на русском языке.
В 1790 году, за три года до опубликования статьи господина Гартига, в типографии Московского университета было предпринято издание биографического словаря, в название которого специально вынесено упоминание ученых женщин: «Словарь исторический или сокращенная библиотека, заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров и градоначальников; богов и ироев древняго язычества; пап римских, учителей церковных; философов древних и нынешних веков, историков, стихотворцов, ораторов, богословов, юриспрудентов, медиков и прочих, с показанием главнейших их сочинений; ученых женщин[76], искусных живописцов и прочих художников, и вообще всех знатных и славных особ во всех веках и из всех в свете земель, в котором содержится все любопытства достойнейшее и полезнейшее из священной и светской истории. Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских и монархов своих и отечества особ». Всего в 1790–1798 годах вышло 14 частей словаря. Даже поверхностное его чтение показывает достаточно примеров знаменитых ученых женщин, принадлежавших к разным странам и эпохам, чтобы оправдать все рассуждения господина Гартига. Среди них, например, биография знаменитой женщины-математика Гипатии: «Ипатия, дочь славного Феона, философа и математика Александрийского, обучалась у своего отца. Она превзошла его в знании математики, а особливо в геометрии, которою более всех занималась, — говорится в словарной статье. — Для усовершенствования себя в знаниях отправилась она в Афины, где столь много успела, что сделали ее профессором на место славного Фотина, профессора Александрийского. Слава об ней разнеслась повсюду, и из всех мест стекались ее слушать. Она была чрезвычайно хороша, и всяк, кто бы на нее ни смотрел, пленялся ею». История гибели Гипатии от рук христианских фанатиков описана кратко, с указанием на то, что отчасти это было недопонимание и что церковная власть ни в коем случае этого не одобряла: «Действие сие по словам историка привело в великое подозрение Св. Кирилла и всю Александрийскую церковь: потому что насилия сии ни мало не совместимы с христианством». Заканчивается статья следующим сообщением: «Ипатия написала много сочинений, кои не дошли до нас. Жизнь ее сочинил аббат Гужет»[77]. В биографии Анны Дасье (1654–1720)[78] последовательно перечислены все ее работы и сделанные ею переводы античных сочинений, ее дискуссии с современными критиками и учеными. Так же как и статья, посвященная Гипатии, статья о госпоже Дасье проникнута искренним уважением: «Будучи столь же достойна уважения за свои свойства, как и за дарования, она не менее заставила себе удивляться за свою добродетель, твердость, равнодушие, великодушие, скромность как и за свои сочинения»[79].
Помимо печатных изданий и также вслед за своими европейскими современницами женщины, интересующиеся точными и естественными науками, начинают появляться и на художественных полотнах. Современный историк, специалист в области вспомогательных исторических дисциплин Е. В. Пчелов пишет об этом: «Итак, в европейской живописи XVIII века дамы оказываются постепенно вовлеченными в научные опыты и работы, приобщаются к ним — от обычных зрительниц до участия в экспериментах и даже собственных занятий наукой. Иконография движется от аллегоричности к реальности, отражая распространение научных знаний в обществе. А как обстоят дела в русской живописи того же времени? — задает он вопрос и отвечает: — Первые изображения женщин с инструментами (имеются ввиду научные инструменты. — О. В.) или около них относятся к середине XVIII века. Эти картины носят аллегорический характер, однако представляют и некоторый интерес как отражение реальности»[80]. Е. В. Пчелов предполагает, что первой российской картиной, на которой изображены дамы, занимающиеся астрономическими наблюдениями в компании кавалеров, является десюдепорт Б. В. Суходольского «Астрономия», созданный около 1754 года и хранящийся сегодня в Государственной Третьяковской галерее. «При всей аллегоричности композиции, — пишет Пчелов, — нельзя не отметить, что изображения кавалеров и дам в современных художнику костюмах передают реалии своего времени — нет ничего удивительного в демонстрации астрономических наблюдений, в том числе и дамам, в ту эпоху. Показательно, что помимо глобуса и армиллярной сферы символами астрономии на картине выступают телескоп, наугольник и измеритель»[81]. Е. В. Пчелов описывает еще одно художественное произведение, близкое по времени к работе Б. В. Суходольского, — панно А. И. Бельского «Астрономия», созданное в 1756 году для украшения интерьера Московского университета: «В руках у женской фигуры, олицетворяющей астрономию, измеритель, а за спиной помогающего ей путти виднеется армиллярная сфера. Это, безусловно, самое раннее в русской живописи дошедшее до нас аллегорическое изображение астрономии в образе Урании», — подчеркивает автор[82]. Самым ранним по времени изображением реальной русской женщины, занятой науками, стал, по мнению Пчелова, портрет смолянки девицы Е. И. Молчановой, созданный Дмитрием Григорьевичем Левицким в 1776 году, сегодня находящийся в собрании Государственного Русского музея.
«Бесспорно самой известной картиной русской живописи XVIII века, изображающей “Ученую даму”, является “Портрет Екатерины Ивановны Молчановой” <…>. В отличие от всех остальных смолянок Левицкого, занятых искусствами, Молчанова сидит у стола со стоящим на нем вакуумным насосом, использовавшимся при обучении физике в Смольном институте. Она держит в левой руке книгу… Слева от нее расположен большой глобус. Итак, перед нами реальная женщина, символизирующая обучение наукам и научные занятия в Смольном институте, однако показательно, что в этом портрете дама остается “один на один” с научными приборами, здесь вообще нет никаких других, в том числе и мужских фигур. Наука сама по себе оказывается делом, возможным для женщины, и можно думать, что это первый пример подобного рода в живописном искусстве»[83]. Следовало ли в данном случае искусство за реальностью или пыталось эту реальность конструировать? Возможно, то и другое.
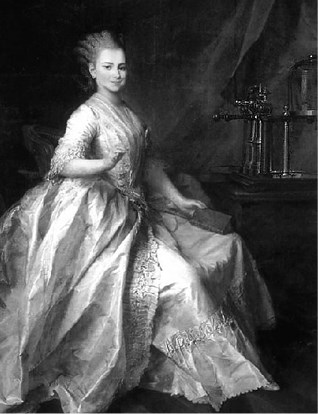
Рис. 4. Д. Г. Левицкий. Портрет Е. И. Молчановой (1758–1809). 1776 г.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
В целом выявленные факты позволяют сделать вывод о том, что последние два десятилетия XVIII века в России ознаменовались если не расцветом женской образованности и занятий науками, то по крайней мере высочайшим поощрением подобных увлечений со стороны монархии: от назначения княгини Е. Р. Дашковой в 1783 году директором Петербургской академии наук до публикации в 1785 году типографией Новикова перевода научного труда немецкой естествоиспытательницы Марии Сибиллы Мериан; от издания биографического словаря, включившего в свой словник имена ученых женщин, в 1790–1798 годах до публикации первого труда российских девушек, посвященного предметам натуральной истории, в 1792 году и публичного признания их заслуг Екатериной II. На этом фоне статья господина Гартига 1793 года смотрится вполне органично. Она свидетельствует о том, что в образованной части российского общества проблемы женского «занятия науками» обсуждались, возможно, вызывали споры, что идея о необходимости женского просвещения и «занятия науками» не только была произнесена вслух, но и получила своих защитников и противников. Она также может свидетельствовать о существовании в этот период некоторого количества «женщин-ученых», достаточного для того, чтобы вызвать общественный интерес и общественную дискуссию. Если бы их вообще не было, как иногда представляется нам сегодня, то и обсуждать было бы нечего.
9
Там же. С. 149–150.
6
Михневич В. О. Русская женщина XVIII столетия. М., 1990 (репринтное издание 1895 г.). С. 242–243.
5
Курсив автора. — О. В.
8
Лукина Т. А. Мария Сибилла Мериан. 1647–1717. Л.: Наука, 1980. С. 123.
7
Там же. С. 243.
2
Курсив наш. — О. В.
4
Курсив автора. — О. В.
3
Курсив наш. — О. В.
18
См.: Смагина Г. И. Указ. соч. С. 95.
19
Дашкова Е. Р. Указ. соч. С. 149.
14
Дашкова Е. Р. Указ. соч. С. 115.
15
Дашкова Е. Р. Указ. соч. С. 129.
16
Там же.
17
Лозинская Л. Я. Указ. соч. С. 3.
10
Подробнее об этом см.: Лозинская Л. Я. Во главе двух академий. М.: Наука, 1978. 144 с.; Смагина Г. И. Сподвижница Великой Екатерины: (очерки о жизни и деятельности директора Петербургской Академии наук княгини Екатерины Романовны Дашковой). СПб.: Росток, 2006. 359 с. и др.
11
Дашкова Е. Р. Записки. 1743–1810. Л.: Наука, 1985. С. 106.
12
Там же. С. 114.
13
Курсив наш. — О. В.
70
Там же. С. 66–67.
71
Гартиг. Рассуждение о женщинах, и о выгодах, которые получили бы они от упражнения в науках. ... С. 67–68.
69
Там же. С. 63–64.
65
Вышеславцев Михаил Михайлович (1758–1830-е) — переводчик, литератор, преподаватель французского и других языков.
66
Известие о некоторой ученой девице в Англии // Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие. 1759. Май. С. 470–475.
67
Известие о некоторой ученой девице в Англии. ... С. 470–471.
68
Гартиг. Рассуждение о женщинах, и о выгодах, которые получили бы они от упражнения в науках. (Пер. с франц. Михайло Вышеславцева) // Чтение для вкуса, разума и чувствований. 1793. Ч. 11. № 62. С. 55, 57–58.
61
Имена особ, кои по предъявленным в Тобольском Приказе Общественного Призрения подпискам получали сию книгу Ученая Библиотека, со означением из места пребывания // Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительная в пользу и удовольствие всякого звания читателей. 1794. Ч. 12. С. 8.
62
Там же. С. 9.
63
Там же. С. 8.
64
Самарин А. Ю. Указ. соч. С. 155.
80
Пчелов Е. В. Дамы у приборов: репрезентация научных наблюдений и опытов в живописи XVIII века // Архив науки и техники. VI (XV) / Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. М.; Л.: Изд-во АН СССР; М.: Наука. Вып. VI. Отв. ред. С. С. Илизаров. М.: Янус-К, 2018. С. 157–158.
81
Пчелов Е. В. Указ. соч. С. 159.
82
Там же.
76
Курсив наш. — О. В.
77
Словарь исторический или сокращенная библиотека, заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров и градоначальников; богов и ироев древняго язычества; пап римских, учителей церковных; философов древних и нынешних веков, историков, стихотворцов, ораторов, богословов, юриспрудентов, медиков и прочих, с показанием главнейших их сочинений; ученых женщин, искусных живописцов и прочих художников, и вообще всех знатных и славных особ во всех веках и из всех в свете земель, в котором содержится все любопытства достойнейшее и полезнейшее из священной и светской истории. Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских и монархов своих и отечества особ. М.: В Университетской типографии у В. Окорокова, 1790–1798. Ч. 6: [№ 72–105, 1–5. Жавень — Карл]. М., 1791. С. 165–166.
78
Дасье Анна (Anne Dacier, урожденная Лефевр, Lefèvre, 1654–1720) — французский филолог-классик и переводчик; дочь французского филолога-классика Таннеги Лефевра, супруга его ученика Андре Дасье.
79
Словарь исторический или сокращенная библиотека… Ч. 5: [№ 41–71. Дабильон — Ехинады]. М., 1791. С. 68.
72
Гартиг. Рассуждение о женщинах, и о выгодах, которые получили бы они от упражнения в науках. ... С. 68.
73
Там же. С. 70–72.
74
Мериан Мария Сибилла. Суринамские насекомые // Прево [А.-Ф.] История о странствиях вообще по всем краям земного круга. Ч. XIII. М., 1785. С. 511–562.
75
Цит. по.: Лукина Т. А. Мария Сибилла Мериан. 1647–1717. Л.: Наука, 1980. С. 127.
83
Там же. С. 160–161.
29
Княжна Катерина Михайловна Волконская: Материалы для истории русских женщин-авторов (продолжение) // Дамский журнал. 1830. Т. 29. № 13. С. 197–198.
25
См.: Материалы об организации и проведении в Академии наук публичных лекций (1784–1796) // Смагина Г. И. Указ. соч. С. 315–322.
26
Волконская А. М., Волконская Е. М. Рассуждения о разных предметах природы, наук и художеств / Пер. Ч. 1–2. СПб., 1792.
27
С большой долей вероятности можно предположить, что рубрику вел сам издатель журнала, князь Петр Иванович Шаликов (1768–1852).
28
Озерецковский Николай Яковлевич (1750–1827) — естествоиспытатель, академик Петербургской академии наук.
21
Там же. С. 179.
22
Там же. С. 197.
23
Там же. С. 157.
24
Там же.
20
Там же. С. 157, 180, 199 и др.
36
См., например: Guerre Corinna. Mariangela Ardinghelli: Poetry and electricity in 18th-century Naples // XXIII International congress of history of science and technology. Ideas and instruments in social context. Book of abstracts & list of participants. 28 July — 2 August 2009 Budapest, Hungary. Budapest: Omigraf Ltd., 2009. P. 246; Tiggelen Van Brigitte. M-me Thiroux D’Arconville and the uses of translation: anonymity, autonomy and authorship in women’s contribution to chemistry in the XVIIIth century // Ibid. P. 247; Serrano Elena. Women translating science in the Spanish Enlightenment // Ibid. P. 248 и др.
37
Курсив наш. — О. В.
38
Мордовцев Д. Л. Указ. соч. С. 179.
39
Грегори Дж. Завещание некоторого отца своим дочерям, изданное покойным г. доктором Григорьем в Единбурге и переведенное Маргаритою [Николаевною] Стр[уйскою]. СПб., 1791.
32
Видимо, имеется в виду естествоиспытатель, философ, юрист, иностранный член Петербургской академии наук Шарль Бонне (1720–1793). Несколько его работ были опубликованы по-русски, например: «Созерцание природы» (Смоленск, 1804); «Физиологические начала о первой причине и действии оной» (СПб., 1805).
33
Дамский журнал. 1830. Т. 29. № 13. С. 198.
34
Дополнения к изданным материалам для истории русских женщин-авторов // Дамский журнал. 1830. Т. 30. № 21. С. 121.
35
«Mediators of Sciences. Women Translators of Scientific Texts 1600–1850».
30
Цит. по изданию: Мордовцев Д. Л. Замечательные исторические женщины 2-ой пол. 18-го столетия: Репринт. Калининград, 1994. С. 179.
31
Там же.
47
Шумлянский Александр Михайлович (1748–1795) — акушер; получил степень доктора медицины в Страсбургском университете; преподавал в различных медицинских заведениях Москвы и С.‐Петербурга; с 1793 г. — преподаватель московской акушерской школы. Автор нескольких научных работ и переводов.
48
Чулков Н. Указ. соч. С. 216.
49
Adelheid Amalia von Golizyn (Gräfin von Schmettau).
43
Чулков Н. Голицына, княгиня Екатерина (Смарагда) Дмитриевна // Русский биографический словарь. Неопубликованные материалы: В 8 т. М.: Аспект-пресс, 1997. Т.: Гоголь — Гюне. С. 215.
44
Там же. С. 215–216.
45
См.: Дроздова З. А. Нестор Максимович Максимович-Амбодик (отец русского акушерства). Л., 1950.
46
Максимович-Амбодик Нестор Максимович (1744–1812) — акушер; получил степень доктора медицины в Страсбургском университете; преподавал повивальное искусство в различных госпиталях С.‐Петербурга; помимо прочего опубликовал книгу: Максимович-Амбодик Н. М. Искусство повивания или наука о бабичьем деле, на пять частей разделенная и многими рисунками снабденная… Для пользы повивальных российских бабок и лекарей сочинил врачебной науки доктор и повивального искусства профессор Нестор Максимович-Амбодик. СПб., 1784–1786. Ч. 1–6.
40
Курсив наш. — О. В.
41
Село Рузаевка Пензенской губернии Инсарского уезда.
42
Маргарита Николаевна Струйская // Дамский журнал. 1830. Т. 29. № 13. С. 197.
60
Там же. С. 156.
58
Самарин А. Ю. Читатель в России во второй половине XVIII века (по спискам подписчиков). М., 2000. С. 154.
59
Самарин А. Ю. Читатель в России во второй половине XVIII века (по спискам подписчиков). М., 2000. С. 154–155.
54
Golitsyna Amaliia Samuilovna. Mittheilungen aus dem Tagebuch und Briefwechsel, nebst Fragmenten und einem Anhange. 1868.
55
Подробнее о княгине Амалии Голицыной см.: Hügel Pauline freiherrin von. A Royal Son and Mother. Notre Dame, Ind.: The Ave Maria Loretto press, 1902.
56
Знание женщиной латинского языка вызывало искреннее удивление и преувеличенное восхищение почти всех авторов XIX в., которым когда-либо приходилось в печати упоминать об этом. Одновременно не вызывало ни малейшего удивления вполне обычное для конца XVIII — первой половины XIX в. (и даже для более позднего периода) владение девушкой-аристократкой как минимум двумя, а чаще тремя современными иностранными языками. Наоборот, подобное умение считалось общепринятым стандартом женского аристократического образования. Современники, кажется, не замечали этого парадокса: латынь — язык науки, доступный лишь избранным, поэтому владевшая ею женщина воспринималась как нечто необыкновенное.
57
Михневич В. О. Указ. соч. С. 260.
50
Н. Чулков пишет о нем: «Он жил преимущественно умственными интересами и всю жизнь чему-нибудь учился. Главными предметами его изучения были электричество и минералогия. Его общество составляли философы, ученые, художники. Близкий ко многим энциклопедистам, он переписывался с Вольтером, издавал произведения Гельвеция; в особенности был дружен с Дидро…» (Чулков Н. Голицын, князь Дмитрий Алексеевич // Русский биографический словарь. Неопубликованные материалы: В 8 т. М.: Аспект-пресс, 1997. Т.: Гоголь — Гюне. С. 162). Д. А. Голицын был почетным членом Петербургской, Стокгольмской, Брюссельской и Берлинской академий наук, членом Петербургской академии художеств, а также Вольно-экономического, Лондонского королевского и Эрфуртского полезных знаний обществ; председателем Йенского минералогического общества, которому и завещал свои минералогические коллекции (Там же. С. 162).
51
Пирлинг. Голицына, княгиня Амалия Самуиловна // Русский биографический словарь. Неопубликованные материалы: В 8 т. М.: Аспект-пресс, 1997. Т.: Гоголь — Гюне. С. 205.
52
Там же.
53
Пирлинг. Голицына, княгиня Амалия Самуиловна. М.: Аспект-пресс, 1997. С. 206.
Глава 2
«Ученая женщина», «философка», «женщина со вкусом»... Новые понятия в русском литературном языке начала XIX века
И что такое… ученая женщина, философка, женщина со вкусом?
Подтверждением распространения среди российских женщин интереса к наукам в конце XVIII — начале XIX века может служить появление в русском языке уже в первое десятилетие XIX века понятий «философка», «ученая женщина», употреблявшихся по отношению к некоторым дамам. Например, Ф. Ф. Вигель (1786–1856), описывая в мемуарах историю своего знакомства с некоей девицей А. А. Турчаниновой, имевшую место примерно на рубеже XVIII и XIX веков, говорит о ней: «…у нас ее знали под именем философки»[84]. В 1810 году писательница Екатерина Наумовна Пучкова (1792–1867) в одной из своих статей вкладывает следующий вопрос в уста героя, точнее, антигероя повествования: «И что такое… — спрашивает он, — ученая женщина, философка, женщина со вкусом?»[85] В последующие 1811–1815 годы употребленные в различных контекстах словосочетания «ученая женщина», «ученая дама» или просто определение «ученая», высказанное по отношению к женщине, становятся вполне привычными и часто встречаемыми на страницах отечественных журналов[86]. Естественно предположить, что эти определения пришли на страницы периодических изданий из повседневной жизни, что журналисты в данном случае отреагировали на возникновение какого-то уже заметного в обществе явления, а именно на появление женщин, открыто интересовавшихся различными науками.
Однако уже в начале 1810-х годов словосочетание «ученая женщина» перестает быть нейтральным. Так, оставшийся анонимным автор статьи «О учености прекрасного пола» в 1811 году задавался следующим вопросом: «Удивительно, почему прилагательное ученый[87] — в женском роде, щекотливо для уха мужчин…?»[88] Несколько лет, предшествовавших Отечественной войне 1812 года, были ознаменованы целым потоком статей в общественно-литературной периодической печати, обсуждавших проблемы женской учености, женского образования, отношения женщин к наукам. Тема стала настолько привычной, что, например, автор упомянутой статьи «О учености прекрасного пола» нашел возможным начать ее следующими словами: «Беспрестанно[89] спорят о том, и никто еще не решил сего спора, способны ли женщины к знаниям и наукам, и какой род учености наиболее приличен им?»[90] Стилистические жанры этих публикаций достаточно разнообразны. Они представлены как серьезными, написанными в академическом стиле работами, рецензиями и псевдорецензиями на иностранные труды по теме, так и ярко полемическими статьями, содержащими известную долю язвительности, а также краткими, можно сказать энциклопедическими, биографиями известных ученых и просвещенных женщин, принадлежавших к разным странам и временам. Содержание их гораздо менее разнообразно. В сухом остатке мнения авторов делились между двумя лагерями: противников и защитников женской учености. Причем не всегда можно с легкостью определить, сторонники какой из двух позиций сохраняли за собой преимущество в тот или иной период времени.
Конечно, существовали и разные оттенки. Так, некоторые авторы, как, например, автор статьи «О учености прекрасного пола», писавший: «Я не вхожу в решение спора между поносителями и защитниками их. Non nostrum componere lites (не наше дело столько примирять!)»[91], — формально претендовали на беспристрастность, несмотря на то что при чтении произведения усомниться в их позиции было невозможно. Другие, отзываясь отрицательно об ученых женщинах как таковых, считали нужным сделать исключение для некоторых особых разделов знания, например для русскоязычной литературы. К этим последним, по мнению Ю. М. Лотмана, принадлежал и Н. М. Карамзин, признававший развитие языка и словесности главными рычагами прогресса, а женщин — главными, если можно так сказать, двигателями этих последних: «В этих условиях особая надежда возлагалась на женщин, — писал Ю. М. Лотман. — Дамский вкус делался верховным судьей литературы…»[92] Вообще мнение о том, что именно великосветские женщины должны приучить российское общество говорить и читать, а потом и писать по-русски, достаточно широко бытовало в российской журнальной критике указанного периода. Однако оказалось вдруг, что для выполнения подобной задачи женщинам пришлось бы выйти из строго очерченного для них как законом, так и общественным мнением круга семейной жизни, и здесь-то выяснилось, что цель оправдывает средства и что женщины могут сгодиться для чего-то помимо приятного времяпрепровождения, супружества и материнства.
Характерный пример подобного отступления от строгих правил женского поведения являла, например, речь сатирика и журналиста Александра Федоровича Воейкова (1779–1839), опубликованная в 1810 году в «Вестнике Европы». Речь эта, посвященная влиянию женщин на развитие изящных искусств, по словам автора, была произнесена им в обществе, собиравшемся в доме одной дамы. Время здесь проводили в чтении и обсуждении литературных произведений, особенно переводов, сравнивая эти последние с оригиналами. Начав с заявления о том, что «…нет ничего невозможного для женщин»[93], автор перечислял знаменитые деяния россиянок, далекие от скромной роли прилежной супруги и матери: «Наши Бытописания сохранили нам знаменитые опыты женского патриотизма. Женщина ввела в Россию Христианскую веру. Женщина спасла нам Петра Великого и не допустила Россию погрузиться в прежний мрак невежества и бессилия. Женщина украсила, возвеличила, прославила Россию, дала законы Государству и права гражданам, ввела вкус и вежливость при Дворе своем, потрясла Константинополь и Стокгольм громом победоносного своего оружия, покорила Крым и Польшу. Женщина недавно занимала в Академии нашей первое место между учеными[94]. Женщинам отчасти обязана Россия освобождением от Польского ига…» — восклицает он[95]. Но для чего автор так, можно сказать, яростно воспевает успехи женщин на общественном, политическом и научном поприще? Совсем не для того, чтобы призвать государство к введению женского равноправия. Просто есть дело, с которым, по мнению А. Ф. Воейкова, могут справиться только женщины. Но для того чтобы они захотели этим делом заняться, им следует объяснить, что их жизненное предназначение несколько шире узких рамок семейной жизни, что чувства патриотизма, ревности к славе своего отечества не должны быть им чужды. Объяснить, используя исторические прецеденты, конечно. И только после этого может быть поставлена задача: «Милостивые Государыни! Вы должны учить нас языку и вкусу. В наши времена вам не нужно быть мученицами за Веру; не нужно поощрять воинов к сражению с неприятелями Отечества, или и самим сражаться; не нужно посылать рыцарей к защищению невинности от злых волшебников; в наши времена народы соревнуют друг другу в успехах просвещения; Государства хотят быть славны открытиями и пережить века в произведениях изящных художеств. Продолжайте, Милостивые Государыни! Любить Словесность; ее слава неразлучна с вашею славою, со славою Отечества»[96].
Но существуют свидетельства того, что точка зрения А. Ф. Воейкова и Н. М. Карамзина по поводу роли, которую призваны были сыграть женщины в развитии русскоязычной литературы и, более широко, русского языка, разделялась далеко не всеми. В журнале «Аглая» за тот же 1810 год была опубликована статья писательницы Екатерины Наумовны Пучковой (1792–1867), описывающая обсуждение описанной выше «речи» А. В. Воейкова, имевшее место во время одного из светских мероприятий. По ее свидетельству, три или четыре женщины, пять или шесть мужчин обсуждали лежавший на столе «Вестник Европы» и читали вслух «прекрасную речь» А. Ф. Воейкова[97]. «Все хвалили мысли и слог Сочинителя, — пишет Е. Н. Пучкова, — все желали вместе с ним размножения женщин — любительниц наук и искусств[98]. Разговор сделался живее; похвала женщинам гремела во всех устах»[99]. Но вот нашелся один мужчина, решившийся противоречить общему мнению: «И что такое… — сказал он, — ученая женщина, философка, женщина со вкусом?[100] Чем разнятся оне от обыкновенных женщин? Сии просты, скучны, сварливы, а другие притворны, хитры и мстительны: вот плоды просвещения»[101]. По словам Е. Н. Пучковой, присутствующие были возмущены подобным заявлением, но все молчали, и только одна из дам (из контекста понятно, что это — сама Е. Н. Пучкова) решилась возразить. Тактика этой защиты довольно любопытна. Прежде всего, дама (в статье автор называет ее Всемила) признается, что сама имеет «ограниченные познания в словесности» и не участвует «в хитростях женщин»: «…не будучи ни философкою, ни ученою, даже не имея славы назваться женщиною со вкусом[102], — говорит она, — смею однако ж заметить, что рассудок и просвещение равно нужны как мужчинам, так и женщинам»[103]. А далее следует аргумент, который впоследствии будет повторен в десятках, если не сотнях статей, посвященных образованию женщин: «Природа, как нежная мать, всех равно наделяет своими дарами. Мужчины лучше нас пользуются ими; виноваты ли мы в том? Их наставляют в твердости духа, в терпении; разум их стараются обогащать познаниями. А у нас отнимают все способы к приобретению сведений[104]; можно сказать, что с первою каплею молока поселяют в нас обо всем ложные понятия и притворство»[105].
Мы наблюдаем здесь создание алгоритма, которому в течение последующих лет будут следовать споры о характере женского образования. Объяснение неспособности женщин к какому-либо профессиональному труду крайне поверхностным характером женского образования, а также тем, что у женщин «отнимают все способы к приобретению сведений», станет очень популярным в 50–60-е годы XIX века. Оно вполне согласуется и с фразой, сказанной Е. Н. Пучковой в завершение и, возможно, предназначавшейся для утешения самолюбия оказавшегося на тот момент в меньшинстве противника, а возможно, отражавшей истинную точку зрения автора: «С женщинами, как с детьми, должно уметь обходиться, забавлять их; — оне, как дети, полюбят вас всем сердцем, и вы можете делать из них все, что вам угодно»[106]. Впоследствии эта мысль также будет просматриваться у многих авторов-мужчин, выступавших по вопросам женского образования в середине — второй половине XIX века.
К 20-м годам XIX века (а возможно, что и ранее) сочетание слов «ученая» и «женщина» приобретает некоторый неодобрительный оттенок. Как будто соединение этих слов означает нечто стыдное, что-то, чего следует избегать по мере сил, а уж если не удалось, то скрывать от окружающих, как неприличную болезнь. Так, например, филолог-лингвист барон Адольф-Андре Мериан (1772–1828)[107], постоянный консультант и корреспондент княгини Зинаиды Александровны Волконской (1792–1862), увлекшейся изучением славянских древностей и встретившей неодобрение общества, писал ей, предположительно в 1825 году: «Да не охладит стужа, которая Вас теперь окружает, Вашего усердия к истории и языкам! Храни Вас Господь от досадного положения ученой женщины, оставьте его дурнушкам — но на него Вам укажут при первой же возможности; [храни Вас] от этого бесцветного вздора, который тем хуже, чем более завоевывает видимого расположения, которое на деле ничего не значит. Не будьте ученой, — восклицает Мериан, — пусть ученые будут в Вашем распоряжении, поощряйте их в создании трудов для Вас и обогащайте свой вкус и редкую восприимчивость сокровищами, которыми они Вас одарят. Ничто не мешает Вам оставаться юной, прекрасной, в высшей степени любезной — и в то же время быть покровительницей новой системы, которая образовывается и распространяется, или, вероятнее, всего древнего, что поднимается из бездны… Вы будете богиней истины и простоты… — она пренебрегла Олимпом. Специально для тех, кто не желает, чтобы княгиня занималась филологией»[108]. Таким образом, даже благожелательно относящийся к образованной и увлеченной научными предметами женщине человек предостерегает ее от звания «ученой».
Биограф поэтессы и переводчицы Елизаветы Борисовны Кульман (1808–1825), известной своими феноменальными способностями к изучению языков, пошел еще дальше, чувствуя необходимость тем или иным способом оправдать хоть и выдающиеся, но не совсем подобающие способности девушки: «Ее часто видели задумчивою, иногда вдохновенною, но всегда почти скромною, любезною девицею, чуждою всяких притязаний на отличие. Особенно никто не мог предполагать в ней сочинительницы: она хранила под покровом глубочайшей тайны плоды своих поэтических восторгов: один г[осподин] Гроссгейнрих (ее преподаватель. — О. В.) слышал, как билось, как звучало сердце ее в часы священного жертвоприношения Искусству. Нет! Это была не ученая женщина: может быть, она должна была и умереть, чтобы не сделаться ею[109]. Это было просто прекрасное создание, только поставленное на высшей ступени человечества. Она писала от избытка сил душевных; она хотела, чтобы ее некогда прочли и поняли: кто же и из ангелов не хотел бы, чтобы прочли и поняли его сердце? Так! Она была ангелом на земли, и умерла в семнадцать лет, чтобы не перестать быть им», — пишет литературный критик, редактор, цензор, в будущем доктор философии и профессор, а также известный мемуарист Александр Васильевич Никитенко (1804–1877) в 1835 году[110].
Конечно, предположение, что девушка должна была умереть, дабы не сделаться в глазах своих знакомых «ученой женщиной», выглядит несколько преувеличенно и немного излишне патетически. Тем не менее подобное высказывание кажется вполне логичным, хоть и доведенным до абсурда завершением концепции, в соответствии с которой излишнее образование, а тем более интерес к наукам противоестественны в женщине.
Тем не менее в первой четверти XIX века упоминания об «ученых женщинах» начинают мелькать не только в частных письмах и публицистике, но и в художественной литературе, и в театре. Так, 28 ноября 1810 года на сцене одного из петербургских театров был сыгран небольшой отрывок из пьесы Мольера «Ученые женщины»[111]. Этот же отрывок вскоре был опубликован в «вольном переводе» в «Сочинениях» Ивана Ивановича Дмитриева (1760–1837)[112] под названием «Триссотин и Вадиус». Пьеса Мольера «Ученые женщины», впервые сыгранная в Париже в театре Пале-Рояль 11 марта 1672 года и опубликованная через год, в 1673 году[113], представляет собой злую и язвительную пародию как на «ученых» женщин, так и на ученых мужей (хоть и в меньшей степени). И. И. Дмитриев как раз перевел диалог между двумя героями-мужчинами, являвшийся сатирой скорее на ученых мужей, чем на ученых дам. Но сама постановка и последовавшая публикация могли привлечь внимание публики к пьесе, никогда ранее не шедшей в России, в то время как Мольер (как в переводах, так и в оригинале) был чрезвычайно популярен в стране в начале XIX века. Известный французский исследователь, автор монографии «Мольер в России» Ю. Патуйе писал об этом: «Театр в это время пользуется все возрастающим успехом. Пушкин бредит им со времен Царского Села, Грибоедов и его друзья пробуют свои силы в области драматургии; театралы с жаром спорят об авторах, пьесах и исполнителях»[114], — отмечая, что Мольер служил «драгоценным источником» для театральных постановок и бенефисов, поскольку в нем не было ничего «ниспровергающего основы»[115]. По данным Ю. Патуйе, между 1802 и 1850 годами «…можно перечислить внушительное количество переводов, как полных, так и в отрывках, подражаний и переделок наиболее известных пьес Мольера». Патуйе также утверждал, что «образованные люди читают его в подлиннике, знакомство с его произведениями обязательно входило в программу воспитания дворянских детей; дед Пушкина, говорят, знал его наизусть; и когда сам Пушкин в стихотворении Городок, 1814 г., говорит об “исполине Мольере”, он высказывает не только свое личное, но и общепризнанное мнение»[116].
20 августа 1818 года состоялось первое полное представление пьесы «Ученые женщины» Мольера на российской сцене, в Большом театре С.‐Петербурга. Пьеса шла в переводе Ал. Гав. Волкова и была, по сведениям историка отечественного театра Пимена Николаевича Арапова (1796–1861), «…обставлена лучшими артистами»[117]. Таким образом, со знаменитой сцены в столице России устами лучших артистов было озвучено мнение любимого и уважаемого всеми автора о том, какое именно учение прилично женщине, в частности следующий монолог на эту тему одного из главных героев — Кризаля, с которым он обращается к своей супруге:
Все книги вечные, — на кой они нам бес?
Плутарх — ну, тот хоть толст, — для брыжей славный пресс.
Давно пора вам сжечь весь этот скарб ученый,
Науку завещав профессорам Сорбонны,
И, образумившись, освободить чердак
От длинной той трубы, что всех пугает так,
От сотни разных штук (смотреть на них досада!);
В дела луны совсем мешаться вам не надо.
Заботить должен вас хотя б немного дом,
Где все давным-давно уже идет вверх дном.
Не принято у нас (тому причин немало),
Чтоб девушка росла, учась, и много знала.
В привычках честности воспитывать детей,
Прислугой управлять и кухнею своей
И с экономией сводить свои расходы, —
Такой науки ей должно хватить на годы.
И далее по тексту[118]. Конечно, эти слова вложены в уста недалекого ретрограда, но при этом ретрограда доброго и здравомыслящего. Так что автор если и не разделял его точку зрения, то вполне мог ее одобрять. Кроме того, с момента написания пьесы до петербургской постановки 1818 года прошло 146 лет и та «мода на ученость» во Франции, над которой посмеялся Мольер, имела мало отношения к российской действительности. Однако учитывала ли все эти нюансы российская публика? Или просто смеялась, с удовольствием принимая пьесу любимого автора? Или постановка оказалась не такой уж успешной и оскорбила примерно половину из числа присутствовавших зрителей, то есть женщин? Как ни странно, но это последнее вполне возможно, в особенности потому, что после 1818 года пьеса Мольера «Ученые женщины» не ставилась на сцене петербургских театров вплоть до 1890 года. В Москве, правда, в Малом театре она была поставлена вновь несколько раньше, в 1877 году[119], и, заметим, не переводилась на русский язык. Уже в 1872 году писатель, основатель и секретарь «Общества русских драматических писателей» Владимир Иванович Родиславский (1828–1885) мог смело утверждать, говоря о переводе А. Г. Волкова: «Это единственный, сколько нам известно, перевод комедии Les femmes savants на русском языке. На Московской сцене он не шел и не был напечатан. К сожалению, я не имел в руках этого перевода и ничего не могу сказать о нем»[120].
Но оказала ли постановка 1818 года влияние на убеждения молодых светских людей, завсегдатаев светских балов и салонов, молодых поэтов, писателей, публицистов, создававших своими насмешливыми высказываниями и язвительными публикациями «общественное мнение»? Очень даже может быть, что и оказала.
В феврале — октябре 1824 года А. С. Пушкин работает над третьей главой «Евгения Онегина»[121], в которую включает знаменитую XXVIII строфу:
Не дай мне бог сойтись на бале
Иль при разъезде на крыльце
С семинаристом в желтой шали
Иль с академиком в чепце!
в одночасье сделав образ «академика в чепце» смешным в глазах своих читателей, то есть всего образованного общества. Но кто были эти женщины, подвергавшиеся насмешкам молодых светских щеголей за свои «неженские» увлечения науками? Можно ли сегодня восстановить их имена? Сохранились ли какие бы то ни было следы их деятельности?
Некоторые современные филологи, в том числе доктор филологических наук Н. В. Забабурова, предполагают, что А. С. Пушкин изобразил математика княгиню Евдокию Ивановну Голицыну (1780–1850)[122]. С другой стороны, Ю. М. Лотман полагал, что в данном отрывке речь идет о поэтессе Анне Петровне Буниной (1774–1828)[123]. Не вступая в прения с профессиональными мнениями филологов (хоть и столь различными), рискнем все же предположить, что в упомянутой строфе А. С. Пушкин мог создать собирательный образ светской дамы, интересы которой простирались дальше нарядов, сплетен и балов. Будучи знакомым и с Е. И. Голицыной, и с А. П. Буниной, конечно, зная о З. А. Волконской (если к этому моменту еще не был с ней знаком лично), об увлекавшейся естественными науками А. А. Турчаниновой и, вполне может быть, о других, поэт со свойственной ему наблюдательностью и проницательностью заметил и зафиксировал явление, видимо еще новое для российского общества, но, несомненно, уже присутствовавшее в его жизни и обращавшее на себя внимание окружающих, — появление «ученой дамы». В его стихах отразилось скептически-насмешливое отношение общества к богатым, прекрасно образованным светским красавицам, пожелавшим выйти из образа дамы, чье главное предназначение — служить изысканным украшением гостиной. Это к ним можно отнести высказывание В. О. Михневича, объяснявшего полное, на его взгляд, отсутствие литературных «памятников нерукотворных», созданных российскими женщинами, следующим образом: «Это <…> следует объяснить не недостатком талантливости и умственного развития в среде образованных русских женщин минувшего столетия, а тем, что женщинам даровитым, умным и развитым, которые могли бы, при других условиях, прославить свои имена плодотворной творческой деятельностью, совершенно чужда была тогда сама идея женского профессионального труда на каком бы ни было поприще и всего более — на научно-литературном. Вследствие этого, дарования и знания либо заглушались в выдающихся, богато одаренных природой женских натурах суетной светской жизнью, либо растрачивались на дилетантские пустяки»[124]. И в этом жестком и хлестком высказывании, как нам кажется, есть приличная доля истины. Сама обстановка жизни светской дамы — безусловно модной красавицы и души литературного и светского салона, изысканной, блестящей и безупречной — придавала ей в глазах окружающих оттенок некоторой поверхности, несерьезности. Ее повседневную жизнь сковывали десятки неписаных, но при этом жестких правил поведения, пренебрежение которыми могло дорого обойтись.
И тем не менее именно среди русских аристократок (преимущественно титулованных) в первые десятилетия XIX века появляется интерес к науке, возможно поверхностный, но при этом декларируемый открыто. Они не просто приглашают в свои салоны ученых и слушают их речи, поощряя рассказчика доброжелательной улыбкой. Нет. Они не стесняются высказывать собственное мнение по предметам очень специальным. Они заходят даже так далеко, что публикуют свои собственные книги, и не романтические повести или печальные стихи, к которым общество сумело уже как-то привыкнуть, а философские и математические размышления. Привыкнув к созданному самим обществом образу «прекрасных и всевластных королев», они осмеливаются дискутировать с академиками, совершенно не желая понимать, что их власть заканчивается за дверью их гостиной. Неудивительно, что подобное поведение встречается с неодобрением, что титул «ученой дамы», еще такой новый, приобретает презрительный и пренебрежительный оттенок. Неудивительно, что ученые мужи рекомендуют своим сиятельным патронессам избегать этого прозвания. Тем не менее неодобрение светского общества не помешало российским женщинам заниматься науками, и занятия эти, как мы увидим далее, принимали самые разнообразные формы.
90
О учености прекрасного пола // Улей. 1811. № VII. Ч. II. С. 38.
91
Там же. С. 38–39.
92
Лотман Ю. М. Русская литература на французском языке // Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. 2: Статьи по истории русской литературы XVIII — первой половины XIX века. Таллинн, 1992. С. 360.
93
Воейков А. Речь // Вестник Европы. 1810. Ч. XLIX. № 4. С. 272.
87
Курсив автора. — О. В.
88
О учености прекрасного пола // Улей. 1811. № VII. Ч. II. С. 42.
89
Курсив наш. — О. В.
84
Вигель Ф. Ф. Записки. M.: Захаров, 2003. Т. 1. С. 107.
85
Пучкова К. О женщинах // Аглая. 1810. Ч. Х. Кн. 1. С. 46–47.
86
См., например: Улей. 1811. № VII. Ч. II. С. 38–43; Вестник Европы. 1811. Ч. LVII (57). № 9. С. 58–59; Кабинет Аспазии. Литературный журнал. 1815. Кн. 2. С. 76–84 и др.
98
Курсив автора. — О. В.
99
Пучкова К. О женщинах // Аглая. 1810. Ч. Х. Кн. 1. С. 44.
94
Курсив наш. — О. В.
95
Воейков А. Речь // Вестник Европы. 1810. Ч. XLIX. № 4. С. 275–276.
96
Воейков А. Речь // Вестник Европы. 1810. Ч. XLIX. № 4. С. 276.
97
Пучкова К. О женщинах // Аглая. 1810. Ч. Х. Кн. 1. С. 43–44.
119
Бояджиев Г. Н. Комментарии… С. 699.
118
Мольер Ж.-Б. Ученые женщины / Пер. М. Тумповской // Мольер Ж.-Б. Собр. соч.: В 2 т. М.: Худ. лит., 1957. Т. 2. С. 556 и др.
117
Арапов П. Указ. соч. С. 267.
116
Патуйе Юлий. Мольер в России. Берлин, 1924.
115
Там же.
114
Патуйе Юлий. Мольер в России. Берлин, 1924. С. 28.
113
Бояджиев Г. Н. Комментарии // Мольер Ж.-Б. Собр. соч.: В 2 т. М.: Худ. лит., 1957. Т. 2. С. 699.
112
Дмитриев И. И. Триссотин и Вадиус. Отрывок из Мольеровой Комедии: Les Femmes savantes // Дмитриев И. И. Сочинения Дмитриева. М.: в Универ. тип., 1810. С. 76–80.
111
Арапов П. Летопись русского театра. СПб., 1861. С. 207.
110
Никитенко А. Елисавета Кульман // Библиотека для чтения, журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод. СПб., 1835. Т. 8. С. 77.
109
Курсив наш. — О. В.
108
Цит. по: Сайкина Н. В. Московский литературный салон княгини Зинаиды Волконской. М., 2005. С. 23–24.
107
André Merian. Краткую информацию о нем см.: Пушкин по документам архива М. П. Погодина / Публикация М. Цявловского // [А. С. Пушкин: Исследования и материалы]. М., 1934. С. 690.
106
Там же. С. 53.
105
Пучкова К. О женщинах // Аглая. 1810. Ч. Х. Кн. 1. С. 51–52.
104
Курсив наш. — О. В.
103
Пучкова К. О женщинах // Аглая. 1810. Ч. Х. Кн. 1. С. 48.
102
Курсив автора статьи. — О. В.
101
Пучкова К. О женщинах // Аглая. 1810. Ч. Х. Кн. 1. С. 46–47.
100
Курсив автора. — О. В.
124
Михневич В. О. Указ. соч. С. 244.
123
Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: Пособие для учителя. Л., 1983. С. 225.
122
Забабурова Н. Ночная княгиня // RELGA — научно-культурологический журнал. 1999. № 18 [24]. URL: http://www.relga.ru.
121
См.: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: Пособие для учителя. Л., 1983. С. 225.
120
Родиславский В. И. Мольер в России // Русский вестник. 1872. № 3. С. 65.
Глава 3
«Мы все учились понемногу…», или Естественно-научное образование российской благородной барышни в первой половине XIX века
Г. Медер имел двух дочерей… Ему была обязана Елисавета уроками рисования, танцования и музыки, и уроками ботаники, минералогии, физики и математики, которые он преподавал сам.
Однако, чтобы проявлять более или менее серьезный интерес к естественным и математическим наукам, необходимо иметь соответствующее образование. В фундаментальных работах историка женского образования XIX века Е. О. Лихачевой самым подробным образом рассмотрены как существовавшие концепции женского образования, так и программы средних женских учебных заведений — пансионов, различных институтов благородных девиц. К сожалению, не из воспитанниц институтов вышли известные нам любительницы наук первой половины XIX века — это были представительницы аристократии, получавшие домашнее образование, о составе которого известно на сегодняшний день гораздо меньше. Конечно, «художественная» часть этого обязательного образования обсуждалась достаточно подробно — изучение иностранных языков, музыки и танцев, рукоделия, но вот об изучении предметов естественно-научного цикла и математических в курсах домашнего женского образования обычно не упоминается. Значит ли это, что их не изучали? Рассмотрим этот предмет несколько более подробно.
Именно публицистические статьи, публиковавшиеся в общественно-политических журналах, так же как и художественные произведения начала — первой четверти XIX века повлияли в том числе и на современные представления о характере образования, получавшегося российскими женщинами дворянского происхождения на протяжении всего XIX века (кроме, может быть, последних его десятилетий). В общественном мнении современников, перешедшем с течением времени на страницы исторических исследований, образование молодых благородных женщин соответствовало их будущей жизненной роли хозяйки дома, супруги и матери и поэтому просто не могло не быть крайне поверхностным. Больше других мы обязаны этими нашими представлениями Александру Сергеевичу Грибоедову.
В сентябре 1823 года А. С. Грибоедов впервые читал свою только что написанную комедию «Горе от ума» в литературных кругах Москвы. Летом 1824 года — в аристократических и литературных салонах Петербурга[125]. И знаменитое поныне высказывание Фамусова:
Дались нам эти языки!
Берем же побродяг, и в дом и по билетам,
Чтоб наших дочерей всему учить, всему —
И танцам! и пенью! и нежностям! и вздохам! [126]
стало всеобщим источником информации о том, чему именно учили московских барышень в первые десятилетия XIX века и, по экстраполяции, всех вообще российских женщин благородного происхождения. Отголоски этих представлений попали не только в многочисленные публицистические статьи второй половины XIX века, но даже в исторические исследования ученых века ХХ. Например, крупный историк декабризма Элеонора Александровна Павлюченко в своей замечательной монографии «Женщины в русском освободительном движении: от Марии Волконской до Веры Фигнер» пишет о занятиях ссыльных декабристов науками: «Женщины воодушевляли мужчин на творчество, и в этом их немалая заслуга перед историей. <…> конечно, к “серьезным занятиям” (историей, физикой, фортификацией и т. д.) женщины не допускались. Да они и не были к этому подготовлены»[127]. «Не допускались» и «не были подготовлены» — две совершенно разные вещи. Для Э. А. Павлюченко «не были подготовлены» представляется чем-то само собой разумеющимся, хотя несколькими страницами ранее она сама замечает по другому поводу: «Случалось, укрощало администрацию и уголовников само обаяние молодых образованных[128] женщин»[129]. Так «образованных» или «не подготовлены»?
Кажется, что некоторая неразбериха в этом вопросе присутствовала уже в самом начале XIX века. В той же знаменитой комедии «Горе от ума» Фамусов (и мы все, знающие его высказывания с детства) прекрасно осведомлен, чему именно он учил свою дочь. Но вот всего через несколько страниц, когда Чацкий начинает ругать пристрастие москвичей к учителям-иностранцам, вдруг выясняется, что у несомненно считающегося образованным мужчины и юной девушки были, оказывается, одни и те же учителя и, более того, учились-то они вместе:
Наш ментор, помните колпак его, халат,
Перст указательный, все признаки ученья
Как наши робкие тревожили умы,
Как с ранних пор привыкли верить мы,
Что нам без немцев нет спасенья! —
А Гильоме, француз, подбитый ветерком?[130] —
обращается Чацкий к Софье. А если учились они вместе, то и образование у них должно быть примерно одинаковым: Чацкий ведь не оканчивал университетов, по окончании домашнего воспитания он служил в гвардии.
Действительно, в различных воспоминаниях, оставшихся нам от первой четверти XIX века, можно встретить упоминания о том, что при доминировавшем в этот период домашнем образовании, по разным причинам, родные, двоюродные братья и сестры, а иногда и просто соседские дети обучались вместе. Так, знаменитый впоследствии ученый, академик Императорской академии наук К. М. Бэр (1792–1876) писал, что при большом количестве в семье разновозрастных детей все они по необходимости учились вместе вначале у одной гувернантки, а потом у одного учителя. В своей автобиографии он вспоминал об этом преподавателе: «Господин Штейнгрюбер так любил математику и обладал такими педагогическими дарованиями, что заинтересовал курсом математической географии даже обеих девочек, хотя моя двоюродная сестра не отличалась ни интересом к знаниям, ни способностями»[131]. Екатерина Ивановна Раевская (1817–1899), по возрасту принадлежа уже к следующему поколению, вспоминала, что обучалась вместе с братом, потому что таково было желание ее матери Софьи Гавриловны Бибиковой (1787–1856). «Брат старший, Александр, воспитывался со мною, — пишет она, — вместе мы играли, вместе учили уроки. Брат учился математике, латинскому языку, и я с ним по собственной охоте всему этому училась»[132].
Так какое же образование получали благородные российские барышни? Похоже, их современники-мужчины, повлиявшие и на нашу точку зрения по этому вопросу, сами находились в замешательстве. Причем А. С. Грибоедов не был единственным. Другой наш великий поэт и общепризнанный эксперт во всем, что касалось нравов его эпохи, А. С. Пушкин писал в «Евгении Онегине» об увлечениях юной, еще незамужней Татьяны Лариной:
Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли все;
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона и Руссо[133].
Ю. М. Лотман, комментируя эти строки, счел нужным остановиться на том, кем был английский романист Самуил Ричардсон (1689–1761), создатель знаменитого литературного героя, заслужившего титул «идеала всех мужей», Грандисона, однако не посчитал необходимым прокомментировать пассаж о Руссо, ставя тем самым этих двух деятелей литературы на одну доску. Что довольно-таки странно, поскольку вряд ли можно сопоставить, во всяком случае в образовательном плане, чтение сентиментальных романов и чтение романов Руссо, не говоря уже о других произведениях этого последнего.
Таким образом, если допустить осторожное предположение, что в первой четверти XIX века начальное и среднее домашнее образование дворянских мальчиков и девочек, по крайней мере в отдельных случаях, могло быть примерно одинаковым, то распространенный миф о «недостаточном» по сравнению с мужчинами образовании дворянских девушек был не чем иным, как именно мифом, порожденным официальной пропагандой, а также опасениями, которые, на наш взгляд, блестяще сформулировал автор «Вестника Европы» в рецензии на очередную книгу графини де Жанлис[134] в 1811 году: «Упражнение в науках и словесности есть ли необходимая принадлежность женщины? Власть ее не ограничивается ли кругом домашнего хозяйства и семейственных обязанностей? <…> Ученая женщина захочет ли заниматься мелочами домашнего хозяйства? Имея мужа, не столь как сама просвещенного[135], не вздумает ли иногда нарушить закон, предписывающий ей почтение и покорность?»[136]
Вообще мысль о том, что молодые дворянские девушки более образованны, чем их ровесники-мужчины, мелькает в публицистических статьях первого десятилетия XIX века. И, как правило, в одном и том же контексте: «Скажите мне, как можно хотеть, чтобы девица, которая провела первые годы свои посреди искусств, посреди художников, посреди похвал и ласкательств, не была горда и тщеславна? Как хотеть, чтобы она повиновалась мужу, не столь как она сама обработавшему свои способности[137], потому что юношеские годы свои провел он в армии?»[138] Следует ли понимать, что в то время, как молодой человек призван служить своему отечеству, молодая девушка имеет возможность получать образование и развивать свои способности? Конечно, публицисты здесь немного лукавят: в том возрасте, в котором дворянские юноши отправлялись служить в армию, дворянские девушки уже выходили замуж и вскоре становились матерями. Тем не менее такое ли уж поверхностное образование получали юные аристократки, особенно в области естественных и математических наук, как это принято было считать? К сожалению, наши источники по этому предмету более чем скудные, особенно в том, что касается первой четверти XIX века.
В отличие от казенных и даже частных учебных заведений при домашнем обучении, как правило, не создавалось никакой делопроизводственной документации, которая могла бы быть нам полезна. Часто сохранившиеся сведения фрагментарны и очень кратки. Прекрасный пример этому представляют сведения об образовании, полученном известной поэтессой Анной Петровной Буниной (1774–1828), известной в обществе своим интересом к наукам и эксцентричностью поведения. Принадлежа по рождению к одному из древнейших российских дворянских родов, она рано осталась сиротой, все детство жила в деревне, не получив никакого образования, кроме самого элементарного (что бы это ни означало). Однако по достижении совершеннолетия, получив доступ к завещанному отцом состоянию, она в 1802 году переехала в Петербург и потратила практически все имевшиеся у нее деньги на учителей. Как пишут современные биографы А. П. Буниной, она «…стала изучать английский, французский, немецкий языки, физику, математику[139], П. И. Соколов, известный профессор филологии[140], преподавал ей литературу, так же как и Борис Бланк[141], ее племянник и коллега-поэт»[142]. Источник этих сведений, правда, не совсем ясен. Историк-славист Константин Яковлевич Грот (1853–1934) в биографическом очерке, посвященном А. П. Буниной, отмечал, что помимо ее собственных обращенных к А. С. Шишкову стихов,
Достигши совершенных лет,
Наследственну взяла от братьев долю,
Чтоб жить в свою мне волю.
Тут музы мне простерли руки!
Душою полюбя науки,
Лечу в Петров я град,
Наместо молодцов и франтов,
Зову к себе педантов.
Но ах! науки здесь сребролюбивы,
Мой бедный кошелек стал пуст.
Я тотчас оскудела[143].
у нас нет никаких сведений об этом периоде жизни А. П. Буниной: «Подробнее об условиях и обстоятельствах детства А. П., а также ее учения мы, к сожалению, почти ничего не знаем», — пишет и К. Я. Грот[144]. Однако само стремление А. П. Буниной к образованию не подлежит сомнению. По сведениям близкого друга ее племянников Эразма Ивановича Стогова (1797–1880), историка Сибири и автора воспоминаний, это стремление учиться не покинуло ее и в последующие годы. Э. И. Стогов пишет: «Могу засвидетельствовать, что она не переставала учиться»[145]. Мы не располагаем информацией о том, сохранился ли ее юношеский интерес к физике и математике в более зрелом возрасте (если предположить, что сведения биографов точны и такой интерес вообще имел место). Тем не менее впоследствии она серьезно и профессионально занималась литературой, в том числе и теорией литературы. Так, в 1808 году А. П. Бунина перевела с французского и опубликовала работу аббата Шарля Батте (1713–1780) «Правила поэзии», добавив к ней сведения о российском стихосложении[146], бесповоротно заслужив звание «ученой».
А. П. Бунина, безусловно, была человеком выдающимся, выбивающимся из ряда. Интереснее было бы, наверно, посмотреть на женщину, исполнявшую в жизни роль супруги и матери, предписанную ей общественной моралью, не блиставшую никакими особыми талантами. Какое образование получала она?
К нашей радости, сохранились, например, некоторые учебные материалы и записи Марии Николаевны Толстой, рожденной княжны Волконской (1790–1830), прославившейся только тем, что она была матерью Л. Н. Толстого (!), позволяющие в общих чертах судить о ее обучении. В частности, сохранились две тетради, первая из которых озаглавлена: «Некоторые примечания, ведущие к познанию хлебопашества в сельце Ясной Поляне»; и вторая, несколько большая по объему: «Примечания о Математической, Физической и Политической Географии»[147]. С. Л. Толстой описывает ее содержание следующим образом: «На обложке, по видимому рукой Николая Сергеевича[148], написано: “Для княжны Волконской”. Сначала идет вступление: § 1. География есть описание земли. § 2. Земля (шар земной) есть тело почти шарообразное, считающееся между планетами и т. д. § 3. География разделяется на 3 части: 1) на математическую, 2) на физическую, 3) на политическую и т. д. Затем идет Отделение первое — “о математической географии”, “о начале разделения Астрономии в разных системах мира”. Тут же даются определения системам мира: Пифагора, Платона и Птолемея, система Египтян, система Коперника, Тихо-Багрова[149]». Затем даются объяснения по Копернику — «О звездах», «о планетах», «о земле». Следующий отдел посвящен «Политической географии». В § 1 говорится: «Государства управляются владетелями или светскими или духовными: а) между светскими примечания достойны Императоры, Короли, Князья, Курфюсты, Ерцгерцоги» и т. д., б) между духовными: Папа со своими кардиналами, Архиепископы, Епископы, Аббаты или Игумены». Затем идут характеристики «деспотического или самодержавного правления», «монархического или самодержавного», «аристократического» и «демократического или народного», в котором «законодательная власть зависит от всего народа». Кончаются записки кратким описанием Европы и России[150].
Так же сохранилась и опубликована «Дневная запись для собственной памяти», сделанная М. Н. Толстой во время ее поездки в С.‐Петербург летом 1810 года, из которой видно, что во время своего первого пребывания в столице империи молодая княжна вместо посещения светских мероприятий и модных лавок посетила Биржу, Эрмитаж, Кунсткамеру, шпалерную фабрику, Бертову фабрику, где осмотрела паровую машину, чугунный мост, дом под названием «паноптикум», в котором работало несколько тысяч мастеровых и также помещалась паровая машина и другие механизмы, стеклянную фабрику, фарфоровую фабрику, Александровскую чулочную фабрику, Петропавловскую крепость, Петергоф, где осматривала сады и фонтаны, и, наконец, Академию художеств[151].
Современные литературоведы не сомневаются, что прототипом одной из главных героинь романа Л. Н. Толстого «Война и мир», княжны Марьи Болконской, является мать писателя Мария Николаевна Толстая, урожденная Волконская, а знаменитая сцена с описанием урока княжны Марьи, который дает ей отец (часть 1, раздел XXII), написана на основании реально происходивших событий[152]. Напомним, действие происходит в 1812 году. Старый князь Николай Андреевич Болконский, который, по словам Л. Н. Толстого, считал, «что есть только две добродетели: деятельность и ум», сам занимался воспитанием дочери и, «чтобы развить в ней обе главные добродетели, давал ей уроки алгебры и геометрии[153] и распределял всю жизнь ее в беспрерывных занятиях»[154].
И похоже, что случай М. Н. Толстой был не единственным. Екатерина Ивановна Раевская (1817–1899) посчитала нужным описать необычные для ее времени и окружения (как ей казалось) образование и образ мыслей своей матери, Софьи Гавриловны Бибиковой (1787–1856), почти ровесницы М. Н. Толстой. Вторая дочь из семнадцати детей екатерининского генерала, вышедшего в отставку в 1783 году в чине генерал-майора Гаврилы Ильича Бибикова (1743–1803) и его супруги Екатерины Александровны, урожденной Чебышевой (1767–1833), Софья Гавриловна, как и все остальные дети в семье, обучалась у иностранных гувернанток, но не только у них. «Пока дедушка был жив, — пишет Е. И. Раевская, — он следил за уроками, даже некоторые уроки старшим двум дочерям давались при нем, в его кабинете. Но после него вряд ли кто о них заботился. Из всех дочерей одна матушка опередила свой век. Она мне говорила, что умный и образованный отец ее, которого она лишилась на четырнадцатом году от рождения, до тех пор постоянно держал ее при себе, и что его влиянию она обязана любовью своей к науке[155]»[156]. Трудно понять, что подразумевает здесь Е. И. Раевская под словом «наука». Правда, некоторые ее последующие высказывания позволяют отчасти расшифровать это. «С молодых лет матушка училась сама, — пишет далее Е. И. Раевская, — а впоследствии обучала меньших сестер и брата Илью… Будучи молодой девушкой, матушка читала все тогдашние исторические и философские книги, за что и выносила немало насмешек от родных. Конечно, это было уже после смерти любившего ее образованного отца»[157]. По словам мемуаристки, родственники даже прозвали ее мать «Вольтером», что звучало в их устах очень обидно. Однако молодая женщина не обращала на это внимания: «Но матушку не смущали эти насмешки и пересуды: она продолжала твердо идти своим путем», — пишет ее дочь[158]. В другом месте она добавляет: «В свободное время матушка круглый год много читала, всего более исторических, философских книг, из литературы же только выдающихся писателей. Пустых романов я у нее в руках никогда не видала. <…> Отец в шутку нам говаривал: “O! maman sait tout et encore quelque chose” (“О! мама знает все и еще кой-что в придачу”»)[159], подчеркивая в то же самое время, что любимое занятие матери было скорее редким исключением среди ее ровесниц, чем правилом: «Тогдашние же барыни аристократки не занимались рукоделием по примеру прабабушек своих, сидевших за прялками в высоких теремах. И чтением они не особенно интересовались; матушка моя была в свое время редким исключением», — замечает она[160].
Но так ли это? Анна Петровна Бунина (1774–1828), Софья Гавриловна Бибикова (1787–1856), Мария Николаевна Толстая (1790–1830)… Возможно, этот ряд можно продолжить, было бы желание.
Существуют данные, указывающие, что уже при жизни следующего поколения, то есть дочерей упомянутых нами дам и их ровесниц, преподавателями женщин-аристократок, случалось, выступали академики и университетские профессора.
Например, сохранились подробные сведения об образовании, полученном начинающей поэтессой Елизаветой Борисовной Кульман (1808–1825), к сожалению очень рано умершей. Возможно, именно поэтому люди, хорошо ее знавшие, захотели оставить подробное описание ее жизни, а поскольку жизнь эта главным образом состояла из обучения, то мы имеем в нашем распоряжении очень полный и дотошный отчет. Ее преподавателями были доктор права Карл-Фридрих фон Гроссгейнрих (1783–1860), а также специалист в области геологии и горного дела Петр Иванович Медер (1769–1826), бывший в 1818–1826 годах командиром Горного кадетского корпуса в С.‐Петербурге.
У Е. Б. Кульман рано проявился талант к языкам. По воспоминаниям К.-Ф. фон Гроссгейнриха, она исключительно по собственному желанию и с минимальной посторонней помощью изучила почти все древние и новые европейские языки, свободно говорила и писала на них, делала переводы. Уже к шести годам она говорила и читала бегло по-немецки и по-русски, чем была обязана своей матери[161]. На одиннадцатом-двенадцатом году жизни она изучала английский, французский и итальянский языки, читая сочинения классических писателей, а также занималась латынью и древнеславянским языком со знакомым священником[162]. Тогда же К.-Ф. фон Гроссгейнрих предложил ей изучать древнегреческий язык[163]. В тринадцать лет Е. Кульман «уже перевела Анакреона, в прозе на пяти языках, а белыми стихами на трех любимых ею языках: русском, немецком и итальянском; прочла уже много из Гомера, знала от начала до конца путешествие Анахарсиса Младшего, Бартелеми, и Павсаниево описание Греции…»[164]. Вскоре она начала изучать (и вполне успешно) еще три языка (одновременно): испанский, португальский и новогреческий[165]. Она не только свободно читала классические произведения на всех языках, но и писала на них, делала переводы с одного языка на другой в стихах и в прозе.
Тем не менее, несмотря на выдающийся талант к языкам, Е. Кульман изучала не только их. «Не было травки, даже самой ничтожной, которую любознательная девочка не хотела бы знать по имени, и странно бывало слышать, как она целый ряд растений называла одни немецкими, другие английскими, а иные и латинскими именами, потому что учитель ботаники[166] Елисаветы был англичанин, изъяснявшийся изрядно по-немецки, но плохо по-русски», — пишет К.-Ф. фон Гроссгейнрих[167]. Преподаватель или наставник, как называет сам себя К.-Ф. фон Гроссгейнрих, в какой-то период опасался чрезмерного воображения девушки. «Желая восстановить необходимое между воображением и рассудком равновесие, наставник полагал, что пора познакомить Елисавету с действительным подлунным миром, т. е. учить ее Истории и Географии. <…>, — рассказывает он и продолжает: — Надобно видеть радостное изумление Елисаветы при первом ее взгляде на ландкарты. Наставник купил у приятеля своего пять карт, представлявших вид земли в целом и четыре части света отдельно и подарил их своей ученице в осьмой день ее рождения»[168].
Вместе с дочерьми П. И. Медера Е. Кульман изучала предметы искусства и… естественно-исторического цикла. К.-Ф. фон Гроссгейнрих пишет: «Г. Медер имел двух дочерей, одну ровесницу с Елисаветою, другую годом моложе. Этот достойный отец, окончив свои служебные занятия, остальное время посвящал воспитанию своих дочерей. Поведение Елисаветы и уже тогда приметные великие дарования ее снискали ей в такой высокой мере благосклонность его, что он вскоре дозволил ей учиться вместе с его дочерьми всему, что им преподавали. Ему была обязана Елисавета уроками рисования, танцования и музыки, и уроками ботаники, минералогии, физики и математики, которые он преподавал сам[169]. Сверх того обе дочери его сделались ее подругами и оставались ими до самой смерти Елисаветы; она же имела удовольствие отплатить хотя отчасти своим подругам за благодеяния, которыми осыпал ее человеколюбивый отец их. Обе дочери в обращении с Елисаветою усовершенствовались в немецком языке, и выучились у нее итальянскому и английскому»[170]. К.-Ф. фон Гроссгейнрих следующим образом описывал вечера, проводимые дамами Кульман в семействе П. И. Медера: «…если господин Медер бывал дома и ничем не занят, он с своими двумя дочерьми и Елисаветою садился за стол и начинал с ними беседу, о предметах, касающихся географии, истории и физики, нередко восходил со своими юными слушательницами на высоты астрономии, или углублялся в таинства геологии[171]. Между тем эти академические заседания, как называли их дамы, составлявшие общество бабушки (господин Медер был вдов), не всегда бывали серьезные, но по временам оживлялись рассказом какого-нибудь забавного приключения с путешественником»[172]. Рассказывая об одном особенно памятном вечере, К.-Ф. фон Гроссгейнрих замечает: «В тот вечер господин Медер беседовал о минералогии, одной из любимых наук его и Елисаветы»[173].
О любви Елизаветы Кульман к минералогии упоминал и другой ее биограф — литературный критик, редактор, цензор, в будущем доктор философии и профессор Александр Васильевич Никитенко (1804–1877), основывавшийся не только на сведениях, почерпнутых из «бумаг» Е. Кульман, но и на «словесных показаниях особ, знавших ее лично»[174]: «Учась Естественной Истории, она часто посещала богатый минералогический кабинет в Горном Корпусе. Кто бы мог подумать, смотря там на эту прекрасную девицу, прилежно всматривающуюся в каждый камушек, что она делает это не для одной забавы?» — удивлялся биограф[175].
И К.-Ф. фон Гроссгейнрих, и А. В. Никитенко подчеркивали, что овдовевшая мать Е. Кульман не обладала состоянием и была бедна (по меркам «общества», надо полагать). Именно поэтому, писал К.-Ф. фон Гроссгейнрих, возник вопрос о том, что Е. Кульман должна выбрать себе профессию, дабы иметь возможность зарабатывать на жизнь. И она выбрала профессию воспитательницы. Очень любопытные слова, якобы сказанные Е. Кульман по этому поводу, приводит К.-Ф. фон Гроссгейнрих: «Я рассмотрела звание воспитательницы со всех сторон, и нашла, что могу без большого труда приобрести необходимые для того качества. Языки, история, география, естественная история, физика, математика, литература главнейших европейских народов, вот, мне кажется, главные предметы, которые требуются от учительницы, и это те самые предметы, которыми я до сих пор преимущественно занималась[176]; я также знаю музыку, рисование и рукоделия; а сколько я приметила, часто и того не требуют»[177]. Действительно ли это было мнением юной шестнадцатилетней девушки или самого почтенного доктора права, но этот перечень дает представление об образовательных требованиях, предъявлявшихся к российским дворянкам.
В данном случае мы видим еще одного отца, а также друга семьи (каким был К.-Ф. фон Гроссгейнрих для семьи Кульман), занимавшихся обучением своих девочек. Но сохранились сведения о том, что некоторые аристократические семьи нанимали в преподаватели дочерям профессиональных ученых. Например, в краткой биографии Анны Михайловны Раевской (1820–1883) читаем: «Она… получила очень тщательное домашнее образование; между прочим, ей давал уроки профессор Остроградский, который удивлялся ее замечательным способностям к математике»[178]. Речь здесь идет об известном математике Михаиле Васильевиче Остроградском (1801–1861), с 17 декабря 1828 года бывшим адъюнктом по прикладной математике Императорской академии наук, 21 декабря 1831 года ставшем ординарным академиком по прикладной математике, а с 15 июня 1855 года — по чистой математике.
Следует отметить, что некоторые публицисты 30-х годов XIX века, в противовес общепринятому стереотипу, пишут об избыточности женского образования: «Юные девицы выучивают сперва французский, немецкий, английский, итальянский языки: сии четыре языка суть главная основа здания; потом история, география, хронология, арифметика, правила поэзии, музыка вокальная и инструментальная, рисование, живопись, декламация и танцы; урок за уроком следует беспрестанно; исключая часы обеда и время прогулки, летом юныя жертвы совершенства работают с шести часов утра до самого ужина», — писал оставшийся анонимным автор в статье «О воспитании женщин в России» в 1831 году[179], замечая, правда, что подобное обучение не приносит никакой пользы, кроме вреда[180]. Так что дело было, видимо, не в наличии (или отсутствии) у мужчин свободного времени для получения образования, а в распространенном комплексе неполноценности, не позволявшем мужскому самолюбию пережить мысль о более умной, чем он, и образованной женщине. Эта мысль прямо и ясно, без малейших обиняков высказана в одном из произведений графини де Жанлис «Женщина-Автор. Сказка госпожи Жанлис», опубликованном в 1802 году в «Вестнике Европы». Выясняя вопрос о том, почему женщина не должна быть публикующимся автором, точнее, почему общество не допустит, чтобы женщина могла быть публикующимся автором, графиня, сама опубликовавшая несколько десятков произведений (если не более), устами своих героинь говорит следующее: «Разумею: ты думаешь, что женщина, делаясь Автором, переряжается и бросает перчатку мужчинам…» — спрашивает дерзкая Эмилия. «Без сомнения, — отвечает сестре благоразумная Доротея и поясняет: — Они сражаются на этой сцене, дорожат победою, и не уступят лавров своих бедному, слабому получеловеку[181]»[182].
Уже граф Сегюр, описывая свое пребывание при дворе Екатерины II в 80-е годы XVIII века, замечал: «Все, что касается до обращения и приличий, было перенято превосходно. Женщины ушли далее мужчин на пути совершенствования. В обществе можно было встретить много нарядных дам, девиц, замечательных красотою, говоривших на четырех и пяти языках, умевших играть на разных инструментах и знакомых с творениями известнейших романистов Франции, Италии и Англии. Между тем мужчины, исключая сотню придворных, каковы например: Румянцевы, Разумовские, Строгоновы, Шуваловы, Воронцовы, Куракины, Голицыны, Долгоруковы и прочие, большею частью были необщительны и молчаливы, важны и холодно вежливы и, по видимому, мало знали о том, что происходило за пределами их отечества»[183].
И еще господином Гартигом в 1793 году была высказана мысль, что единственная причина отрицательного отношения к образованию женщин и к образованным женщинам — выгода, извлекаемая мужчинами из их невежества. «Для чего в то время, когда просвещение со дня на день умножается, они осуждены оставаться во мраке?» — задает он вопрос. И сам же отвечает: «Для того, что предрассудок воспитания берет верх над самым разумом; для того, что женщины довольствуясь тем, что могут нравиться прелестями красоты, не радят о продолжительнейших прелестях разума и чувствований; для того, что большая часть мущин имеют свои выгоды в том, что препятствуют просвещению их ума, которое бы открыло им их слабости, и могло бы предохранить их от оных[184]»[185].
Этот вывод хорошо перекликается с замечанием, записанным в 1810 году в свой собственный альбом А. П. Буниной в ответ на ремарку Александра Семеновича Шишкова (1754–1841)[186] следующего содержания: «Всего похвальнее в женщине кротость, в мущине справедливость»[187]. Как замечает К. Я. Грот, опубликовавший записи из альбома А. П. Буниной, «последнее изречение Шишкова очевидно задело за живое Бунину…»[188]. Видимо, действительно так оно и было, поскольку А. П. Бунина написала: «Кротость в женщине бывает двоякая: одна есть драгоценнейший ее монист, другая бесславие. Унижая себя, теряет она главное и единственное пола своего преимущество. Мущинам не противна бывает сия двоякая женщин кротость. Пользуясь ею, покушаются они на все и делаются самовластными господами. Помещику не бывает противно иметь многих слуг. Чем их более, тем более для него и выгод; но спросим у сих слуг, не пожелают ли они сделать некотораго с помещиком своим условия»[189].
В целом же, исходя из небогатых источников, имеющихся в нашем распоряжении, можно сделать вывод, что домашнее образование девушек-аристократок первой половины XIX века во многих случаях соответствовало образованию их братьев, просто потому, что братья и сестры обучались вместе или потому что отцы считали необходимым дать достойное образование своим дочерям. Образование, которое в будущем вполне позволяло им продолжить самообразование в избранных ими отраслях знания и даже заниматься ими вполне профессионально, о чем и пойдет речь в следующей главе.
189
Там же.
188
Там же.
187
Грот К. Я. Альбом Анны Петровны Буниной // Русский архив. 1902. № 3. С. 503.
186
Шишков Александр Семенович (1754–1841) — государственный деятель, адмирал, президент Российской академии, основатель общества «Беседы любителей русского слова», оказывал покровительство А. П. Буниной.
185
Гартиг. Указ. соч. С. 63–64.
184
Курсив наш. — О. В.
183
Сегюр, граф. Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II (1785–1789). СПб., 1865. С. 32–33.
182
Жанлис де. Женщина-Автор. Сказка госпожи Жанлис // Вестник Европы. 1802. Ч. V. № 20. С. 250–251.
181
Курсив автора. — О. В.
180
Там же. С. 35.
179
Ш-а. К-а. Н-я. О воспитании женщин в России (из L’Hermiteen Russie) // Дамский журнал. 1831. Ч. XXXVI. № 42. С. 33–34.
178
[Анучин Д. Н.] Анна Михайловна Раевская // Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. 1896. Т. ХС. Вып. III. Труды антропологического отдела. Т. 18. Вып. III. С. 513.
177
Гроссгейнрих К. Указ. соч. С. 59.
176
Курсив наш. — О. В.
175
Там же. С. 49.
174
Никитенко А. Елисавета Кульман // Библиотека для чтения, журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод. СПб., 1835. Т. 8. Прим. к с. 41.
173
Там же.
172
Гроссгейнрих К. Указ. соч. С. 128.
171
Курсив наш. — О. В.
170
Гроссгейнрих К. Указ. соч. С. 43–44.
169
Курсив наш. — О. В.
168
Там же. С. 33.
167
Гроссгейнрих К. Указ. соч. С. 12.
166
Курсив наш. — О. В.
165
Там же. С. 81.
164
Там же. С. 55.
163
Там же. С. 52.
162
Там же. С. 50.
161
Гроссгейнрих К. Елисавета Кульман и ее стихотворения. СПб., 1849. С. 25.
160
Там же. Ноябрь. С. 555.
159
Там же. С. 953.
158
Раевская Е. И. Указ. соч. С. 548.
157
Там же.
156
Раевская Е. И. Воспоминания Екатерины Ивановны Раевской // Исторический вестник. Историко-литературный журнал. 1898. Ноябрь. С. 548.
155
Курсив наш. — О. В.
154
Толстой Л. Н. Война и мир. М., 1955. Т. 1. С. 113.
153
Курсив наш. — О. В.
152
См., например: Толстой С. Л. Указ. соч. С. 43; Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954. С. 44–45.
151
Волконская М. Н. Дневная запись для собственной памяти // Толстой С. Л. Мать и дед Л. Н. Толстого. М., 1928. С. 78–109.
150
Толстой С. Л. Указ. соч. С. 42–43.
149
Так в тексте. — О. В.
148
Имеется в виду Н. С. Волконский, отец М. Н. Толстой.
147
Толстой С. Л. Мать и дед Л. Н. Толстого. Очерки жизни, дневники, записки и письма по неизданным материалам. М., 1928. С. 42.
146
Баттё Ш. Правила поэзии. Сокр. пер. аббата Батё. С присовокуплением российского стопосложения. СПб., 1808.
145
Стогов Э. Очерки, рассказы и воспоминания Эразма Стогова. VI: П. Н. Семенов и А. П. Бунина // Русская старина. Ежемесячное историческое издание. 1879. Т. 24. № 1–4. С. 52.
144
Там же.
143
Грот К. Я. Поэтесса Анна Петровна Бунина (К 100-летней годовщине ее смерти 4 декабря 1829 г.) // С.-Петербургский филиал Архива Российской академии наук. Ф. 281. Оп. 1. Д. 12. Л. 128, 129, 137–186. http://www.ostrov.ca/kgrot/ap_bunina.htm.
142
Dictionary of Russian Women Writers / Edited by M. Ledkovsky, C. Rosental, M. Zirin. London, 1994. P. 108.
141
Бланк Борис Карлович (1769–1826) — поэт. В 1930 г. К. Я. Грот писал о нем, делая доклад в Обществе древней письменности: «Борис Карлович был небезызвестным, очень плодовитым, “неистощимым”, как его прозывали, но довольно бесталанным стихотворцем уже вырождавшейся сентиментальной школы: он был всего на 5 лет старше А. П. [Буниной], но, конечно, мог быть ее руководителем в литературных сферах» (Грот К. Я. Поэтесса Анна Петровна Бунина (К 100-летней годовщине ее смерти 4 декабря 1829 г.) // С.-Петербургский филиал Архива РАН. Ф. 281. Оп. 1. Д. 12. Л. 128, 129, 137–186. http://www.ostrov.ca/kgrot/ap_bunina.htm).
140
Петр Иванович Соколов (1764–1835) — писатель и журналист; с 1793 г. — член Российской академии, с 1802 г. — ее непременный секретарь; с 1819 г. — библиотекарь Петербургской академии наук. А. П. Бунина не была единственной ученицей П. И. Соколова. Например, он преподавал русский язык и литературу будущему поэту и декабристу князю А. И. Одоевскому (1802–1839). Вот что пишет биограф этого последнего, И. А. Кубасов: «П. И. Соколов, — человек, если и не отличавшийся даровитостью, то обладавший солидными знаниями и языка, и литературы, в своем роде человек универсальный и начитанный; без сомнения, он мог научить Одоевского языку и вообще дать немало разносторонних познаний; Одоевский писал безукоризненно грамотно и излагал свои мысли на русском языке не хуже, чем на французском, которым владел блестяще» (Кубасов И. А. А. И. Одоевский (Биографический очерк) // Одоевский А. И. Стихотворения и письма. Воспоминания об А. И. Одоевском. М., 2003. С. 12).
139
Курсив наш. — О. В.
138
Л..а. Д…а. О воспитании женщин // Вестник Европы. 1811. Ч. LVII (57). № 10. С. 149.
137
Курсив наш. — О. В.
136
Краткая история славнейших Французских женщин // Вестник Европы. 1811. Ч. LIX (59). № 17 (сентябрь). С. 47.
135
Курсив наш. — О. В.
134
Genlis de. De l’influence des femmes fur la literature Françaife comme protectrices des lettres et comme auteurs, ou Précis de l’hiftoire des femmes Françaifes les plus celebres. Par M-me de Genlis. Un Vol. A. Paris, 1811.
133
Пушкин А. С. Евгений Онегин. Роман в стихах // Пушкин А. С. Стихотворения: В 3 т. Л.: Сов. писатель, 1954. Т. 3. С. 55. Строфа XXIX.
132
Раевская Е. И. Воспоминания Екатерины Ивановны Раевской // Исторический вестник: Историко-литературный журнал. 1898. Декабрь. С. 945.
131
Бэр К. М. Автобиография. Б.м.: Изд. АН СССР, 1950. С. 57.
130
Грибоедов А. С. Указ. соч. С. 26. Стб. 100–105.
129
Павлюченко Э. А. Указ. соч. С. 29.
128
Курсив наш. — О. В.
127
Павлюченко Э. А. Женщины в русском освободительном движении: от Марии Волконской до Веры Фигнер. М.: Мысль, 1988. С. 31.
126
Грибоедов А. С. Горе от ума. М.: Наука. С. 15. Стб. 130–135.
125
Пиксанов Н. К. Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» // Грибоедов А. С. Горе от ума. М.: Наука, 1969. Литературные памятники. С. 255.
Глава 4
Кабинеты натуральной истории и естественно-научные коллекции российских женщин в первой половине XIX века
В бабушкином кабинете было на что поглядеть и о чем призадуматься!.. Стены, пол, потолок, все было покрыто диковинками. Днем эти диковинки меня очень занимали, но в сумерки я бы ни за что не вошла одна в бабушкин кабинет!
Наверно, самым распространенным видом научной деятельности любителей естественных наук еще с XVIII века было составление естественно-научных коллекций и создание личных кабинетов натуральной истории. Просвещенные дамы не стали исключением из этого правила. И как бы ни относилось светское общество к ученым дамам, ученые и учебные учреждения Российской империи охотно пользовались плодами научной деятельности женщин, причем не только российских. Так, в своей знаменитой «Истории императорского Московского университета» профессор С. П. Шевырев рассказывает о пожалованном 12 февраля 1802 года императором Александром I Московскому университету «Натуральном кабинете, купленном после бывшаго воеводы Брацлавского, князя Яблоновского у его наследников за 50 000 голландских червонцев»[190]. С. П. Шевырев основывал свое заключение на небольшой заметке, опубликованной в газете «Московские Ведомости» 1 марта 1802 года[191]. Однако журналист допустил небольшую неточность в этом сообщении, и вслед за ним ошибся С. П. Шевырев. Кабинет принадлежал не князю, а княгине — Анне Паулине Сапеге Яблоновской (1728–1800)[192], владелице местечка Семятичи, и был куплен после ее смерти у ее наследников (в том числе графа Станислава Солтыка)[193]. В 1802 году химик и минералог, академик Петербургской академии наук Василий Михайлович Севергин (1765–1826) по поручению правительства совершил путешествие из Петербурга в Семятичи[194], занявшее почти полгода (с 15 февраля по 1 июня), как он писал, «…для осмотра, приема и препровождения в Императорской московской университет, бывшаго там Натурального кабинета покойной княгини Анны Яблоновской»[195]. Во время поездки В. М. Севергин вел что-то вроде путевого дневника, в котором подробно описал как встреченные достопримечательности, так и сам Натуральный кабинет княгини. Эти записки были опубликованы уже в 1803 году под названием: «Записки путешествия по западным провинциям Российского Государства или Минералогические, хозяйственные и другие примечания, учиненные во время проезда чрез оныя в 1802 году академиком, коллежским советником и ордена Анны второго класса кавалером Васильем Севергиным»[196]. В. М. Севергин счел необходимым дать общее описание Кабинета княгини Яблоновской: «Сей кабинет расположен был в замке Семятиченском в четырех больших залах. Покойная княгиня Анна Яблоновская, супруга бывшего Брацлавского воеводы, урожденная княгиня Сапега, обращала кажется внимание свое на все предметы упражнений разума человеческого. От сего происходит, что в сем кабинете находятся не только вещи до естественной истории принадлежащие; но также многие физические орудия, модели махин, медали и монеты древние и новейшие вазы, идолы и разные искусственные произведения, янтарные, костяные и другие как просвещенных, так и некоторых диких народов», — писал он[197]. Из этой фразы можно не только получить некоторое представление о размерах и составе коллекций — не вызывает сомнений, что В. М. Севергин абсолютно уверен: этот самый состав зависел исключительно от круга интересов и увлечений княгини Яблоновской, то есть именно княгиня, а не ее покойный супруг (например) была инициатором создания Кабинета. Некоторым подтверждением мнения В. М. Севергина может служить фраза из биографии известного итальянского доктора философии и медицины Степана de Bisiis Trexonariensis (Бизи), опубликованная в словаре Брокгауза и Ефрона: «Познакомившись с княгиней Яблоновской, он отправился с ней в Польшу в качестве ее домашнего врача и жил три года в Семятычах, где был уже раньше основан музей естествознания, богатая библиотека и школа повивальных бабок»[198]. По времени это событие относится к 1763–1768 годам. Как отмечает современный литовский исследователь А. Андрюшис: «Примечательно, что один из первых профессоров медицины Вильнюсского университета итальянец С. Л. Бизио (1724?–1790?) в 1763–1768 годах преподавал в акушерской школе поместья в Семятичах (Белоруссия), будучи придворным врачом у княгини А. Яблоновской»[199]. О репутации, которой Кабинет Яблоновской пользовался в ученом мире, можно судить из объявления о публичных лекциях профессора Федора Герасимовича Политковского (1753–1809), опубликованного в третьем номере журнала «Периодическое сочинение о успехах народного просвещения» за 1803 год. В нем между прочим говорилось следующее: «Для сих лекций открыт будет почтенной публике Семятический Натуральный кабинет, известный во всей Европе[200] и принадлежавший княгине Яблоновской»[201].
Несмотря на заявление о том, что подробное описание Кабинета Яблоновской должны будут дать его новые владельцы, то есть сотрудники Московского университета[202], В. М. Севергин все-таки сделал некоторое описание коллекций в своих «Записках», по стечению обстоятельств оказавшееся единственным. Описание это состоит из двух частей: 1) общей характеристики предметов и 2) подробной характеристики собрания польских минералов, особенно привлекших внимание ученого своей полнотой, а также имевших отношение к его научным занятиям[203]. Общее описание Кабинета состоит из описания экспонатов по царствам природы и, далее, по месту их происхождения. О коллекции предметов животного царства В. М. Севергин пишет следующее: «Между телами животного царства отличались изящностью и редкостью своею как многие четвероногие; так и птицы, рыбы, Амфибии, насекомые, черви и животнорастения. А особливо птицы, а между Амфибиями змеи, между черепокожными же раковины, составляли собрания и многочисленные и изящные, так как и кораллы. К сему принадлежат также редкие анатомические препараты из воску сделанные, служащие для показания различных частей принадлежащих к орудиям чувств человеческих. Сие собрание в своем роде почти совершенное»[204]. Он отмечает: «Собрание к прозябаемому царству принадлежащее состояло из брусочков разных дерев, также камедей, смол и бальсамов, некоторых семен и других плодов, большею частию Европейских»[205]. О коллекции ископаемых замечает, что она содержала экспонаты из различных европейских стран, в том числе из Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Испании, Португалии и Англии. Отмечая при этом небольшое количество минералов из России и других северных стран[206], Севергин также дал описание наиболее интересных образцов минералов и назвал местности, из которых было получено наибольшее их количество: Гарц, Саксония, Кобург, Карслбад, Идрия, Гессен, Пруссия, Франция, Италия, Испания, Португалия и др., подробно описав, какие образцы из какой именно страны получены[207]. Таким образом, В. М. Севергин оценил коллекции княгини А. Яблоновской достаточно высоко.
Разумеется, представители Московского университета приняли подобный дар с большой благодарностью. Как писал автор заметки в «Московских ведомостях», «с чувствованиями живейшей благодарности и глубочайшего благоговения, преклоняя колена пред Престолом Великого Монарха и лобызая Отеческую щедрую Его десницу, Начальство Московского Университета священнейшею обязанностию своею поставляет сей столь драгоценный и во всей просвещенной Европе редкий дар, стараться всеми силами учинить общеполезнейшим для всех любезных соотечественников и наипаче для обучающегося юношества»[208]. Конечно, Московский университет не мог не выразить благодарность должным образом, однако и современные специалисты оценивают научное значение Кабинета княгини А. Яблоновской достаточно высоко. По мнению, например, историка геологии З. А. Бессудновой, основанному на изучении записок В. М. Севергина, «…в этом Кабинете были собраны практически все минеральные виды, известные в Европе при жизни княгини Яблоновской»[209].
Однако Натуральный кабинет княгини Яблоновской не был единственным вкладом женщины в создание коллекций и музеев Московского университета. В 1807 году другая княгиня, на этот раз российская, Екатерина Романовна Дашкова подарила Московскому университету свои собственные естественно-научные коллекции. 15 мая 1807 года «Московские ведомости» опубликовали следующую заметку: «Ее сиятельство, княгиня Екатерина Романовна Дашкова, урожденная графиня Воронцова, императорского всероссийского двора статс-дама, ордена Св. Екатерины большого креста кавалер, прежде бывший директором Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, и член академий и славнейших в Европе ученых обществ, достойно заслужившая всеобщее уважение отличным соревнованием в распространении успехов просвещения, патриотизмом и своими сочинениями, благоволила принести в дар Императорскому Московскому университету свой кабинет редкостей натуральной истории. Сие драгоценное собрание, — к составлению которого ее сиятельством употреблено более тридцати лет, и к приращению которого содействовали царствовавшие высочайшие особы: Иосиф II, император Римский, курфюрст Саксонский, король Шведский, великий герцог Тосканский, и многие другие, — содержит в себе:
| Животных, натуральных и окаменелых, числом |
4806 |
| Растений и сухих плодов и пр. |
765 |
| Камней и руд |
7934 |
| Антиков отпечатков |
1616 |
| Вообще всего: |
15121 |
Сей дар, посвященный ее сиятельством распространению наук и на пользу московской публики, стоящий более 50 000 рублей, помещен будет в залах, прикосновенных к музею Московского университета, расположенному во всевозможно удобнейшем для обозрения порядке, и таким образом, что как высочайше пожалованные, так и прочие подаренные редкости и драгоценности поставлены в особенных залах, кои для незабвенной памяти и благодарности означены именами, и украшены бюстами или портретами благотворителей и приносителей значительных даров сему училищу. Таковы залы суть: его императорского величества, благополучно царствующего всемилостивейшего государя; его превосходительства Павла Григорьевича Демидова; его сиятельства князя Александра Александровича Урусова; его сиятельства графа Александра Сергеевича Строгонова.
Сообразно сему расположению и благонамеренной цели, Императорский московский университет обязанностью своею почитает, расположа и сей новый дар новыя Благотворительницы своей в особых залах, и отлича оныя именем ея сиятельства, украсить портретом ея, дабы оный навсегда был памятником признательнейшей благодарности, каковую обязаны будут все обучающиеся питать к особе ея в своих сердцах»[210].
Чуть больше чем через месяц, 26 июня 1807 года, Е. Р. Дашкова дополнила свой дар еще несколькими предметами: «Ныне благоволила она показать новый опыт благорасположения своего приношением для умножения и обогащения музея разных 332 предмета, — писали «Московские ведомости» 26 июня 1807 года. — Они составляют большую часть драгоценных камней, физические инструменты, антики, оригинальные рисунки, представляющие насекомых, трудов девицы Дрезд, сочинения исторические и принадлежащие к истории натуральной, знатное число книг для библиотеки, между коими особливое заслуживает внимание Новый Завет, напечатанный по воле Императора Петра I на славянском и голландском языках»[211].
Некоторые из подаренных Е. Р. Дашковой предметов оказались редкими и очень ценными с научной точки зрения, на основании их изучения были сделаны научные открытия, в частности профессором Московского университета Фишером фон Вальдгеймом (1771–1853)[212]. В примечании к статье о Ф. Г. Политковском, написанной для «Биографического словаря профессоров и преподавателей Императорского Московского университета», первый профессор геологии и минералогии Московского университета, один из выдающихся отечественных геологов Григорий Ефимович Щуровский (1803–1884) упоминает об использовании Ф. Г. Политковским собрания княгини Яблоновской во время проведения публичных лекций и добавляет: «Вскоре потом княгиня Екатерина Романовна Дашкова пожертвовала в пользу Московского университета богатейшее в тогдашнем ученом свете собрание минералов. Таким образом составился при университете весьма богатый музеум натуральной истории, и самое лучшее, полнейшее собрание минералов, которому тогда во всей Европе не было подобного»[213].
С. П. Шевырев привел подробные данные о коллекциях, подаренных университету Е. Р. Дашковой, в своей знаменитой «Истории Московского университета», заимствовав их, по-видимому, из заметок в «Московских ведомостях»[214] (сам он не указывает источник своих сведений). Более подробного описания естественно-научных коллекций Е. Р. Дашковой, по сведениям современных исследователей, не сохранилось[215].
Таким образом, большой частью своих естественно-научных допожарных коллекций Московский университет был обязан научным интересам, личному труду, а также значительным материальным тратам двух женщин. И это «женское» происхождение никоим образом не смущало московских ученых и не мешало им использовать указанные собрания. Во всяком случае, никаких указаний на нечто подобное нами найдено не было. Хотя, конечно, журналист «Московских ведомостей», сообщивший о покупке Кабинета князя Яблоновского, мог сделать это совсем не случайно, а намеренно, дабы не умалять столь важного события упоминанием женского имени или чтобы не признавать значительных заслуг женщины в таком неженском деле. Но это только догадки.
Надо заметить, что в указанный период, то есть в начале XIX века, знатные женщины выступают не только как дарительницы своих кабинетов натуральной истории, но и как меценаты по отношению к научным учреждениям. Например, № 1 журнала «Периодическое сочинение о успехах народного просвещения» за 1803 год сообщает, что 12 декабря 1802 года «вдовствующая действительная тайная советница графиня Л’Есток, урожденная баронесса фон Менгден» прислала письмо в Дерптский университет, в котором сообщала, что назначает 15 000 рублей серебром в пользу учащихся этого университета. После ее смерти проценты с этого капитала должны быть использованы для трех стипендий по 200 рублей серебром в год для неимущих студентов из местного дворянства. Когда же благодаря процентам капитал возрастет до 16 000, следует назначать четыре стипендии[216]. По-видимому, в данной заметке имеется в виду графиня Мария Аврора Лесток, дочь барона Магнута-Густава фон Менгдена, с 14 февраля 1742 года бывшая фрейлиной императрицы Елизаветы Петровны и 11 ноября 1747 года вышедшая замуж за лейб-медика, действительного тайного советника Иоганна Германа Лестока (1692–1767)[217], а в 1748 году разделившая с ним заключение в крепости и последовавшую многолетнюю ссылку. Подобное пожертвование свидетельствует о заинтересованности в судьбе университета, в распространении образования, в том числе среди тех, у кого недостаточно средств, чтобы оплатить его самим, то есть как минимум о понимании важности подобных занятий. Кроме того, по некоторым данным, графиня Лесток помимо денег пожертвовала университету свою библиотеку, которая могла быть на самом деле частью знаменитой медицинской и научной библиотеки ее супруга: «… известно, что в 1800 г. вдова бывшего лейб-медика передала в дар Дерптскому университету часть своей библиотеки — 378 томов, среди которых также могли оказаться отдельные книги из собрания И. Г. Лестока», — пишет П. И. Хотеев со ссылкой на известное издание: Vigel E. Tartu Riikliku Ülikooli teadusliku raamatukogu asutamine ja areng aastail 1802–1839. Tartu, 1962. Lk. 15 (Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. V. 115)[218]. Об этом также сообщает заведующая отделом научной литературы Научной библиотеки Тартуского университета О. Эйнасто в статье, посвященной 200-летию Тартуского университета: «Большая часть книг попала в библиотеку благодаря прекрасному обычаю XIX в. дарить книги. Первый дар библиотеке преподнесла графиня Мария Лесток, супруга лейб-медика императрицы Елизаветы Петровны»[219].
Конечно, и княгиня Яблоновская (не являвшаяся российской подданной), и княгиня Дашкова (европейски образованная и проведшая большую часть своей жизни в Европе), и графиня Лесток, принадлежавшая к влиятельному прибалтийскому дворянскому роду, были представительницами XVIII века, века Просвещения. Возможно ли, что XIX век внес свои коррективы и со сменой политического курса исчезли и женщины, чьи интересы выходили за узкие рамки, предписанные им общественной моралью? На первый взгляд кажется, что это так, но факты опровергают подобную точку зрения.
Первая половина XIX века представляет нашему вниманию нескольких женщин, широко известных своими кабинетами натуральной истории и интересом к естествознанию. На основании выявленных фактов можно также обоснованно предположить, что в этот период увлечение коллекционированием, прежде всего созданием ботанических коллекций, было распространено среди не только аристократок, но и более скромных представительниц провинциального дворянства.
Знаменитый отечественный мемуарист Ф. Ф. Вигель (1786–1856), рассказывая в воспоминаниях о своем детстве и полученном образовании, писал об одной даме, имевшей на него, тогда подростка, большое влияние: «Разговоры ее были для меня чрезвычайно привлекательны: она охотно рассказывала мне про связи свои с почтенными учеными мужами, профессорами Московского университета, хвалилась любовью и покровительством старого Хераскова, дружбою Ермила Кострова и писательницы княжны Урусовой. Первое знакомство с русскими музами сделал я в запыленном, засаленном кабинетце[220] моей любезной Турчаниновой»[221]. К сожалению, более подробного описания «кабинетца» Ф. Ф. Вигель не оставил, но из нескольких слов, брошенных им об этой даме, ясно видно, что она безусловно была любительницей наук: «Не имея еще двадцати лет от роду, она избегала общества, одевалась неряхою, занималась преимущественно математическими[222] науками, знала латинский и греческий языки, сбиралась учиться по-еврейски и даже пописывала стихи, хотя весьма неудачно; у нас ее знали под именем философки», — пишет он[223]. По словам Ф. Ф. Вигеля, эта дама была близко знакома с монахами киевского Братского монастыря, бывшего в то время центром «киевской учености».
Ф. Ф. Вигель говорит здесь об Анне Александровне Турчаниновой (1774–1848), личности весьма известной в нашей литературе, правда благодаря не столько ее познаниям в естественных науках, сколько более позднему увлечению так называемым магнетизмом. Дочь богатых помещиков Киевской губернии[224], она, по-видимому, занималась самообразованием, писала и публиковала стихи[225], а также перевела и опубликовала по крайней мере две книги философского содержания: «Натуральная этика или законы нравственности, от созерцания природы непосредственно проистекающие»[226] и «Lettres philosophiques de Mr. Fontaine et de m-lle Tourtchaninoff» («Философские письма месье Фонтэйна и мадемуазель Турчаниновой»)[227]. В 20-е годы XIX века она приобрела широкую известность в петербургских великосветских кругах как магнетизерша, излечивавшая взглядом. Исследователи творчества А. С. Пушкина пишут о его интересе к явлению магнетизма и к Турчаниновой как человеку, обладавшему способностями к этому виду деятельности. Основываясь на сообщениях мемуаристов, в частности М. А. Салтыкова, они предполагают личное знакомство А. А. Турчаниновой и А. С. Пушкина.
Гораздо большую известность, причем именно в ученом мире, хотя и не только в нем, приобрел кабинет натуральной истории другой дамы, а именно Елены Павловны Фадеевой (1788–1860), урожденной княжны Долгорукой (по старшей линии этого известного в России рода). Ее внук, воспитывавшийся у нее в доме и научившийся читать и писать, сидя у нее на коленях, будущий председатель Совета министров Российской империи Сергей Юльевич Витте (1849–1915) писал в воспоминаниях о своей бабушке: «Елена Павловна была совершенно из ряда вон выходящая женщина по тому времени в смысле своего образования; она очень любила природу и весьма усердно занималась ботаникой. Будучи на Кавказе, она составила громадную коллекцию кавказской флоры с описанием всех растений и научным их определением. Вся эта коллекция и весь труд Елены Павловны были подарены наследниками ее в Новороссийский университет»[228].
В 1860 году, после смерти Е. П. Фадеевой, в газете «Кавказ» (г. Тифлис) был опубликован посвященный ей подробный биографический очерк, изданный вскоре отдельной брошюрой[229]. Установить автора этого очерка пока что, к сожалению, не удалось. По словам дочери Елены Павловны, Надежды Андреевны Фадеевой (1829–1919), он был написан «человеком, близко знавшим ее»[230]. Но наше предположение о том, что этим человеком был кто-то из детей или внуков Е. П. Фадеевой, возможно супруг, не подтверждается. В личном фонде писательницы Веры Петровны Желиховской (1835–1896), внучки Е. П. Фадеевой, сохранился экземпляр биографической брошюры с некоторыми рукописными исправлениями, сделанными В. П. Желиховской. Исправления касаются даты рождения Е. П. Фадеевой, сведений о ее предках и других семейных обстоятельствах, о которых члены семьи, конечно, не могли не знать[231]. Тем не менее автор биографического очерка был прекрасно осведомлен о характере исследовательской работы Елены Павловны и о ее научных интересах. Вот что он (или она) пишет: «…ботаника сделалась любимою наукою всей ее жизни; памятниками этой любви служат оставшиеся после покойной 50 томов собственноручных рисунков растений, которые она сама же и определяла, при помощи библиотеки, составленной из всех занимательных сочинений по этой части. Кроме того, она успела составить богатую орнитологическую коллекцию, часть которой еще при жизни подарила Кавказскому обществу сельского хозяйства. — Минералогическая и палеонтологическая коллекции, а также собрание древних монет и медалей, весьма замечательные во многих отношениях, составляют теперь собственность детей покойной»[232].
Можно сказать, что за свою долгую жизнь Елена Павловна сыграла несколько ролей, каждая из которых раскрывала ее характер с новой, иногда неожиданной даже для близких друзей и знакомых стороны. Так, со времени своего замужества, большую часть жизни, она была супругой крупного чиновника, «первой дамой» тех мест, где им приходилось жить, что подразумевало некоторые обязанности, например занятие благотворительностью. Она, конечно, являлась матерью и воспитательницей своих детей, а впоследствии и внуков, хозяйкой дома, управляющей семейными имениями, когда семья владела ими, поскольку супруг был занят службой. Все это роли обычные и привычные для женщины ее круга. Однако одновременно она была ученой: великолепно образованной, обладавшей обширными познаниями, страстной любительницей естественных наук, прежде всего ботаники. И в этом качестве ее знали и уважали представители научного мира, в то время как остальной мир даже не подозревал о ее необычных увлечениях. В. П. Желиховская заметила об этой «двойной» жизни своей бабушки: «Е. П. Фадеева при всех своих глубоких знаниях и ученых занятиях, была так непритязательна в обращении; так искренна и обходительна со всеми, что многие простые смертные, знавшие ее по годам за ласковую, веселую собеседницу, — иные за прекрасную хозяйку, другие — за хорошую рукодельницу, — все за добрую помощницу, всегда готовую услужить и советом, и делом, часто и не подозревали ее глубоких знаний и ученой деятельности. И наоборот: не раз люди науки, хорошо знакомые с ее кабинетом и разнообразными коллекциями, открывали в изумлении рты, когда нянька вызывала ее покормить ребенка или являлась ключница за наставлениями… Потому-то и сказала я, что мало кто знал ее вполне»[233]. Было ли подобное поведение вызвано истинной скромностью или нежеланием бросить тень на доброе имя мужа, но Е. П. Фадеева действительно никогда не афишировала своих научных занятий перед непосвященными. Охотно принимая в своем доме профессиональных ученых и путешественников, поддерживая многолетнюю переписку со многими из них, пользуясь репутацией серьезного исследователя, она никогда не публиковала никаких научных работ, никогда не выступала публично, действительно стараясь не привлекать внимания к своим научным занятиям, отнимавшим большую часть ее времени и сил. Однако надо отметить, что не только муж Е. П. Фадеевой, А. М. Фадеев, не был против ее научных занятий, но и его близкие друзья и коллеги по работе также знали о занятиях Е. П. Фадеевой. Например, Иаков, епископ Саратовский и Нижегородский (Иосиф Иванович Вечерков)[234], писал А. М. Фадееву 8 декабря 1846 года: «Божие благословение Елене Павловне. Просите ее продолжать в Тифлисе полезные для науки рисунки по делам флоры. Это занятие сделает в лице ее честь русским дамам»[235].
Возможно, что история не сохранила бы никаких следов этой ее деятельности, но усилия ее детей и, даже в большей степени, воспитанных ею внуков воспрепятствовали этому.
Княжна Елена Павловна Долгорукая родилась 11 ноября 1788 года в одной из самых известных российских семей. Ее отцом был князь Павел Васильевич Долгорукий (1755–1837), екатерининский генерал, вышедший в отставку в начале царствования Павла I, в 1796 году, в чине генерал-майора; матерью — княгиня Генриетта Адольфовна Долгорукая (?–1812), урожденная де Бандре. Так получилось, что с самого своего рождения Елена Павловна жила и воспитывалась в доме родителей своей матери, дедушки и бабушки де Бандре, находившемся в городке Ржищеве, неподалеку от Киева. И именно там в 1812 году она познакомилась с Андреем Михайловичем Фадеевым (1789–1867), одним из младших сыновей дворянского рода Фадеевых, мужчины которого традиционно служили в российской армии еще со времен Петра I, хотя и не выслужили особых чинов и наград, и в 1813 году вышла за него замуж. Брак этот был воспринят окружающими как мезальянс. Однако дети и внуки Фадеевых яростно протестовали против подобной трактовки событий, заявляя, что единственной причиной брака была взаимная любовь[236]. Прекрасные связи молодой жены, точнее, ее родственников позволили А. М. Фадееву начать гражданскую карьеру (традиционная для его семьи военная служба его не прельщала), которая, как показало будущее, сложилась вполне удачно[237].
Известно, что ко времени знакомства с будущим супругом научные интересы княжны Долгорукой уже были вполне сформированы. По сведениям автора некролога Е. П. Фадеевой, опубликованного в газете «Кавказ» 15 сентября 1860 года, большое влияние на юную княжну оказала некая соседка, помещица графиня Дзялынская, близкая знакомая бабушки Елены Павловны: «Елена Павловна с самого начала полюбила естественные науки и из них в особенности ботанику. Независимо от врожденной охоты к положительному знанию, эту страсть возбудила в ней соседка по имению ее бабушки, графиня Дзялынская. С тех пор ботаника сделалась любимою наукою всей ее жизни…» — пишет автор некролога[238]. В мемуарах графини Анны Потоцкой упоминается имя графини Дзялынской, урожденной княжны Чарторыйской. А. Потоцкая писала, что ее отец, князь Чарторыйский, был очень образованным человеком: «Под легкомысленной внешностью князь скрывал солидные знания. Превосходный ориенталист, он владел несколькими языками и был хорошо знаком с мировой литературой»[239]. Его супруга, княгиня, по словам А. Потоцкой, «…была женщина не без достоинств… В то время, о котором я говорю, — писала А. Потоцкая, — она большей частью занималась благотворительностью… <…> все остальное время она проводила, наблюдая за работами в своем великолепном саду»[240]. Князь содержал так называемую Пулавскую школу, воспитывая и содержа за свой счет детей бедных дворян. По сведениям А. Потоцкой, его дочь, графиня Дзялынская, впоследствии содержала «…пансион для молодых польских девушек в отеле Ламбер»[241].
Более определенно говорит об истоках увлечения Е. П. Фадеевой и ее глубоких, поражавших окружающих познаниях ее внучка, уже упоминавшаяся нами В. П. Желиховская, выросшая в доме Елены Павловны: «С самых молодых лет она любила серьезные положительные знания и неустанно училась», — пишет она в одном из очерков[242]. Чуть более подробно она же рассказывает об этом в автобиографической повести «Мое отрочество», посвящая в ней Елене Павловне Фадеевой отдельную главу «Наша бабушка и ее кабинет»: «…я мало знаю наук, которых бы она (Е. П. Фадеева. — О. В.) не изучила основательно. История, география, ботаника, археология, нумизматика — во всем она была специалист! Все эти знания она приобрела не с помощью дорогих учителей, а лишь благодаря собственному неустанному труду, любознательности и настойчивому рвению к познаниям. Хотя она принадлежала к одному из первых княжеских домов России, но отец ее, князь Павел Васильевич Долгорукий, был человек небогатый; бабушка детство и юность свою провела почти безвыездно в деревне и всеми необычными своими знаниями исключительно обязана себе одной»[243].
В своих воспоминаниях супруг Елены Павловны А. М. Фадеев упоминает, что она получила «…наилучшее воспитание, в соединении с серьезным, многосторонним образованием»[244]. Известно, что Е. П. Фадеева не только великолепно играла на фортепьяно, но и сама обучала музыке дочерей и внучек[245]; прекрасно рисовала, что очень пригодилось ей для занятий ботаникой; говорила на пяти иностранных языках, в том числе немецком, итальянском, французском, польском и, можно предположить, английском, поскольку неоднократно встречалась с английскими учеными и путешественниками и вела с ними многолетнюю переписку, знала латынь[246].
Первый год своей совместной жизни (1813) Фадеевы прожили в Ржищеве, в доме бабушки Елены Павловны, затем А. М. Фадеев получил место в Нижегородском губернском правлении. В Нижнем Новгороде, однако, супругам не очень понравилось, и вскоре А. М. Фадеев выхлопотал должность в Новороссийской конторе иностранных поселенцев, располагавшейся в Екатеринославе. В 1817 году А. М. Фадеева назначили ее управляющим, и Екатеринослав стал местом жительства семьи Фадеевых на следующие пятнадцать лет. Впоследствии, однако, Фадеевым несколько раз приходилось бросать насиженное место и переезжать вслед за новой должностью главы семьи: Нижний Новгород, Екатеринослав, Астрахань, Одесса, Саратов, Тифлис — все эти города становились поочередно местами их жительства. И каждый раз большая часть хлопот по переезду огромного семейства (только количество дворовых людей Фадеевых доходило до пятидесяти человек), не говоря уже о детях и даже внуках, ложилась на плечи Е. П. Фадеевой. Например, в 1834 году в связи с реформированием Новороссийской конторы иностранных поселенцев и с назначением А. М. Фадеева в новый «попечительский комитет» по делам переселенцев Фадеевым пришлось бросить хорошо налаженную жизнь в Екатеринославе, в котором они провели около 16 лет, и переехать в Одессу. Вот как описывает А. М. Фадеев это событие: «Множество забот и хлопот, неизбежных при переезде целым домом с одного места на другое и при новом обзаведении полного хозяйства, не миновало и нас; и после прежних долговременных домашних порядков, трудно было вступить в непривычную колею. <…> Однако, <…> Елена Павловна принялась с неутомимою деятельностью и разумным знанием дела за устройство нашей деревеньки. В самый короткий срок она сделала все, что было возможно, и при очень ограниченных затратах достигла удивительно успешных результатов. Она развела прекрасный сад, большие огороды, насадила виноградники, рощу, построила мельницу, все необходимые постройки и службы и в течение нескольких месяцев превратила дикую запущенную деревушку в образцовое хозяйственное учреждение и приятное летнее местопребывание»[247].
Сам Фадеев часто находился в разъездах по делам службы, Елена Павловна же оставалась дома, обустраивала хозяйство, вела его, рожала и выхаживала детей (она родила как минимум пятерых, из которых четверо дожили до совершеннолетия, и каждого кормила сама в течение двух лет). Все это, несомненно, занимало большую часть ее времени. По воспоминаниям родных, она вставала в 6 часов утра и не ложилась до 12 ночи; «… никогда, никому из домашних не приводилось видеть ее праздной», — писала В. П. Желиховская[248].
Тем не менее с юности и до последних дней жизни Е. П. Фадеева находила время для научных исследований. Главным ее увлечением была ботаника. Она собрала значительный гербарий кавказской флоры, так же как и растительности других регионов, в которых ей приходилось жить длительное время; сама, при помощи имевшейся у нее научной ботанической литературы, давала строго научные определения собранным растениям; делала их реалистичные рисунки, составившие в итоге 50 объемных томов. Любопытно, что юная внучка Елены Павловны, которую та не раз просила помочь в собирании растений, очень рано поняла разницу между занятиями бабушки и, например, любовью к цветам ее гувернантки: «…наша бабушка и старая гувернантка обе очень любили цветы. Обе ими бывали постоянно окружены. M-me Pecquoeur с раннего утра начинала перебирать свои букеты… Но бабушка их любила совсем иначе! Она не для того их собирала, чтоб только любоваться ими и наслаждаться их запахом: она их срисовывала, высушивала, определяла и составляла из них коллекции… Нельзя было не дивиться ее познаниям и искусству…»[249]

Рис. 5. Титульный лист книги В. П. Желиховской «Мое отрочество» (СПб., 1893)
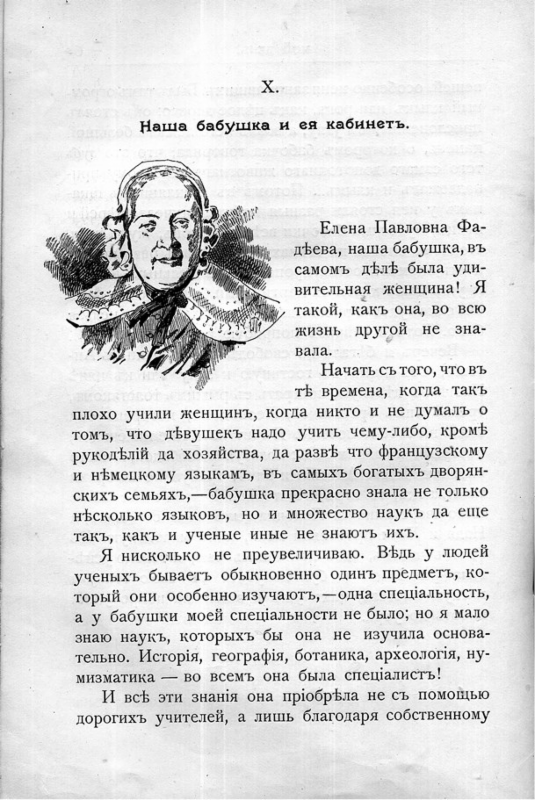
Рис. 6. Страница из книги В. П. Желиховской «Мое отрочество» с карандашным портретом Е. П. Фадеевой
На протяжении многих лет Е. П. Фадеева вела переписку с отечественными и зарубежными учеными. Среди ее корреспондентов, например, были президент Лондонского географического общества Родерик Мурчинсон[250], геолог, палеонтолог и путешественник Филипп-Эдуард Вернель[251], путешественник Игнас Гомер-де-Гель[252], назвавший в ее честь одну из ископаемых раковин (Venus Fadiefei), геолог Г. В. Абих[253], натуралист Г. С. Карелин[254], академики К. М. Бэр[255] и Х. Х. Стевен[256] и др. «Она постоянно переписывалась с Стевеном, сообщая ему порою редкие виды кавказских растений, — пишет автор некролога. — Еще не задолго до своей кончины, Елена Павловна получила письмо от этого маститого ботаника и энтомолога, который благодарит ее “за драгоценный подарок — три огромные ящика с растениями” и выражает удивление, что “дама занимается ботаникой в таком объеме. Обыкновенно, и то немногие — продолжает он — довольствуются небольшим числом красивых цветов”»[257]. Она деятельно обменивалась дублетами из своих коллекций с коллегами и оказывала им посильную помощь в их исследованиях. «Роббер де Гель в своих сочинениях (les steppes de la mer Caspienne, la Crimée et la Russie méridionale, le Caucase и пр.) многократно упоминает о ней, как о замечательно ученой особе, во многом руководившей им в его изысканиях, — пишет В. П. Желиховская. — Lady Stanhope[258], известная английская путешественница (изъездившая весь мир в мужском костюме), в одном из сочинений своих о России говорит о ней, что встретилась в этой варварской стране с такой удивительно ученой женщиной, которая прославилась бы в Европе, если б не имела несчастия проживать на берегах Волги, где мало кто может понять ее и никто не в состоянии ее оценить…»[259]
В своих воспоминаниях А. М. Фадеев рассказывает историю знакомства Елены Павловны с академиком Бэром, в 1856 году приехавшим в Тифлис для изучения возможности искусственного разведения рыб в горных реках края. «Он тотчас же по прибытии явился с визитом к моей жене, давно зная о ней по слухам и сочинениям некоторых из ученых, наших знакомых, русских и иностранных, — пишет А. М. Фадеев. — Елена Павловна с удовольствием приняла его, и он часто у нас бывал. Бэр чрезвычайно интересовался огромной коллекцией ее рисунков цветов с натуры, флоры Кавказской, Саратовской и всех тех мест, где ей приходилось жить. Хотя рисунки не заключали в себе какого-либо художественного исполнения, артистического изящества в очертаниях растений, но академик именно пленялся их живой натуральностью, безыскусственной верностию изображений, отсутствием придаточных прикрас»[260]. А. М. Фадеев рассказывал, что в последнее посещение перед отъездом Бэр обратился к Е. П. Фадеевой с просьбой, «…на которую у нее, — по словам А. М. Фадеева, — не достало духа согласиться. Он просил ее доверить ему на время эти книги (томов 20 большого размера в лист) и позволить взять их с собой в Петербург, чтобы снять с них копии для Императорской академии наук, ручаясь за целость и невредимость их. Он говорил, что готов на коленях молить об исполнении этой просьбы, — и в самом деле хотел стать на колени»[261]. А. М. Фадеев писал: «Елена Павловна колебалась, но не могла решиться расстаться на неопределенное время с этим трудом всей своей жизни, составлявшим усладу и утешение часов ее занятий. Она сказала это Бэру, прибавив, что она вероятно уже долго не проживет, и ей было бы очень тяжело лишиться под конец жизни многолетней своей любимой работы; но что после ее смерти книги достанутся ее детям, которые ботаникой не занимаются, и она предоставит им принести их в дар нашей академии наук, если академия удостоит принять этот более нежели полувековой труд великой любви к природе и науке. Академик Бэр, со вздохом и по-видимому очень опечаленный, должен был покориться этому решению»[262]. Редактор второго, отдельного издания мемуаров А. М. Фадеева, его дочь Н. А. Фадеева, сделала примечание к этому отрывку, сообщавшее о дальнейшей судьбе наследия Е. П. Фадеевой: «Все эти книги с собранием рисунков цветов и растений работы Е. П. Фадеевой в целости и свято хранились с лишком 30 лет в оставшейся ее семье, очень желавшей исполнить обещание и желание, заявленное ею о передаче их в Академию наук, но не знавшей, как это устроить и к кому обратиться. В 70-е годы Р. А. Фадеев писал об этом академику Бэру, но Бэр в это самое время умер. В 1892 году книги пожертвованы в Ботанический Кабинет С.‐Петербургского Императорского университета, принявшего этот ценный дар с большой благодарностью»[263]. К сожалению, в настоящее время среди коллекций и собраний гербария кафедры ботаники С.‐Петербургского университета обнаружить материалы Е. П. Фадеевой не удалось, так же как не сохранилось никаких записей, свидетельствующих об их передаче университету.
Помимо ботанической, Е. П. Фадеева составила энтомологическую, орнитологическую, минералогическую и палеонтологическую коллекции, а также большую коллекцию монет и медалей.
Для научных занятий у Елены Павловны был оборудован специальный кабинет, в котором хранились многочисленные коллекции и чучела животных, многие из них были сделаны ее руками. «Своим любимым занятиям науками она предавалась всегда, запершись в своем кабинете, и здесь подолгу просиживала над книгами, над своими собраниями древностей, монет, насекомых, растений, — над своими рукописями и рисунками», — пишет В. П. Желиховская[264]. Кабинет этот производил неизгладимое впечатление на многочисленных внуков Елены Павловны. В. П. Желиховская так описывала это удивительное место: «В бабушкином кабинете было на что поглядеть и о чем призадуматься!.. Стены, пол, потолок, все было покрыто диковинками. Днем эти диковинки меня очень занимали, но в сумерки я бы ни за что не вошла одна в бабушкин кабинет! Там было множество страшилищ. Одно фламинго уж чего стоил!.. Фламинго — это белая птица на длинных ногах, с человека ростом. Она стояла в угловом стеклянном шкафу. Вытянув аршинную шею, законченную огромным крючковатым, черным клювом, размахнув широко белые крылья, снизу ярко-красные, будто вымазанные кровью, она была такая страшная!.. <…> Я и сама понимала, что чучело не могло ходить, но все же побаивалась… И не одного фламинго! Было у него много еще страшных товарищей, сов желтоглазых, хохлатых орлов и филинов, смотревших на меня со стен; оскаленных зубов тигров, медведей и разных звериных морд разостланных на полу шкур. Но был у меня между этими набитыми чучелами один самый дорогой приятель: белый, гладкий, атласистый тюлень из Каспийского моря. В сумерки, когда бабушка кончала дневные занятия, она любила полчаса посидеть, отдыхая в своем глубоком кресле, у рабочего стола, заваленного бумагами, уставленного множеством растений и букетов. Тогда я знала, что наступило мое время. <…> Заслушивалась я бабушкиных рассказов, открыв рот и развесив уши, до того, что мне порой представлялось, что набитые звери в ее кабинете начинают шевелиться и поводить на меня стеклянными глазами… <…> На одной стене все сидели хищные птицы: орлы, ястребы, соколы, совы, а над ними, под самым потолком распростер крылья огромный орел-ягнятник. <…> Но что за прелестные были в бабушкином кабинете крошечные птички-колибри!.. Одна была величиной с большую пчелу и такая же золотистая. Эта крохотная птица-муха, как ее бабушка называла, больше всех мне нравилась. Она сидела со многими своими блестящими подругами, под стеклянным колпаком, на кусте роз, которые сделаны тоже самой бабушкой. Другие колибри были чудно красивы! Их груди блистали, как драгоценные камни, как изумруды и яхонты, зеленые, малиновые, золотистые! Но моя колибри-малютка была всех милей своей крохотностью»[265]. Но не одни дети были в восторге от кабинета Е. П. Фадеевой. По воспоминаниям той же В. П. Желиховской, «многие ученые люди <…> нарочно приезжали из далека, чтоб с нею познакомиться и посмотреть ее кабинет…»[266].
Искренне и глубоко увлеченная наукой, занятая руководством огромным домашним хозяйством, Е. П. Фадеева тем не менее сумела воспитать нескольких людей, которые впоследствии внесли выдающийся вклад в историю нашей страны и о которых здесь просто необходимо сказать несколько слов. Ее старшая дочь, Елена Андреевна Фадеева (1814–1842), в 16 лет вышедшая замуж за артиллерийского капитана П. А. фон Гана, очень рано завоевала известность в литературном мире, печатая художественные повести под псевдонимом Зинаида Р-ова. Белинский посвятил ей обширную статью, полную горячих похвал. В отечественном литературоведении Зинаида Р-ова признана одной из первых писательниц, отстаивавших достоинство женщины. К сожалению, она умерла всего в 28 лет, оставив на попечение матери троих детей, в том числе Елену Петровну Ган, завоевавшую без преувеличения всемирную известность под именем Е. П. Блаватской (1831–1891), и Веру Петровну Желиховскую (1835–1896), чьи очерки и повести для детей пользовались большой популярностью в конце XIX — начале ХХ века. Сын Е. П. Фадеевой, Ростислав Андреевич Фадеев (1824–1883), участвовал в Кавказской войне, дослужился до чина генерал-майора и стал одним из самых известных российских военных писателей второй половины XIX века, создав немало работ, посвященных «военному вопросу», проблемам российских вооруженных сил и др. Дети средней дочери Елены Павловны, Екатерины Андреевны (1821–?), в замужестве Витте, также воспитывались в доме бабушки. Среди них был и будущий крупный политический деятель, премьер-министр Сергей Юльевич Витте. Все они, так же как и их не упомянутые здесь братья и сестры, были воспитаны и получили (или по крайней мере начали получать) свое образование в удивительном и волшебном кабинете своей бабушки. По отзывам самых близких людей, «Елена Павловна воспитывала детей своих с самою нежною заботливостью, заменяя им большую часть учителей. Все ее дети, а впоследствии и внуки, учились читать по-русски и по-французски и многому другому, сидя у нее на коленях. И это учение служило как бы фундаментом того солидного образования, которое достигнуто ими потом»[267].
Елена Павловна Фадеева ушла из жизни 12 августа 1860 года, прожив чуть больше семидесяти лет. В последние годы она была тяжело больна и частично парализована. Но болезнь не помешала ни ее научным занятиям (она даже научилась делать рисунки левой рукой), ни образованию внуков. Е. П. Фадеева была похоронена в Тифлисе, пред стеной алтаря Вознесенской церкви.
Научно-исследовательская деятельность Е. П. Фадеевой пришлась на 20–50-е годы XIX века. Прошедшая под знаком любимого увлечения, занятия, придуманного для отдохновения от домашних дел, а также скромности и даже скрытности, во всяком случае именно так интерпретировавшаяся современниками, она, однако, была вполне серьезна и результативна с научной точки зрения. Часть своих орнитологической, минералогической и палеонтологической коллекций Е. П. Фадеева еще при жизни подарила Кавказскому обществу сельского хозяйства. По свидетельству С. Ю. Витте, ботаническая коллекция Е. П. Фадеевой была подарена ее наследниками Новороссийскому университету. К сожалению, В. И. Липский в работе «Флора Кавказа» и последующих дополнениях к ней[268] не упоминает имени Е. П. Фадеевой. Впрочем, он вообще уделяет крайне мало внимания истории университетских ботанических коллекций. В настоящее время дальнейшая судьба этих коллекций, к сожалению, неизвестна. Так же как неизвестна судьба альбомов с рисунками растений, подаренных, по словам родственников, Петербургскому университету.
Елена Павловна Фадеева-Долгорукая была одной из первых, если не первой из российских женщин, профессионально занимавшихся естественными науками и завоевавших признание научного сообщества. Несмотря на свидетельство дочери о том, что никто из посторонних (исключая нескольких научных корреспондентов) не знал о научных занятиях Елены Павловны, несмотря на то что она, насколько нам известно, никогда ничего не публиковала и никогда не бывала не только в Европе, но даже в Петербурге, ее имя, безусловно, не было совершенно неизвестным при ее жизни, так же как и ее научная деятельность. В издававшемся Императорской академией наук «Мясецеслове» на 1862 год предположительно впервые в российской истории были опубликованы сразу два некролога женщин-ученых. Один из них — некролог умершей в возрасте 29 лет первой в России женщины, занимавшейся изучением политической экономии, Марии Николаевны Вернадской (урожденной Шигаевой) (1831–1860)[269], второй — некролог Елены Павловны Фадеевой (1788–1860).
Е.П Фадеева не была единственной в России представительницей первой половины XIX века, увлекавшейся естественными науками. Тем же интересом отличалась (и была известна) Анна Михайловна Раевская (1819–1883), урожденная Бороздина, младшая современница Е. П. Фадеевой, хотя ее интересы больше склонялись к изучению археологии. По сведениям Д. Н. Анучина, она «…получила очень тщательное домашнее образование»[270]. Д. Н. Анучин писал, что «…между прочим, ей давал уроки профессор Остроградский, который удивлялся ее замечательным способностям к математике»[271]. В 18 лет она вышла замуж за генерала Николая Николаевича Раевского (1801–1843), бывшего в то время начальником Черноморской береговой линии. Первые годы после замужества А. М. Раевская прожила с мужем в Керчи, где, по мнению Д. Н. Анучина, впервые «познакомилась с раскопками курганов…»[272]. Однако брак продлился всего четыре года, в 1843 году Н. Н. Раевский умер. А. М. Раевская вместе с двумя своими сыновьями уехала из России и прожила пять лет в Италии, в Риме. Д. Н. Анучин считал, что знакомство с памятниками античного мира произвело такое сильное впечатление на А. М. Раевскую, что по возвращении она продолжала заниматься археологией, нумизматикой, антропологией. Д. Н. Анучин писал: «Она была в переписке со многими заграничными и отечественными учеными, из коих профессор Morlot обстоятельно познакомил ее со свайными постройками в Швейцарии и вообще с культурой доисторического человека»[273]. Из российских ученых А. М. Раевская «…была очень хорошо знакома с Бэром, который руководил ею при ее путешествиях по Прибалтийскому краю и Финляндии с целями этнографическими и антропологическими», — писал Д. Н. Анучин[274]. Известный отечественный мемуарист А. В. Никитенко оставил краткое описание личных коллекций А. М. Раевской. В своем дневнике он писал 20 марта 1865 года: «Обедал у А. М. Раевской, <…> хозяйка показывала мне свой маленький музей палеонтологических вещей, собранных ею во время путешествия за границею. Есть любопытные вещи: разные орудия, ножи, долота и проч[ее] каменного и бронзового периодов, много вещей, добытых из швейцарских озер, кусочки тканей, нитки, лен, зерна, яблоки, орехи и проч[ее]. Любопытная кость каменного оленя из бронзового периода с нарубками ножом или топором. Подлинность каждой вещи засвидетельствована французскими и швейцарскими учеными. Наш академик Бэр признает это собрание драгоценным»[275].
А. М. Раевская не только собирала археологические, антропологические и палеонтологические коллекции, сама организовывала археологические раскопки. Она дарила как отдельные предметы, так и целые коллекции различным отечественным музеям. Б. Л. Модзалевский, редактор издания семейного архива Раевских, писал: «За свои пожертвования археологических предметов Московскому публичному музею А. М. Раевская <…> была избрана его почетным членом»[276]. Б. Л. Модзалевский собрал и проанализировал отчеты Румянцевского музея, в которых неоднократно упоминались пожертвования музею А. М. Раевской. Он писал: «“Отчет Московского публичного и Румянцевского музеев за 1867–1869 г.” (М., 1871) содержит в себе уже многократные упоминания имени А. М. Раевской, которая жертвовала музеям книги (стр. 95), монеты (стр. 121), а особенно доисторические древности»[277]. И продолжал далее: «По словам отчета, напр[имер] “Московский публичный музей обязан почти исключительно просвещенному содействию собирательницы Анны Михайловны Раевской, всею имеющеюся у него коллекцией доисторических древностей Франции. Положив начало этой коллекции своим пожертвованием еще в 1865 году, в последствии она значительно пополнила оставшиеся пробелы, и таким образом, составилось собрание, которое может дать достаточно ясное понятие о различных периодах доисторической древности французской почвы. Собрание это состоит частию из подлинников, частию из превосходно исполненных копий” и т[ак] д[алее] (стр. 137–138)»[278]. Точно так же именно пожертвования А. М. Раевской положили основание собранию доисторических древностей Германии[279]. Из описания видно, что почти ни один из отделов музея не остался без пожертвований А. М. Раевской. Причем некоторые копии с наиболее известных в Европе образцов она специально заказывала у европейских музеев. Сделанные А. М. Раевской пожертвования для Московского публичного и Румянцевского музеев были, по сведениям Б. Л. Модзалевского, «…описаны в особой брошюре, отчасти составленной, отчасти переведенной с французского оригинала, в изложении самой Раевской, П. И. Лерхом: “Каталог древностей, собранных во Франции, Швейцарии, Германии и принесенных в дар Московскому публичному музею А. М. Р…ою” (С.-Пб., 1865)»[280].
Московские музеи не были единственными получавшими пожертвования от А. М. Раевской. 30 ноября 1868 года А. М. Раевская писала директору Этнографического музея Императорской академии наук А. А. Шифнеру (1817–1879): «При сем посылаю для музея Академии наук пятьдесят слепков каменных и бронзовых орудий, найденных большею частью в Финляндии, и покорнейше прошу вас о получении их меня уведомить»[281]. 3 декабря 1868 года А. А. Шифнер доложил о пожертвовании А. М. Раевской в заседании историко-филологического отделения Императорской академии наук. Как отмечено в протоколе заседания, «отделение, вполне оценяя ревностные старания г[оспо]жи Раевской к изучению древнего периода истории человеческого рода, положило изъявить ей за ея приношение признательность Академии»[282]. Был составлен полный список подаренных предметов, включавший описание, материал, а также место, где указанный предмет был найден[283]. 16 декабря 1868 года непременный секретарь Академии К. С. Веселовский (1819–1901) писал А. М. Раевской: «Директор Этнографического музея Императорской академии наук Шифнер в заседании историко-филологического отделения Академии 3-го сего декабря донес, что ваше превосходительство изволили принести в дар означенному музею пятьдесят слепков каменных и бронзовых орудий, найденных большею частью в Финляндии. Вследствие сего отделение поручило мне засвидетельствовать вам, милостивая государыня, искреннюю признательность Академии за содействие, оказанное вами обогащению ея музея доставлением сих любопытных слепков»[284].
По данным Д. Н. Анучина, личная коллекция слепков А. М. Раевской составляла около 180 наименований. Кроме слепков она также собирала и подлинные предметы, пользуясь советами и содействием профессиональных исследователей. Д. Н. Анучин писал: «…она пользовалась содействием для Финляндии — г[осподина] Игнациуса, для Олонецкой губ[ернии] — г[осподина] Лерха, для Керчи — г[осподина] Люценко, для Галльштадтского могильника в Австрии — г[осподина] Рамзауера»[285]. И хотя основная часть собранных коллекций А. М. Раевской являлась коллекциями археологической и отчасти антропологической, Д. Н. Анучин утверждал, что «…в бытность в свою в Неаполе приобрела (А. М. Раевская. — О. В.) хорошую минералогическую коллекцию по Везувию, а в Германии составила ценное собрание ископаемых аммонитов»[286]. 14 февраля 1872 года А. М. Раевская была избрана членом-корреспондентом Императорского Московского археологического общества[287]. Несколько раньше, в 1866 году, ее избрали членом Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии[288], но об этом более подробно мы будем говорить ниже.
Имена и деятельность Е. П. Фадеевой и А. М. Раевской были хорошо известны их современникам, по крайней мере тем из них, кто интересовался естественными науками. Их высокое положение в обществе, хорошее состояние, уважаемый статус замужних или (в случае с А. М. Раевской) вдовствующих дам превращали их научные занятия во вполне полезную для общества деятельность в глазах как членов общества, так и членов научного сообщества. Но у них были и гораздо более скромные последовательницы, чей вклад в изучение окружающей их природы, быть может, был и невелик, но кто искренне вкладывал душу и силы в это занятие. Например, читая биографию одной из российских писательниц первой половины XIX века Марии Семеновны Жуковой (1805–1855), можно встретить следующую информацию: «Уже тяжело больную М. С. Жукову все еще охватывала жажда самой разносторонней деятельности. Кроме работы над романом “Две свадьбы” она пополняла начатый ранее гербарий, много читала и рисовала. Закончила альбом рисунков саратовской флоры…»[289] Надо, правда, заметить, что, живя в Саратове, М. С. Жукова была хорошо знакома с Е. П. Фадеевой, так что вполне возможно, что увлечение писательницы ботаникой началось благодаря этому знакомству. В увлечении естественными науками и, если говорить об А. М. Раевской, археологией, переросшем не просто в серьезное занятие, а, можно сказать, в дело всей жизни, видно западное влияние. Во всяком случае, младшие современники именно с помощью влияния Запада объясняли все еще очень малопривычные для окружающих интересы и Е. П. Фадеевой, и А. М. Раевской. Западное влияние (польское) чувствуется в описаниях образования, полученного Е. П. Фадеевой, продолжительную поездку в Италию современники считали причиной глубокого интереса А. М. Раевской. Тем не менее основой для того и для другого послужило предварительно полученное дома прекрасное и всестороннее образование. В свою очередь каждая из описанных нами дам оказывала влияние на женщин, попадавших в орбиту их влияния. Традиция собирания естественно-научных коллекций женщинами сохранялась в Российской империи на протяжении всей второй половины XIX века. Например, в ботанических справочниках конца XIX века можно встретить информацию о такого рода гербариях. Так, в работе В. И. Липского «Новые данные для флоры Бессарабии» читаем описание гербария Веры Антоновны Безваль, собранного в 1891 году в имении Е. Н. Донича Воротец, Бессарабской губернии Оргеевского уезда[290]. Не без язвительности В. И. Липский писал: «Гербарий этот по внешнему виду весьма роскошен, растения в общем собраны хорошо, наклеены на превосходном картоне с каллиграфическими подписями, сохраняются в хороших папках и т[ак] д[алее]. Число растений, впрочем незначительно, всего 203 вида…»[291] И добавлял после достаточно подробного описания: «Гербарий этот имеет, очевидно, значение сельскохозяйственное, хотя, нужно сказать, что он не вполне удовлетворяет этому назначению»[292]. Однако более подробно о традиции сбора российскими женщинами естественно-исторических коллекций во второй половине XIX века мы будем говорить далее.
199
Андрюшис А. Подготовка акушерок в Вильнюсском университете и Медико-хирургической академии в 1774/75–1842 гг. // Медицинская профессура Российской империи. Краткое содержание и тезисы докладов научной конференции. М.: Изд. ММА им. И. М. Сеченова, 2005. С. 5–6.
198
Бизи или Бизио // Энциклопедический словарь. СПб., 1891. Т. 111а: Бергер — Бисы. С. 833.
197
Там же. С. 77.
196
Севергин В. М. Записки путешествия по западным провинциям Российского Государства или Минералогические, хозяйственные и другие примечания, учиненные во время проезда чрез оныя в 1802 году академиком, коллежским советником и ордена Анны второго класса кавалером Васильем Севергиным. СПб.: При Императорской академии наук, 1803.
195
Севергин В. М. Записки путешествия по западным провинциям Российского Государства или Минералогические, хозяйственные и другие примечания, учиненные во время проезда чрез оныя в 1802 году академиком, коллежским советником и ордена Анны второго класса кавалером Васильем Севергиным. СПб.: При Императорской Академии Наук, 1803. С. [1].
194
В описываемое время Семятич (Семятичи) принадлежал к прусской части Польши; впоследствии местечко вошло в состав Гродненской губернии Российской империи.
193
См.: Бессуднова З. А. Геологические исследования в Музее естественной истории Московского университета, 1759–1930. М.: Наука, 2006. С. 22.
192
Księżna Anna Paulinaz Sapiehów Jabłonowska (1728–1800).
191
В Москве // Московские ведомости. 1802. 1 марта. № 18. С. 258.
190
Шевырев С. П. История императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею. 1755–1855. Репринтное издание. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. С. 315.
239
Потоцкая А. Мемуары графини Потоцкой, 1794–1820. М.; Жуковский: Кучково поле, 2005. С. 43.
238
Елена Павловна Фадеева. Биографический очерк // Кавказ. 1860. № 72 (15 сентября). С. 426.
237
Подробнее об этом см. в: Фадеев А. М. Мои воспоминания // Русский архив. 1891. № 2–12.
236
Фадеева Н. А. Комментарии // Фадеев А. М. Воспоминания Андрея Михайловича Фадеева. 1790–1867 гг.: В 2 частях. Одесса, 1897. С. 24.
235
Иаков, епископ Саратовский и Нижегородский. Письмо А. М. Фадееву. 8 декабря 1846 г. // РГИА. Ф. 1100. Оп. 1. Д. 15. Л. 1 об., 2.
234
Вечерков Иосиф Иванович (1792–1850) был известен своими работами по истории, географии, археологии Саратовского края. См.: Иаков, архиепископ Нижегородский и Арзамасский. Православие и современность. Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии // URL: http://www.eparhia-saratov.ru/pages/3257_iakov,_arhiepiskop_nijegorodskiy_i_arzamasskiy.
233
Желиховская В. П. Елена Андреевна Ган, писательница-романистка в 1835–1842 гг. // Русская старина. 1887. Март. С. 765.
232
Елена Павловна Фадеева. Биографический очерк // Кавказ. 1860. № 72 (15 сентября). С. 426.
231
Елена Павловна Фадеева (Биографический очерк). Тифлис, 1860 // РГАЛИ. Ф. 197. Оп. 1. Д. 57. Л. 1–7.
230
[Фадеева Н. А.] По поводу статьи «Роман одной забытой романистки». Письмо Н. А. Фадеевой // Исторический вестник. Историко-литературный журнал. 1886. Ноябрь. С. 457.
229
Елена Павловна Фадеева. Биографический очерк // Кавказ. 1860. № 72 (15 сентября). С. 426; Елена Павловна Фадеева (Биографический очерк). Тифлис, 1860.
228
Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 1 (1849–1894). М., 1960. С. 19.
227
Lettres philosophiques de Mr. Fontaine et de m-lle Tourtchaninoff. Paris, 1817.
226
Турчанинова А. А. Натуральная этика или законы нравственности, от созерцания природы непосредственно проистекающие / Пер. с лат. Анны Турчаниновой. СПб., 1803.
225
См.: Турчанинова А. А. Отрывки из сочинений Анны Турчаниновой. СПб., 1803.
224
Подробнее о семье Турчаниновых см.: Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 106 и др.
223
Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 107.
222
Курсив наш. — О. В.
221
Вигель Ф. Ф. Записки. M., 2003. Т. 1. С. 107.
220
Курсив наш. — О. В.
219
Эйнасто О. 200-летие Библиотеки Тартуского университета // URL: http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2002/11/f11_11.htm.
218
Хотеев П. И. Библиотека лейб-медика И. Г. Лестока // Книга и библиотеки в России в XIV — первой половине XIX в.: Сб. научных трудов. Л., 1982. С. 44. Прим.
217
Фрейлины императрицы Елизаветы Петровны / Публ. [и вступ. ст.] К. А. Писаренко // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2007. [Т. XV]. С. 171.
216
Периодическое сочинение о успехах народного просвещения. 1803. № 1. С. 81–82.
215
См., например: Бессуднова З. А. Указ. соч. С. 32. Прим.
214
Шевырев С. П. Указ. соч. С. 372.
213
[Щуровский Г. Е.] Политковский, Федор Герасимович // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета, за истекающее столетие, со дня учреждения января 12-го 1755 года, по день столетнего юбилея января 12-го 1855 года, составленный трудами профессоров и преподавателей, занимавших кафедры в 1854 году и расположенный по азбучному порядку. Ч. 2. М., 1855. С. 280–287.
212
Об этом подробнее см.: Бессуднова З. А. Геологические исследования в Музее естественной истории Московского университета, 1759–1930. М.: Наука, 2006. С. 32–33.
211
Там же. № 51. 26 июня. Середа. С. 1116.
210
Московские ведомости. 1807. № 39. Мая 15 дня. Середа. С. 869–870.
209
Бессуднова З. А. Геологические исследования в Музее естественной истории Московского университета, 1759–1930. М.: Наука, 2006. С. 23.
208
В Москве // Московские ведомости. 1802. 1 марта. № 18. С. 258.
207
Там же. С. 80.
206
Там же.
205
Там же. С. 78.
204
Севергин В. М. Указ. соч. С. 77–78.
203
Там же. С. 83.
202
Севергин В. М. Указ. соч. С. 76.
201
Начертание о новоучреждаемом при Императорском Московском университете преподавании нужнейших и полезнейших наук для почтенной московской публики // Периодическое сочинение о успехах народного просвещения. 1803. № 3. С. 288.
200
Курсив наш. — О. В.
292
Там же.
291
Липский В. И. Гербарий Веры Антоновны Безваль. Киев, 1894. С. 444.
290
Липский В. И. Гербарий Веры Антоновны Безваль // Липский В. И. Новые данные для флоры Бессарабии. Киев, 1894. С. 444.
289
Еремеев П. В. Мария Семеновна Жукова. К 200-летию со дня рождения Марии Семеновны Жуковой // Арзамасская сторона. 2004. № 4. С. 79.
288
Устав и список членов Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, состоящего при императорском Московском университете. М., 1868. С. 15.
287
Раевская Анна Михайловна // Императорское Московское археологическое общество в первое пятидесятилетие его существования (1864–1914 гг.). Т. 2. М., 1915. С. 298.
286
Там же.
285
[Анучин Д. Н.] Анна Михайловна Раевская… С. 513.
284
К. С. Веселовский — А. М. Раевской. 16 декабря 1868 г. // Архив Раевских. Т. V. Пг., 1915. С. 492–493.
283
Список слепкам орудий каменного и бронзового веков, принесенных в подарок Императорской академии наук вдовою генерал-лейтенанта Анною Михайловною Раевскою // Архив Раевских. Т. V. Пг., 1915. С. 489–492.
282
3 декабря 1868 г. [Заседание историко-филологического отделения Императорской академии наук] // Записки Императорской Академии наук. 1869. Т. XV. Кн. 1. С. 140.
281
А. М. Раевская — А. А. Шифнеру. 30 ноября 1868 г. // Архив Раевских. Т. V. Пг., 1915. С. 487.
280
Лерх П. И. Каталог древностей, собранных во Франции, Швейцарии, Германии и принесенных в дар Московскому публичному музею А. М. Р…ою. [СПб.:] Тип. К. Вульфа, 1865.
279
Там же.
278
Там же.
277
Модзалевский Б. Л. Примечание ред. к письму А. М. Раевской К. С. Веселовскому от 8 января 1865 г. Т. V. Пг., 1915. С. 462.
276
Модзалевский Б. Л. Примечание ред. к письму А. М. Раевской К. С. Веселовскому от 8 января 1865 г. // Архив Раевских. Т. V. Пг., 1915. С. 461.
275
Никитенко А. В. Записки и дневник: В 3 т. Т. 3. М.: Захаров, 2005. 592 с. (Серия «Биографии и мемуары») // URL: http://www.imwerden.info/belousenko/books/memoirs/nikitenko_dnevnik_3.htm.
274
Там же.
273
Там же.
272
Там же.
271
Там же.
270
[Анучин Д. Н.] Анна Михайловна Раевская // Известия Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. XC. Вып. III. Труды антропологического отдела. Т. 18. Вып. III. М., 1896. С. 513.
269
Некролог 1860–1861 годов. 1860. Вернадская, Мария Николаевна // Месяцеслов на 1862 год. СПб., [1861]. С. 103–104.
268
Липский В. И. Флора Кавказа. Дополнение I // Труды Тифлисского Ботанического сада. Приложение к вып. V. СПб., 1902.
267
См.: Фадеев А. М. Мои воспоминания // Русский архив. 1891. № 12. С. 521–522.
266
Там же. С. 131.
265
Желиховская В. П. Как я была маленькой. Из воспоминаний раннего детства / 7-е изд. СПб. [Б. д.] С. 157–163.
264
Желиховская В. П. Мое отрочество… С. 62.
263
Фадеева Н. А. [Примечание ред.] // Фадеев А. М. Воспоминания Андрея Михайловича Фадеева. 1790–1867 гг.: В 2 частях. Одесса, 1897. С. 196–197.
262
Там же. С. 197.
261
Там же.
260
Фадеев А. М. Воспоминания Андрея Михайловича Фадеева. 1790–1867 гг.: В 2 частях. Одесса, 1897. С. 196.
259
Желиховская В. П. Елена Андреевна Ган… С. 764.
258
Леди Стэнхоуп Эстер Люси (1776–1839) — известная английская путешественница, автор обширных мемуаров.
257
Елена Павловна Фадеева. Биографический очерк… С. 426.
256
Стевен Христиан Христианович (1781–1863) — естествоиспытатель-ботаник, садовод, энтомолог. Член-корреспондент Петербургской академии наук с 22 февраля 1815 г., почетный член с 6 октября 1849 г.
255
Бэр Карл Максимович (Карл Эрнст), фон (1792–1876) — естествоиспытатель, академик Петербургской академии наук.
254
Карелин Григорий Силыч (1801–1872) — путешественник и натуралист, руководил исследованиями Каспийского моря.
253
Абих Герман Вильгельмович (Васильевич) (Отто Вильгельм Герман) (1806–1886) — немецкий геолог. Ординарный академик Петербургской академии наук по Отделению физико-математических наук (ориктогнозия и минералогическая химия) с 8 января 1853 г. по 22 декабря 1865 г., почетный член с 14 января 1866 г.
252
Гоммер де Гель Игнас (1812–1848) — французский путешественник и естествоиспытатель, в 1835 г. проводил геологические изыскания на юге России.
251
Верней (Вернель) Филипп-Эдуард Пуллетье де (1805–1873) — французский геолог, палеонтолог и путешественник. Член-корреспондент Петербургской академии наук по разряду минералогии и геологии Отделения физико-математических наук с 7 декабря 1856 г.
250
Мурчисон Родерик Импи (1792–1871) — английский геолог, специалист по палеозою, иностранный почетный член Петербургской академии наук с 6 сентября 1845 г., ординарный академик по Отделению физико-математических наук (геология) с 21 сентября 1845 г. В 1840–1841 гг. проводил геологические изыскания в России.
249
Желиховская В. П. Мое отрочество… С. 91–92.
248
Желиховская В. П. Елена Андреевна Ган… С. 765.
247
Фадеев А. М. Указ. соч. // Русский архив. 1891. № 4. С. 465.
246
Там же; Елена Павловна Фадеева. Биографический очерк… С. 426.
245
Желиховская В. П. Елена Андреевна Ган… С. 764.
244
Фадеев А. М. Мои воспоминания // Русский архив. 1891. № 2. С. 302.
243
Желиховская В. П. Мое отрочество. СПб., 1893. С. 60.
242
Желиховская В. П. Елена Андреевна Ган… С. 763–764.
241
Там же. С. 44.
240
Там же. С. 45.
