автордың кітабын онлайн тегін оқу Та, которая свистит
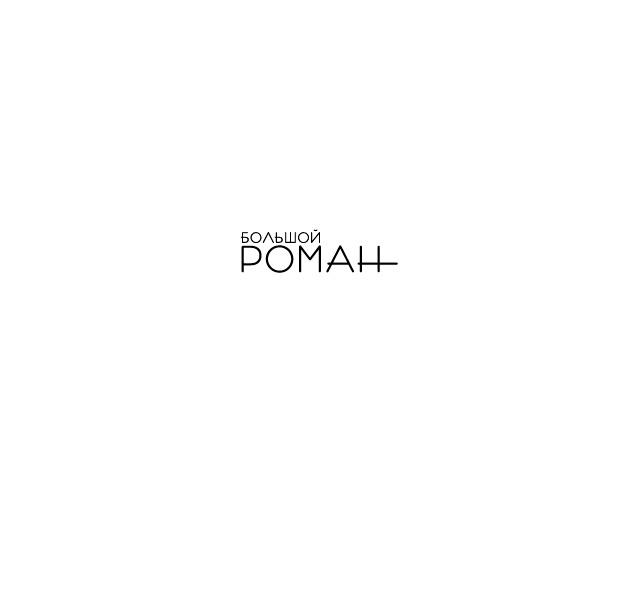
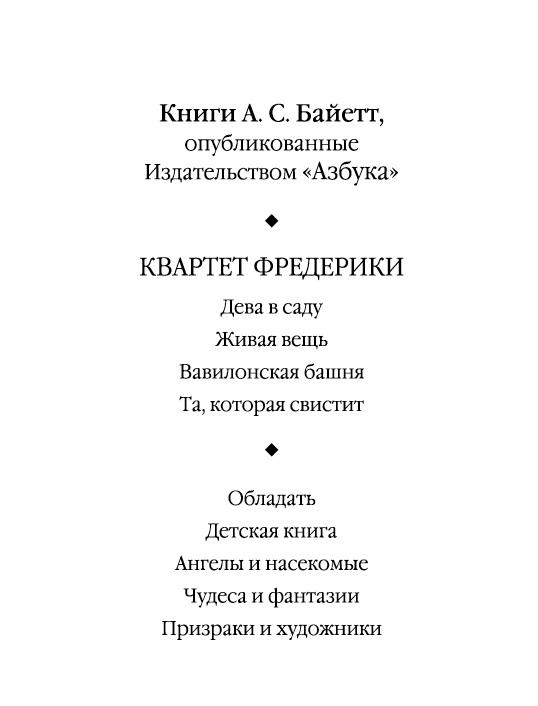
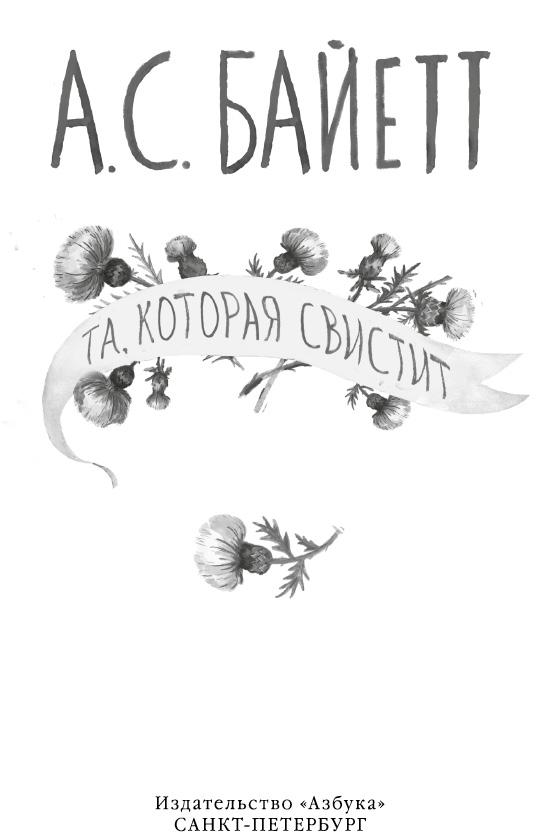
A. S. Byatt
A WHISTLING WOMAN
Copyright © 2002 by A. S. Byatt
All rights reserved
Перевод с английского Валентина Фролова
Оформление обложки Вадима Пожидаева-мл.
Иллюстрация на обложке Ирины Дудиной
Байетт А. С.
Та, которая свистит : роман / А. С. Байетт ; пер. с англ. В. Фролова. — СПб. : Азбука, Издательство АЗБУКА, 2026. — (Большой роман).
ISBN 978-5-389-31506-8
18+
Долгожданный заключительный роман «Квартета Фредерики», считающегося, пожалуй, главным произведением кавалерственной дамы ордена Британской империи Антонии Сьюзен Байетт. Тетралогия писалась в течение четверти века, и сюжет ее также имеет четвертьвековой охват, причем первые два романа («Дева в саду», «Живая вещь») вышли еще до удостоенного Букеровской премии международного бестселлера «Обладать», а третий и четвертый — после.
Итак, Фредерика Поттер — бывшая йоркширская школьница и кембриджская выпускница, бывшая жена херефордширского сквайра, а теперь мать-одиночка посреди психоделического «свингующего Лондона» 1960-х — продолжает жить в окружении художников-бунтарей, писателей и поэтов. Преподавания в художественном училище и занятий литературной критикой ей уже недостаточно, и она ввязывается в новую авантюру: становится ведущей научно-популярной телепрограммы «Зазеркалье», каждым ее выпуском опровергая старую поговорку: «Женщине свистать — что наседке летать: тоже негоже». Тем временем устроенная Северо-Йоркширским университетом всеохватная конференция «Тело и мысль» грозит обернуться студенческим бунтом, а в старинной усадьбе Дан-Вейл-Холл харизматичный проповедник, именующий себя Джош Агниц, учреждает натуральный манихейский культ…
Впервые на русском!
© В. И. Фролов, перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®
Пожалуй, самое важное, что можно сказать о моих книгах, это что приключения интеллекта играют в них не меньшую роль, чем наблюдения за обществом и отношениями между людьми. Меня восхищает — и возбуждает — любое интеллектуальное любопытство (естественнонаучное, языковое, психологическое), а также литература как сложная, огромная, взаимосвязанная система. Сочинительство и теоретические рассуждения для меня суть проявления страсти, как и любая другая человеческая деятельность.
А. С. Байетт
Леди Антония — один из величайших британских литераторов; поставить рядом с ней практически некого.
Atlanta Journal-Constitution
В ее историях дышит тайна, живет страсть, пульсирует древняя магия.
Marie Claire
Эта теплая, эксцентричная, ностальгическая, интеллектуальная сага о друзьях и семье рисует достоверный портрет Британии 1960-х.
St. Louis Post-Dispatch
Приключения тела и разума, напоенные энергией и жизненной силой. Для взыскательного читателя — восторг от первой до последней страницы.
Scotsman
Нечасто приходится видеть, чтобы британский писатель осмелился продолжить с того места, на котором остановилась Вирджиния Вулф, и госпожа Байетт — отрадное исключение.
New York Times
Байетт выстраивает сюжет, занимательный, как классический детектив, но в первую очередь читателя поражает запредельное качество письма: живой, чувственный язык, стройная система метафор, естественная игра ума.
Literary Review
Масштабная, хитро устроенная и неудержимо занимательная история о лихорадочных экспериментах и поиске новых путей, об интеллектуальном любопытстве, искрящем в зазоре между идеями и религией, наукой и телевидением, истеблишментом и анархией, контркультурой и традиционными академическими структурами, визионерством и безумием.
The Observer
Возбуждающий, берущий за душу роман, полный научных открытий и этических конфликтов.
Vanity Fair
Смелая, остроумная и абсолютно живая дань памяти бурным 1960-м.
Entertainment Weekly
Завершая великолепный «Квартет Фредерики», Байетт в увлекательном сюжете реализует свое привычное «восхищение любым интеллектуальным любопытством».
Independent
Антония Байетт — английская достопримечательность, как Тэтчер, Тауэр и файф-о-клок.
TimeOut
Интеллект и кругозор Байетт просто поразительны.
Times Literary Supplement
Байетт препарирует своих персонажей решительной рукой, но бережно: как добрый хирург — скальпелем.
Тони Моррисон
(лауреат Нобелевской премии по литературе)
Роман идей, метафор и многочисленных аллюзий… Идеальный финал нашей любимой тетралогии.
The Economist
Здесь, как и во всех лучших книгах Байетт, груз интеллектуальных вопросов кажется почти невесомым благодаря изящно закрученному сюжету и сложным, неоднозначным, бесконечно близким читателю персонажам.
The Baltimore Sun
Байетт не умеет писать скупо. «Квартет Фредерики» — богатейшее полотно, где каждый найдет что пожелает: подлинный драматизм, пестрые капризы истории, идеи, над которыми стоит поломать голову... Едкий юмор, крепкий сюжет, персонажи, которым сочувствуешь, и, конечно, великолепный язык.
The Times
Настоящий пир для литературных гурманов. Препарируя человеческие страсти и конфликты, Байетт закручивает интригу похлеще любых детективов.
Daily Telegraph
Роман открывает новые пути и полон новой энергии. Пружина сюжета раскручивается неумолимо, внушительный ансамбль персонажей работает как часы.
Spectator
Всепоглощающий, поистине головокружительный читательский опыт.
Washington Post Book World
Выдающийся роман идей и эксперимент в области культурной палеонтологии. Эта книга не просто свистит, а поет.
The Atlanta Journal-Constitution
С характерной щедростью, едкостью и мудростью Байетт пытается ответить ни больше ни меньше как на вопрос: что это вообще значит — быть человеком?
Vogue
Острый критический взгляд и подлинная эмпатия, грандиозный охват и внимание к мельчайшим деталям, эмоциональная прямота и прихотливая интеллектуальная игра…
Miami Herald
Байетт на пике формы. Она, как никто, умеет высветить эпоху до мельчайших деталей. Мастерски используя все богатство английского языка, она являет нам надежды и сомнения, поражения и победы героев, которые надолго запомнятся читателю.
Denver Post
Блистательные романы эпического масштаба, подобные удивительным живым гобеленам.
Entertainment Weekly
Богатое авторское воображение и неисчерпаемый набор литературных приемов гарантируют: скучать читателю не придется.
Philadelphia Inquirer
Захватывающие, прихотливо выстроенные, невероятно изобретательные романы.
Houston Chronicle
Только Байетт способна так непринужденно разбавить юмором атмосферу мрачного предчувствия, а деконструкцию классических произведений насытить романтикой и ревностью.
Charlotte Observer
Виртуозная демонстрация максимального стилистического диапазона, идеальный писательский слух.
San Jose Mercury News
Развернутые описания у Байетт резонируют подлинной поэзией.
The Philadelphia Inquirer
Единоличным, можно сказать, усилием Байетт опять выводит британскую литературу на первые роли.
Dallas Morning News
Литература для Байетт — удовольствие чувственное. Ее бунтари, чудаки и злодеи абсолютно достоверны. Не книги, а настоящее пиршество.
Town & Country
Романы для тех, кто не боится разгневаться, взволноваться и даже, возможно, обогатиться.
St. Louis Post-Dispatch
Творчество Байетт всегда отличали беспощадный ум и зоркая наблюдательность. Ее героев не спутаешь ни с чьими другими.
Orlando Sentinel
Только у Байетт обсуждение сложных философских вопросов может звучать так человечно, тепло и жизненно важно.
Scotsman
Поразительная внимательность к вещам и людям.
London Review of Books
Искусно и изобретательно Байетт режиссирует огромным «актерским составом», и каждый персонаж у нее — многогранная, вдумчивая личность.
Los Angeles Times Book Review
Антония Байетт — один из лучших наших писателей, умеющих насытить и ум, и душу.
Daily Telegraph
Байетт принадлежит к редким сегодня авторам (другой пример — Дон Делилло), для которых мир идей не менее важен, чем мир страстей человеческих... Байетт населяет свои книги думающими людьми.
The New York Times Book Review
Байетт, подобно Эросу, «вдыхает жизнь в застывший, неорганический мир» и побуждает нас влюбляться в язык снова и снова.
The Independent
Перед вами — портрет Англии второй половины XX века. Причем один из самых точных. Немногим из ныне живущих авторов удается так щедро наполнить роман жизнью.
The Boston Globe
Байетт — Мэри Поппинс эпохи постмодерна. Чего только нет в ее волшебном саквояже! Пестрые россыпи идей: от Шекспира до Дарвина, от святого Августина до Фрейда и Витгенштейна. Яркие, живые характеры. И конечно, головокружительная смесь тем, загадок и языковых уловок.
Elle
«Квартет Фредерики» — современный эпос сродни искусно сотканному, богатому ковру. Герои Байетт задают главные вопросы своего времени. Их голоса звучат искренне, порой сбиваясь, порой достигая удивительной красоты.
Entertainment Weekly
Байетт — несравненная рассказчица. Она сама знает, о чем и как говорить, а нам остается лишь следить затаив дыхание за хитросплетениями судеб в ее романах.
Newsday
Мало кто сравнится с Байетт в мудрой зоркости к жизни.
Hartford Courant
Герои Байетт останутся с вами еще долго после того, как вы перевернете последнюю страницу.
New York Times
Читая русских писателей, многое понимаешь о том, что такое роман. Русская классика поразительна, и если читаешь ее в юности, кажется, что ты ничего похожего никогда не напишешь. Именно поэтому нельзя ее не читать — она открывает иные горизонты. Мне нравятся развернутые, сложные предложения, и я питаю самые нежные чувства к словам... Я пишу ради языка и еще — ради сюжета.
А. С. Байетт
Стиву Джонсу и Франсес Эшкрофт
Женщине свистать — что наседке летать:
Тоже негоже.Как любила говорить моя бабушка
по материнской линии
— И как раз, когда я нашла самое высокое дерево в лесу, — продолжала Голубка (она уже кричала), — и как раз, когда уже стала надеяться, что вздохну хоть на минуту, — не тут-то было! Прямо с неба на меня сваливаются, проклятые! Ах ты, змея!
— Да я же не змея — говорят вам, — сказала Алиса. — Я просто... я просто...
— Ну что ж ты? Говори, говори! — насмешливо сказала Голубка. — Еще ничего не успела придумать, да?
— Я... я девочка, — сказала Алиса, не вполне уверенно, не будем скрывать: ей, бедняжке, вдруг сразу вспомнились все ее сегодняшние превращения.
— Так я тебе и поверила! — ответила Голубка с величайшим презрением. — Не мало повидала я на своем веку разных девочек, но чтобы у девочки была та-а-а-кая шея! Нет, не на дуру напала! Ты змея — вот кто ты такая! [1]
Льюис Кэрролл. Алиса в Стране чудес
Здесь, возле струй, в тени журчащих,
Под сенью крон плодоносящих,
Душа, отринув плен земной,
Взмывает птахою лесной;
На ветку сев, щебечет нежно,
Иль чистит перышки прилежно,
Или, готовая в отлет,
Крылами радужными бьет [2].Эндрю Марвелл. Сад
[1] Перевод Б. Заходера.
[2] Перевод Г. Кружкова.
I
— ...Это уж последнее дерево, — сказал дрозд.
То был приземистый терновник, ветки его под ветром сложились в щепоть, указующую в ту сторону, откуда они пришли.
— Прежде, — продолжал дрозд, — последним было другое дерево, подальше, а еще раньше вон там стоял чахлый лесок, все деревья от ветра скорчились. Пустошь наступает.
Они вгляделись в стальные сумерки. Пригорок, в который некогда впивался корнями лес, был едва различим.
— Сейчас туда никто ни ногой, — рассказывал дрозд. — В былое время до наступления зимы захаживали. Но зимы сделались долгими. И люди боятся свистал. Когда светло, от них там прохода нет.
— Край, который мы ищем, лежит по ту сторону. Так выходит по ландкартам и летописям, — сказал Артегалл. — Отправимся в путь поскорее, покуда зима не настала.
— И покуда охотники нас не настигли, — добавил Марк.
— Не было примеров на моем веку, чтобы кто-то туда уходил или оттуда являлся.
Дрозд взъерошил пятнистые перья. Век дрозда, птички тщедушной, но густоперой, был не так чтобы очень долог, а границы его угодий не так чтобы очень обширны.
— Какова она, эта местность? — спросил Артегалл.
— Кустарник да камень, мох да лишайник, глубокие бочаги да заледеневшие реки. Зверье там, сказывают, белое, шныряет по снегу, прячется в норах. А в бочагах водятся скользкие серые головастики. А лишайник там будто бы съедобный, только на вкус скверный. Но это с чужих слов, сам я там не бывал.
— А кто такие свисталы?
— Кто их увидит, тому конец. Чего там: и услышать их — опасность смертельная. Они летают, скользят по воздуху, словно серые тени, издают такой звук... такой...
— Какой?
— Сказывают, вроде свиста, пронзительный и такой тонкий, что, кажется, не всякое ухо расслышит, но слышат, похоже, все. Откликаются же собаки на такой свист, который ты и звуком не назвал бы. А эти твари — их голос проницает слух любого существа — человека и птицы, медведя и горной индейки. Проймет даже эту вашу каменную рептилию, даром что спит как убитая.
Артегалл взглянул на Камнедрака, который с самого празднества в Последней Деревне не подавал признаков жизни.
— Вот бы его пробудить, — сказал Артегалл. — Мне его совет не помешал бы.
— Если его разбудят свисталы, — отвечал дрозд, — не услышать тебе его совета. Одни косточки от тебя останутся, да и те обглоданные.
Они засветло соорудили близ последнего дерева навес и раскинули шатры. Ночь гудела и выла, в воздухе раздавался стеклянный перезвон и мерное гулкое уханье, в трепещущих сухих ветвях последнего дерева бушевал порывистый ветер. И еще один звук раздавался: пронзительный, вроде свиста, человеческого, нет ли — не понять. Говорят, рассказал Марк, черепахи и дельфины у себя в теплых голубых водах южных морей умеют переговариваться пением.
— А здесь ветер — клыки да когти, колет и режет, — сказала Доль Дрозди.
Они поужинали вяленым мясом и сладким изюмом: припасов почти не осталось, провизия истощалась быстро.
Поутру налетела и закружила пурга, даль заволокло пеленой мелкого сыпчатого снега. Стали совещаться, кому идти на разведку, кому оставаться на месте. Марк спросил Артегалла, не попадалась ли ему в географических книгах карта этих мест. Кое-какие карты Северной Империи он видел, ответил Артегалл: обширные пространства неясных очертаний, изображены также несколько рек и множество баснословных тварей, кто о двадцати лапах, кто с крючковатыми когтями. Начертание гласило: Белая Пустыня. Были там, помнится, одна-две тропинки, ведущие непонятно куда, и стрелки, указующие за северные пределы карты. Страницы были богато изукрашены по краям: узоры из золотых яблок, да багряного вишенья, да изумрудных листов винограда. И железные топоры, и жаркие искры.
Доль Дрозди припомнила Марку, как он, паж, насмехался над молодым принцем, когда в самом начале, еще на юге, тот, заточенный в учебном покое своей белой башни, усердно заучивал разные разности из книг по истории, географии, охотницкому делу. Как эти знания пригодились им в странствиях по лесам, помогли выслеживать добычу, добывать пропитание, как умение Артегалла говорить на других языках позволило им изъясняться с чужеземцами. Марк же научил принца ловить руками форель, добывать мед лесных пчел и, болтая в тавернах с солдатами, прикидываться простачком. Больше они не принц, служанка и мальчик для порки, а трое спутников, крепкие, зоркие, заматерелые, в звериных шкурах; они умеют растворяться в лесу, как лисы, укрываться в траве, как зайцы, пробегать по холмам волчьей побежкой.
При такой стуже продолжать путь ночью, по звездам — дело немыслимое, сказал Марк. И тут за воем ветра и стуком ветвей они первый раз различили свист: звук забирал вверх, снижался, и снова делался выше, выше, и вот уже раздавался в мозгу, минуя слух. И дрогнуло сердце у Доль Дрозди: угораздило ее, сумасбродку, завести двух зеленых юнцов на край света в поисках королевства, которое, может, только в легендах и существует. И подумалось Марку, что дальше пути не будет: идти дальше — ослепнуть от снега или окоченеть от холода, а следом неотступно мчатся охотники, выгоняют их из убежища, как пернатую дичь. И подумал Артегалл: ужасный звук, еще немного — и мозг не выдержит. Но звук затих и перестал их терзать. И придумал Артегалл скатать из овечьего руна шарики и заткнуть уши, скрытые меховыми капюшонами.
Наутро мальчики пустились на разведку, а Доль оставили под деревом.
— Если мы через три дня не вернемся, ступай обратно, — велел ей Артегалл. — Тебя одну, без меня, солдаты не тронут.
— Вот еще! — возразила Доль. — Я тогда пойду за вами, и будь что будет. Я теперь следопыт бывалый.
В трескучий мороз мальчики пробирались по угрюмой заледенелой местности, поросшей однообразным кустарником, и через милю-другую убедились, что без помощи слуха не обойтись: хруст наста подсказывал, где под снегом скрываются глубокие рытвины, к тому же приходилось прислушиваться, не раздастся ли где треск ветвей, звук шагов, шелест крыльев. Среди зарослей можжевельника и вереска высмотрели они что-то вроде козьей тропы, которая делалась чем дальше, тем шире. Они побрели по ней, и Марк приметил по обочинам камни покрупнее: может, их тут нарочно разложили, чтобы никто не сбился с пути. Тучи сгущались, нависали все ниже и ниже. Мальчики осмотрели камни и обнаружили, что на них что-то выцарапано: не то стрела, не то трехпалая птичья лапа на одном камне, на другом. Если попадется еще один, решили они, надо будет вернуться за Доль, взять провизию и следовать этим путем. Поднялся ветер и обдал их колкой ледяной крупой. В этом ветре послышалось им пение. Поначалу они про это друг другу ничего не говорили — думали, так в голове отдаются шаги или пульсирует кровь. Наконец Марк спросил:
— Слышишь, как в ветре кто-то поет сладкозвучным голосом?
— Стало быть, и ты слышишь? — удивился Артегалл. — Голос тонкий, высокий, вроде флейты или чего-то такого.
— Может, это льдистое подобие миражей в пустыне?
— Может, голоса свистал?
— Или духов их жертв?
С трудом передвигаясь, побрели они дальше, тропинка становилась все неразличимее. Камни-указатели больше не попадались. Ветер выпаливал в путников мерзлым снегом.
Марк, шедший позади Артегалла, пробормотал:
— До чего заунывное пение... Сил нет, какое заунывное...
С этими словами он как подкошенный рухнул на снег.
Артегалл обернулся, и стройная мелодия у него в голове сменилась переливчатым свистом. Неловко перебирая пальцами в меховых перчатках, он достал шерстяные шарики, заткнул уши и опустился на колени возле тела друга. Но шерсть заглушила свист не вовсе, он превратился в шепот или тихий визг. И тут появились они: одно, два, три, пять, восемь, тринадцать, выплыли из полумрака, раскинув серые крылья, почти что сливаясь с тучами, вытянув, как лебеди в полете, точеные шеи, выставив позади, как цапли, длинные ноги, разрезая воздух кривыми, как ятаган, яркими клювами цвета червленого золота. Они опустились наземь, расселись вокруг путников, и Артегалл с ужасом увидел, что выше клюва у них лица человеческие: брови дугой, из-под них смотрят темные зоркие человечьи глаза, перья на макушке не то покрывают шевелюру, не то сбегают вниз длинными волосами, разметавшимися по плечам; лапы, впившиеся когтями в мерзлые камни, — как у птиц, но выше колен — человечьи ноги, и заметно, что тела их, туго запахнувшиеся в серые крылья, тоже человечьи, женские, с высокой грудью и тонкой талией, поросшие белым пухом. Артегалл все видел и слышал, но пошевелиться не мог.
И пустились свисталы приплясывать: выпятили грудь, неловко переступали когтистыми лапами, кланялись, изгибали шею, так что она походила на грациозную змейку, указывали клювом на двух человеческих существ, застывших в густых сумерках на белой земле, — приплясывали и пели. Грозный свист не утихал, но за ним Артегалл различил пение, только слов не мог разобрать. Прислушался как к говору птиц — лишь гогот да шип. Прислушался как к женской речи — тарабарщина из обрывков слов. И увидал он, что звуки их песни льдистыми нитями опутывают тело приятеля, ткется из них стеклянистый саван и отвердевает стеклянным гробом. И чувствует он, что эта кудель спеленывает и его по рукам и ногам, и стряхнуть ее нету мочи. Шевельнулось в уме, что ему непременно надо постичь их язык, поговорить, иначе конец. Он принялся вслушиваться в пение так жадно, как ничего в жизни не слушал, и разобрал, что язык их — такое же чудовищное двуединство, как их облик: в нем срослись слова из речи пернатых и речи носящих кожаный покров — слова, вылетающие из клювов и из ротового отверстия. Он расслышал их говор, он смог мысленно построить этот язык, каким-то жутким образом рассекая и сращивая, как отделял бы от куртки половины кожаного нагрудника и связывал между собой: две половины мозга связывались тороками мысли.
— Смилуйтесь, — с трудом вымолвил он на этом диковинном, новом ему языке, — смилуйтесь... девы-птицы... птицы-девы... Смилуйтесь, добрые души... Этот человек — он тоже добрый...
Пощады, молил он униженно, слезно, отчаянно, пощады...
И молвила одна свистала:
— Он нас слышит!
— Слышу...
— Он понимает, что наш свист — это речь!
— Понимаю, свисталы, слышу, говорю... Этому языку научил меня повелитель змей, — добавил он по-птичьи. — Не губите нас, мы заблудились, мы не хотим зла, — добавил он по-человечьи. — Я вас слышу, а вы меня, — повторил он на их наречии.
Словно бы лезвие рассекло ему мозг пополам и засело так, что соединяло обе половины.
Тогда свисталы перестали петь, собрались в круг и, склонив головы, принялись пересвистываться. Потом они приблизились к Артегаллу, и одна с сомнением, негромко просвистела:
— Мы отнесем тебя в надежное убежище, там переночуешь. Мы тебя не тронем. Слышишь?
— Слышу.
— И приятеля твоего отнесем. Он цел и невредим. Очнется.
Три пары когтистых лап подхватили Марка и понесли прочь. Артегалл почувствовал, как чешуйчатые лапы впились и в его меховые одежды, как он взмывает ввысь — холод проник под капюшон — и свисталы мчат его на север, в темную даль, где гуляет ветер. И больше он ничего не помнил.
Очнулся он в глубокой пещере подле яркого костра. Марк спал рядом, льдистый кокон его уже растаял. Женщины-птицы расселись на уступах по стенам и чистили хищными клювами серые перья. Они угостили Артегалла похлебкой в высокой крынке — горькой серой жижицей. Они окружили его и забросали вопросами: кто он, откуда. Артегалл рассудил, что лучше отвечать без утайки, и признался: он Артегалл, принц Харены. Когда в столичную гавань вторглась черная армада, он со своими спутниками бежал на север — в живых остались лишь он, его служанка Доль Дрозди и Марк. Там, на севере, если верить преданиям, правит родич его отца Хамраскир Квельд-Ульф, и Доль уверяла, что там они найдут надежную защиту от соглядатаев и убийц, подосланных Мормореей из Барбасанга, — но, может, северная держава всего лишь легенда, прибавил он с сомнением. Он слышал о ней от Доль, когда она прятала его в корзине с грязным бельем. Доль клялась, что это чистая правда, но за время изнурительного пути уверенности поубавилось. Как знать, может, дальше и нет ничего — лишь ледяная пустыня да пляшущие холодные огоньки.
— Есть там такая страна, — произнесла свистала по имени Хванвит. — В долине средь ледяных гор, что лежит за этим краем. Называют ее по-разному: Хофгарден, Харреби, Веральден — Веральденом зовем ее мы. Испокон века там правят могущественные чародеи. Они умеют, когда пожелают, превращаться в волков и медведей и в этом обличье рыщут по бесплодным пустошам, обходят дозором рубежи своих владений, беседуют с духами ветра, слышат пришествие и отступление льдов. Оборотнями в Веральдене бывают только мужчины. Женщины долину не покидают, они учительствуют, прядут, ходят за садами и цветниками — все в долине да в долине. Нам же хотелось на волю, хотелось летать что есть духу, спорить с ветрами, бросить вызов снегам и мраку. Прельстив юнца, постигающего науку оборотничества, мы вызнали эти тайны, изготовили себе пернатое одеяние и ночью пустились летать с буйными ветрами. Покуда не взошло солнце, возвращались, пролетев над горной преградой, в долину, заплетали разметавшиеся волосы, надевали платья и туфельки и как ни в чем не бывало услаждали пением деревья в саду. Но нас выследили: сыскалась доносчица, и нам объявили, что мы себя опозорили. Разъяренная толпа сожгла наши платья перед городскими воротами, хотели было сжечь и нас. Мы вселили в их души опаску, уязвили рассудок их свистом, и все же они ославили нас негодяйками и нечестивицами и прогнали прочь, точно стадо гусей. Вот и живем мы здесь, где не живет ни одна живая душа, скрываемся от охотников и снежных орлов. Речи наши никто не слышит, и мы озлобились на весь свет. Ты первый, кто нас услышал.
Так они беседовали до глубокой ночи. Артегалл учтиво выслушал рассказ свисталы про их злоключения и изгнание, а потом вновь завел речь о своем: верно ли, что в Веральдене правит его родич Хамраскир Квельд-Ульф? Кажется, так, отвечали они, но от города они стараются держаться подальше.
— Впрочем, путь мы укажем, — обещала Хванвит. — Перенесем через ледяную пустыню, добудем вам пропитание. Ибо самая страшная опасность у вас на пути — не мы, а вековечные недруги человечества: холод, голод, мрак. Сколько уж кружим мы над этим краем — ни разу не видели, чтобы кто-то прошел из конца в конец. Хочешь — покажем груды костей, людей, вмерзших в лед и спящих там мертвым сном, останки бóрзых коней, ездовых собак. Мы было с путниками заговаривали, но всем, кроме тебя, пение наше несло только гибель. Уж ты расскажи Хамраскиру Квельд-Ульфу про нас и наши невзгоды — если сумеешь добраться.
И Артегалл, осмелев, спросил, не желает ли она снова сделаться женщиной. Нет, отвечала Хванвит, ни на что не променяет она трепет крыл на ветру и вольный полет среди туч в поднебесье. Но если в Веральдене ее примут с миром, она бы не прочь вернуться и, как бывало, попивать вино в кругу родных.
На другой день Доль Дрозди увидела, как в небе, затянутом хмурыми тучами, мчатся стрелой какие-то тени: одна, две, три, пять, восемь, одиннадцать, восемнадцать, — две, которые что-то несли, летели ниже других. Доль различила длинные шеи, острые-преострые клювы и выхватила из костра возле Последнего Дерева раскаленный железный прут: если уж суждено расстаться с жизнью, пусть эти твари дорого заплатят. И тут сверху донесся голос Артегалла: он велел ей не обижать свистал, они друзья, они помогут перебраться через ледяные просторы.
И девы-птицы понесли путников дальше, поделив ношу между собой и переговариваясь в полете ворчанием и шипением. Пролетали над унылыми кустарниками и замерзшими болотами, ночевали в подземных пещерах. Часто Артегалл подолгу беседовал с Хванвит, и все же Доль Дрозди свисталам не доверяла. Они казались ей злобными, желчными, вспыльчивыми, вздорными: того и гляди бросят на произвол судьбы и улетят восвояси. Ресницы у них шелковые, брови дугой, но взгляд нестерпимо нечеловеческий. О ней, Доль, они судили по каким-то неведомым ей законам и понятиям. Сейчас они помощницы и защитницы, но как знать, не вздумают ли они по каким-то своим соображениям напасть, заклевать, оглушить. Доль заметила: куда бы ни шел Артегалл, Хванвит не сводит с него глаз, а изящные птичьи головы ее сестер повернуты в ее сторону. Но что они при этом думают, Доль догадаться не могла.
Через много дней тягостного пути они различили сквозь волнистый холодный туман огромный горный кряж: каменные плечи-утесы и ледяную главу-вершину. Подлетев ближе, увидали они высокие каменные вехи, а дальше резные ворота — все это указывало на едва приметную излучистую дорогу, убегающую в ущелье. Свисталы опустили путников наземь и, потягиваясь и хлопая крыльями, закурлыкали, как видно с облегчением.
— Дальше нам нельзя, — сказала Хванвит. — Под страхом смерти. А вы ступайте в ущелье. Держите ухо востро и оказывайте уважение всякой твари, будь то хоть телки, хоть волки: здесь все не то, чем представляется.
Путники поблагодарили свистал. Артегалл хотел было обнять Хванвит, но та отпрянула и выгнула длинную шею.
— Я вас никогда не забуду, — пообещал Артегалл. — Никогда.
— Увидим, — отвечала Хванвит.
Вереи ворот обвивал резной узор из разнообразных изображений: волк и дракон, альбатрос и змея, улитка и заяц и, самое удивительное, бабочки на ветвях: откуда они в этом холодном краю? Друзья, поторапливаясь — ибо уже спускалась ночь, — вступили в ущелье. Свисталы в полумраке заметались, как стрелы, потом заклубились, как пчелиный рой, и — только их и видели.
Пробираясь в густеющем мраке по горной тропе, путники замечали, что по склонам вспыхивают и гаснут огоньки, точно сторожкие глаза или потайные фонари, подающие какие-то знаки. Своей охотой в ловушку лезем, думал Марк, ступая бесшумно и стискивая рукоятку кинжала. Впереди чернели кручи, звезды струили свой свет все скупее. Тропа, виток за витком, забирала вниз, к самой сердцевине горной страны. Пройдя изрядное расстояние, путники устроили привал, раскинули шатры из звериных шкур, улеглись вповалку и заснули будким сном.
Разбудил их крик петуха — звонкий, задорный, многократный: птица приветствовала невидимую зарю. Но вот над горами мутно забрезжила золотистая полоса. Когда совсем рассвело, друзья увидали, что расположились в теснине меж черных обледенелых базальтовых скал, а впереди, заслоняя долину, белеют стены города, по которым, кукарекая, расхаживает черный петух. Между зубцами стены на путников смотрели человеческие лица. Решетчатые ворота с блестящими петлями на вереях из цельных стволов были заперты огромными засовами. При начале пути Артегаллу воображалось, как в конце его он возгласит: «Я Артегалл, сын Барбадории, принц Харены и Южных Островов, прибыл навестить своего сородича!» Но он сказал:
— Мы три изнуренных странника, не согласитесь ли дать нам приют?
Дружно залились криком петухи, распахнулись тяжелые ворота, и Артегалл, Марк и Дрозди, отощавшие путники, закутанные в рваные шкуры, неся с собой Камнедрака, вступили в этот небывалый город.
Время, пространство — все здесь было иное. Широкие белые улицы, окна домов нараспашку, с балконов сбегают вьюнки, унизанные цветами — алыми и золотистыми, синими и лиловыми, деревья подставляют листву — друзья глазам не поверили — лучам летнего солнца. Камнедрак, который после минутного пробуждения у праздничного костра оставался неподвижной ношей, яростно задергался, расправил крылья и хвост, заморгал, повел ноздрями, ловко выскочил из заплечного мешка Марка и давай откалывать такие коленца, каких от него не ждали. Они прошли множество прекрасных улиц, за ними уже следовала толпа, но близко не подходила. Теплая одежда стесняла движения, и Доль Дрозди скинула капюшон и шапку, сняла тяжелый плащ, и Марк с Артегаллом последовали ее примеру. Идти стало легче, холодная кожа упивалась солнечным светом. Наконец они очутились на просторной площади, где высился чертог с колоннами, играли струями выстроившиеся крýгом фонтаны, сновали стрижи. На ступенях у входа в чертог стоял высокий-превысокий человек — такого великана Артегалл в жизни не видывал — с черной как смоль бородищей, черными кудрями, собранными, как виноградные гроздья, черными глазами, глядящими из-под кустистых черных бровей. Черное одеяние его было расшито узорочьем: то ли змеистые вьюнки, то ли вьющиеся змеи, зеленые с золотом, а еще алмазные цветы, блестящие аспидно-синие звезды, и солнца, и луны, и золотые яблоки. При бедре тяжелый меч в чеканных ножнах. Он сошел по ступеням и прижал к груди Артегалла, потом Марка, потом заключил в крепкие, но учтивые объятия Доль Дрозди.
— Добро пожаловать, — сказал он. — Привет вам, Артегалл, и Марк, и мистрис Доль. Мы вас ожидали. Я Хамраскир Квельд-Ульф, в этом городе вам рады, здесь вы в безопасности. Помойтесь с дороги, поешьте, а потом расскажете мне о своих приключениях. — И повторил: — В этом городе вы в безопасности.
И они в первый раз за все время странствий почувствовали, что от гнездившегося в душе страха нет и следа. Правду он говорит: здесь они в безопасности.
— На этом все. — Агата подняла глаза на собрание слушателей. — История заканчивается.
Воцарилось напряженное молчание.
— Все? — раздался голос Лео.
— Да, все.
Стояло лето 1968 года. Совместные чтения сказки Агаты начались два года назад, проходили — почти без пропусков — каждое воскресенье и продолжались вплоть до этого дня. История вилась долгими запутанными тропами и казалась нескончаемой. Среди первых слушателей были: дочь Агаты Саския, которой теперь исполнилось полных восемь лет, и Лео, сын Фредерики Поттер, которая снимала вместе с Агатой дом на Хэмлин-сквер в Кеннингтоне. Чуть позже к ним присоединились дети Аджьепонги с другого конца площади — Климент и Тано, сокращенно от «Атанасий». Чаще всего присутствовала и сама Фредерика, регулярно заходил Дэниел Ортон, священник (облачения он не носил), зять Фредерики. По роду занятий — слушатель, работал в телефонной службе психологической помощи при церкви Святого Симеона в Сити. То и дело заходили послушать еще двое — братья-близнецы Оттокары: Джон, знаток языков программирования, и Пол, предпочитающий имя Заг, солист группы «Заг и Зигги-Зигги-Зикотики». И вот все они были удивлены и даже оскорблены тем, как жестоко и неумолимо Агата использовала свои полномочия автора и рассказчика. Она закрыла тетрадь, на лице — привычное сдержанно-мягкое выражение.
Лео свирепо нахмурил рыжие брови:
— Это не все. Мы еще столько не знаем. Что со свисталами? Этот сородич Артегалла — он какой? И где его отец? Мы ждали, ждали, ждали, хотели узнать, а ты говоришь...
Саския в изумлении открыла рот. Ни звука из него, но бледная кожа побагровела и пошла пятнами. И тут раздался вой, полный первобытной ярости. Из зажмуренных глаз брызнули слезы, покатились по щекам. Агата коснулась ее плеча. Саския отшатнулась и уткнулась головой в грудь Дэниела, а тот обхватил ее своими большими руками.
— Почему? — только и смог выговорить Тано.
— Почему на этом месте? — спросил Климент.
Конец не понравился никому. Он поразил ударом предательского кинжала. Агата была потрясена силой общего смятения, но, не сказав ни слова, сложила руки на книге.
— Именно так я всегда и хотела закончить, — произнесла она уверенно, но не без трепета в голосе.
— Всем чаю!
Дэниел направился в кухню. Ставя чайник, он слышал голос Лео, ясный, совсем как у матери:
— Но ведь это не конец, то есть это не настоящий конец.
— А какой он, настоящий? — произнесла Фредерика. — В конец всегда меньше всего веришь...
— Нет, нет, нет, — слышался голос Лео на фоне рыданий Саскии. — Бывает хороший конец, а этот не такой, это не все...
Была у них не то чтобы семья: две женщины и дети, учащиеся в одном классе Начальной школы Уильяма Блейка. Они сошлись ради удобства. Фредерика сбежала от мужа и с трудом добилась развода. Обе были с притязаниями, но Агата достигла большего, быстро поднявшись в иерархии государственной службы — надежное место под солнцем, кабинет с собственным телефоном и секретарем. Личная жизнь держалась в тайне. Никто ничего не знал об отце Саскии, а Агата изредка ехидно замечала, что, только работая на британской государственной службе, женщина может быть не замужем и иметь троих детей, ни перед кем не отчитываясь. Но, кроме Саскии, других не было, а в нежелании Агаты говорить о личной жизни было что-то неестественное. Впрочем, Фредерике это подходило, ведь в компании женщины иного склада она нет-нет да и выложила бы все свои тайны. Или почувствовала бы соперницу. Но сдержанность и сухость Агаты раскрывали лучшие стороны Фредерики. В быту они друг друга поддерживали. Лео время от времени ездил в загородный дом к отцу. Фредерика и Агата помогали друг другу с детьми, с покупками, с приобретением книг, с новым хозяйством. И рождался своеобразный домашний уют. Лео и Саския дружили, а ссор было гораздо меньше, чем обычно между родными братом и сестрой. Агате и Фредерике тоже было проще, чем если бы они были сестрами. Дэниел, муж умершей сестры Фредерики, Стефани, часто об этом думал, но не знал, видит ли это Фредерика. К Агате никогда не приходили никакие родственники. В общем, все складывалось лучше, чем обе женщины изначально предполагали и надеялись...
Позже, готовя Лео ко сну, Фредерика думала о настоящих концовках. От каких концовок хочется плакать слезами счастья? В ее случае — от воссоединения родителей и детей, разлученных опасностью. Скажем, как в финале «Питера Пэна», когда дети возвращаются в свою комнату и в реальный мир. Или кульминация «Мы не собирались в море» [3], когда папа неожиданно появляется в голландской гавани, по ту сторону бурливых волн. Она облила водой крепкую спину сына, уткнулась носом в его влажные огненные волосы и подумала о Саскии, у которой не было отца — ни имени, ни истории, ничего. Даже вновь обретенный дядя, подумала Фредерика, кажется, чересчур для Агаты. Но что же будет с воскресеньями? Придется вернуться к чтению. Рассказчица из нее плохая. Интересно, а не думала ли Агата свою сказку издать? Показать бы Руперту Жако. Издатель, быть может, даже уговорил бы Агату написать продолжение...
Концовки. Фредерика ждала своего возлюбленного, гадая, чем закончится их роман. Ей стало казаться, что между началом их романа («роман» в этом значении — словечко старомодное, но слово «отношения» раздражало ее все сильнее) и непрестанным гаданием, как, почему и когда он закончится, есть только один, почти эфемерный миг благодати. Именно этот миг и зовется влюбленностью, и именно он — источник той ясной целеустремленности, той безличной и сосредоточенной энергии, которая так желанна, когда ее нет, и так пугающа, когда мы ее ощущаем. Уж в тридцать три года женщина знает, что именно вера в то, что это состояние может длиться вечно, больше всего и мучает. Днями, неделями, месяцами, в зависимости от обстоятельств, рассуждала Фредерика, натягивая белую хлопковую ночную рубашку и расчесывая рыжие волосы, мы и шагу не ступим, не видя перед собой образа любимого лица, не осязая в фантазиях любимого тела, а потом, в один прекрасный день, — все, ничего от любви не осталось. А что ее убивает? Бывает так (она погасила все огни, кроме прикроватной лампы, накинула покрывало): оказывается, мы сами или наш возлюбленный не соответствуют идеальному образцу, сложившемуся в голове задолго до того, как двое встретились. Мне нужен мужчина сильнее меня: утихомирит, образумит, обнадежит. Он, Джон Оттокар, хотел бы таким быть, а получилось так, что это я его успокаиваю и утешаю. Но тогда моя Любовь иссушается, и остаются только теплота и симпатия (она посмотрела в зеркало на свои угловатые очертания, скривила рот в гримасе, коснулась светлых волос). Любовь — это танец. Фигуры, фигуры — у дружбы их нет. Любовь всегда история выдуманная. Нечто непререкаемое, суровое, ярое (сама жизнь?) требует, чтобы мы верили в Любовь для его — не наших! — целей. И мы вступаем в сговор. Она вспомнила, как играла молодую Елизавету I, королеву-девственницу, которая была сильна тем, что находила безопасность в отстраненности и уединении.
Все это метафизика, думала Фредерика, ожидая, когда постучат в окно в коридоре цокольного этажа, на котором они жили. Защита на тот случай, если он не появится — а мы всегда этого боимся, даже если нам все равно.
Но месяц назад, полгода назад я не думала словами о том, что такое любовь. Я думала о его губах, заднице, ладонях. Такие, как я, слишком много думающие, всегда так рады, так благодарны, по крайней мере сначала, когда их вдруг одолевают мысли о губах, руках, глазах.
И когда стук раздался, она, выглядывая наружу, ощутила знакомый трепет. Бледная шевелюра, широкоскулое лицо, долговязое тело, улыбка сквозь стекло. Но вот вопрос: кто перед ней — любовник или посягатель? Сквозь стекло Джон и Пол казались Фредерике одним лицом. Иногда она не могла отличить их и без всякого стекла: замешательство длилось несколько мгновений, а иногда, когда хитрости Пола срабатывали, и дольше. Пол был третьим на их встречах, зримым или незримым. Пол слушал шаги, когда они входили и выходили. А мысли о нем — потому что Пол решил, что так и должно быть, — перемешивались в постели с запахом секса и витали в последующей тишине.
Фредерика и Джон использовали тайные знаки, установленные без слов, по которым она узнавала, что перед ней возлюбленный. И вот он дышит на стекло и выводит заглавную букву «Л», которая, Фредерика знала, означает не «Любовь», а «Лео».
Пожалуй, рано или поздно Пол, бесшумный и ловкий, как кошка, узнает, подглядывая через перила, и об этом. Она открыла дверь, в комнату хлынул ночной воздух, а Джон раскрыл объятия. И это был он — не ее образ возлюбленного, не ее представление о Джоне Оттокаре, а трудный, запутавшийся, со взъерошенными волосами и набухшим членом живой мужчина. Она опустила штору, в четыре руки они быстро раздели его и уложили на кровать.
Потом разговаривали. В основном в темноте — Джон отдыхал от работы, да и Фредерика старалась, чтобы в жизни Лео его не было слишком много. Так было лучше. Беда (кто знает) могла случиться, если бы Лео слишком привязался к Джону или, наоборот, невзлюбил его. Или если бы Джон счел Лео помехой либо обязанностью, или ей бы не понравилось, как он разговаривает с мальчиком. Они достигли той стадии (начала конца?), когда многое, о чем говорилось, было повторением сказанного раньше. Джон был человеком немногословным, порой даже совсем бессловесным. Красноречие его было красноречием кончиков пальцев и языка. А также новых языков электронно-вычислительных машин — Фортрана и Кобола, но в математике Фредерика ни бум-бум. На этот раз Джону было что рассказать. Ему предложили должность в Северо-Йоркширском университете. Писать компьютерные программы для ученых. Заведовать собственным отделом.
— Но это значит, что придется жить там.
— Да.
Фредерика почувствовала, как подступает тревога.
— Когда начинаешь? — произнесла она с нарочитым деловитым спокойствием.
— Известить надо за три месяца. Специалист им нужен как можно скорее.
Я ему больше не нужна, он уезжает, хочет все закончить — начала брать верх грубовато-простоватая часть Фредерики. И такая концовка — в ее представлении о его представлении — это же катастрофа!
— Мы не сможем видеться, — то был уже голос ее рассудка.
Но он начал говорить в то же мгновение и слова эти едва расслышал.
— Это большой шаг вперед. Много ответственности, но и много места для моих идей.
Думаешь о себе, пронеслось в уме, но она сдержалась. Только повторила:
— Мы не сможем видеться.
— Как сейчас — нет. Но разве плохо? Ведь куда мы идем, Фредерика?
— Никуда. — Резкость все-таки вырвалась. — Если ты вот так уезжаешь на другой конец страны.
— Я надеялся, что сильно ты переживать не будешь.
Быстрого, но честного ответа в голову не приходило. Сильно ли она переживает? Сейчас она как оставленный в лесу ребенок.
— Но если ты против, мы что-нибудь придумаем, — сказал он нерешительным, чужим голосом. — У тебя же там родственники. Это же не край света.
— Но я оттуда сбежала. Бросила Север. И живу здесь.
— Ну хорошо... — ответил он спокойно и бессмысленно.
Перед Фредерикой предстали все ее различные «я»: девочка, женщина, мать, любовница, одиночка. Сплетались и извивались, как змеи в тесном горшке. Она сменила тон:
— Хотела узнать, пойдешь со мной и Лео в воскресенье в Естественнонаучный музей? Ты ему рассказываешь то, чего я не могу...
— Не получится. У «Тигров духа» встреча. Пол хочет, чтоб я был.
— Почему ему всегда нужен ты? У него есть «Тигры», психотерапевтическая группа, его «Зигги-Зикотики». Почему всегда именно ты?
— Ты же знаешь. Я часть самой первой группы, из двух людей.
Вот об этом они говорили всякий раз, когда встречались.
— А что важно тебе, всем безразлично. И квакерам, и музыкантам, и психоаналитикам.
— Да. Но видишь ли, я из нас сильный. Как бы ни казалось со стороны.
— И это дает им право смотреть на тебя сквозь призму него?
— Я сам так на себя смотрю, Фредерика. Борюсь с этим, но безуспешно. Так было всегда.
— Знаю.
— Если не хочешь, чтобы я ехал в университет, я останусь.
— Я не могу тебе приказывать. Выбирай, как лучше для тебя.
Они не ссорились, но обоим было горько. Джон Оттокар больше не пытался заговорить, прикоснулся к ее груди, животу. Она повернулась к нему, и они еще раз отдались друг другу.
На следующий день Фредерика думала о том, что останутся только воспоминания-ассоциации. Его лицо за стеклом, четыре ноги как две пары ножниц. Почему мне так больно, ведь я не уверена, что для боли есть причина, ведь я могу представить себе жизнь без него очень ясно и точно?
Означало ли раздражение, что то наконец была Любовь?
Она подумала о Лео. Сын другого мужчины, уже частично сведенного к воспоминаниям-ассоциациям. Но Лео и ее сын. Отношения у нее с Лео странные: в ее худеньком теле нет места для материнской заботы и ласки. Но она горячо и безоговорочно признавала в нем личность и эту личность уважала.
Если будет нужно, иногда приходила мысль, она может даже умереть за Лео. Глупо о таком думать: или случится, или нет. Но она готова, и это изумляло.
[3] Приключенческий роман британского журналиста и разведчика Артура Рэнсома (1884–1967). Входит в цикл книг «Ласточки и амазонки», снискавший автору славу детского писателя. — Здесь и далее примеч. перев.
II
Улиток лучше всего наблюдать на рассвете, после дождя. Свет вокруг Гунгингап-Скара был будто насыщен водой, трепетной, переливчатой. Долины, пальцы исполинской перчатки, расходящиеся от Миммерс-Тарн, окутывались завесами и покрывалами влажного тумана, испаряющегося завитушками. Пробираясь сквозь эту влажную атмосферу, исследователи, как бы хорошо они ни знали местность, с удовольствием ощущали, что холмы текут, меняя форму, как волны, что будто из шерсти или пены внезапно выплывают крупные камни и перекрученные ветром изгороди, а ведь еще мгновение назад ничего не было. Капли воды на колючках и чертополохе, как призмы, переливались разноцветными огнями. А по мокрому дерну, по сухим каменным стенам плавно скользили улитки, плетя замысловатую сеть из серебристых лент: раковины блестели от воды, голубовато-серые полупрозрачные тела сверкали выделениями, тонкие рожки покачивались, пробуя воздух и разведывая обстановку. Нарядные раковины пестрели цветами: нежно-лимонные, розовые, черные с зеленоватым отливом, с темными спиралями, с кремовыми спиралями, с темными полосами на золоте, серовато-белые, как призраки. Большинство из них были Cepea nemoralis с густо-черной мантией, но у некоторых — очень схожих с ними, но немногочисленных — мантия была белая, и они относились к виду Cepea hortensis. На некоторых можно было различить блестящие голубые, зеленые или малиновые точки, поставленные последней группой ученых, чтобы отслеживать передвижение и дальнейшую судьбу.
Популяции улиток у Дан-Вейл-Холла и прилегающих известняков Гунгингапа изучали несколько поколений, начиная с работавшего в викторианские времена викария Ричарда Ханманби и школьного учителя, выдающегося конхилиолога-любителя Джозефа Манна. Лук Люсгор-Павлинс и Жаклин Уинуор пытались исследовать генетические особенности и биологическое разнообразие этих созданий, которые любезно носили свои истории-иероглифы на хрупких домиках, свернутых на спине. Они сравнивали частоту появления одной, двух и трех полос, темных и светлых раковин с данными их предшественников. Во времена Ханманби и Манна улитки были известны под именем Helix, а не Cepea, hortensis и nemoralis. Ханманби считал, что nemoralis и hortensis — разные виды. Манн уже сомневался. Он видел, что эти существа живут вместе и перемешиваются, но не раз наблюдал большое число обоих видов вперемешку высоко в ветвях буковых деревьев.
«Целью моей — в случае с теми особями, которые находились слишком высоко на деревьях, я прибегал к помощи полевого бинокля, поскольку благоразумие есть лучшая часть доблести, — было выяснить, являются ли брачные союзы между этими двумя видами обычным явлением или нет. В одной буковой аллее, покрытой раковинами, я насчитал шестьдесят счастливых пар, двадцать пять из которых были hortensis, а прочие — nemoralis. За все время наблюдений я не видел ни одного случая такого скрещивания — „черноротые“ неизменно спаривались с „черноротыми“, а „белоротые“ — с „белоротыми“. Существует также более мелкая разновидность H. hybrida, с розовым или коричневатым ртом, которую я вообще никогда в спаривании не наблюдал».
Цель диссертационного исследования Жаклин Уинуор (а работа была уже почти завершена) — выяснить, повлияли ли на изменения в популяциях — меньше полосатых раковин, больше одноцветных — наследственность и естественный отбор или непосредственные изменения в окружающей среде. Способствовала ли пестрота леса появлению полос? Какое влияние оказало недавнее сокращение популяции дроздов? Лук Люсгор-Павлинс более глубоко занимался генетическими вопросами, но полевая работа с популяциями улиток велась уже несколько лет и давала возможность выявить некоторые интересные (пусть и аномальные) закономерности.
Они споро работали вместе, бесшумно передвигаясь по влажной земле, отмечая количество и местообитание особей того или иного цвета и формы. Они работали на уровне улитки и со скоростью улитки, опрашивая кустики, переворачивая камни. Жаклин остановилась, чтобы сосчитать, собрать раковины, побитые и выковырянные дроздом у наковаленки, — преобладали темные и полосатые, в том числе несколько с зелеными пятнышками, которые были замечены не в лесу, а в живой изгороди между полем с курятниками и болотом. Лук двинулся дальше, в поле. И когда солнце рассеяло туман и прогрело землю, он почувствовал запах гари. Кто-то развел у стены огромный костер, опалил все поле и глубоко прожег землю. По краям пожарища были разбросаны обломки обугленных, просмоленных досок. Лук поднял две или три едва заметные почерневшие раковины, которые буквально рассыпались в пальцах. Очень неприятно, что бы это ни было. Как раз в том месте стены, где улитки особенно любили собираться и впадать в спячку. Он изучал, помимо прочего, возвращаются ли они в одни и те же места. Позвал Жаклин. Она подошла, и взгляд ее замер.
Для них пепел, пузырящаяся пропитка, выжженная земля были вандализмом и осквернением. В работе был важен каждый дюйм, а пожар уничтожил почти половину поля. Лук произнес:
— Да уж, скажется на результатах.
— Подумаешь, несколько улиток.
— Но в этой стене их было много.
Жаклин присела на камень. Лук положил руку ей на плечо. Руку она убрала и достала тетрадь. Начала набрасывать рисунок пожарища. Лук поднял взгляд и различил вдалеке фигуру, идущую через поле. Невысокая женщина в бриджах, а с ней — черно-белая овчарка и барашек. Шла она, неловко прихрамывая. Уже различая ее лицо, они заметили синяки и опухшие губы. Она несла корзину с яйцами, которые были аккуратно сложены в ряды, но, очевидно, только что из курятника. То была Люси Нигби, хозяйка Дан-Вейл-Холла и владелица земли, на которой они находились.
— Доктор Павлинс. Жаки. Доброе утро. — У нее был приятный голос.
О следах побоев не было сказано ни слова.
— Своим костром вы здорово подпортили нам исследование, — заметил Лук.
— Это не я. Помогала, конечно. Но это Ганнер. Он сделал для птиц новую батарею из гофролистов, там, где пойменный луг. И старые курятники мы сожгли. Они уже гнили. Об улитках я подумала, но ведь их полно повсюду! И здесь — не больше, чем где-то еще.
— Ну, на самом деле из-за того, что здесь стена...
— Ох, простите. Но Ганнер...
Она не договорила, да все и так понятно. Она позвала собаку по кличке Ширли и барашка по кличке Тобиас. Притрусили вместе. «В курятнике много яиц». Веко Люси быстро набухало вокруг глаза, и казалось, она подмигивает. Жаклин решила о курах ничего не говорить. Люси мрачновато заметила:
— Думаю, вы в своих исследованиях можете назвать Ганнера стихийным бедствием.
— Я бы предпочел живых улиток.
— Бедствие-то стихийное, что ему до ваших занятий, — ответила Люси Нигби и продолжила путь к дому.
Дом стоял в окончании самого длинного пальца «перчатки», рядом с озером Миммерс-Тарн, темным и глубоким, с берегом, заросшим камышом. Люси, урожденная Холдсуорт, получила имение по наследству. Она вышла замуж за Ганнера, потомственного мореплавателя из Стейтса, что к северу от Уитби. Он приехал помочь ей управляться с конюшней. Теперь же он управлял всей фермой, на которой разводили в основном овец местной породы, а еще кур, уток и гусей. Недавно он установил индюшачьи загоны, походящие на исправительные учреждения. Они сдавали в аренду пони для экскурсий. Худеньких таких. И Люси была женщиной худенькой, увядающей красоты. У них было трое детей: Карла, Эллис и Энни.
— Иногда, — сказал Лук, — мне кажется, что весь наш проект ничем не увенчается.
— Ну, он просто может стать бессрочным, только если кто-то не истребит всех улиток ядерной бомбой или чем-то еще.
— В любом случае собираем данные для твоей диссертации.
— Знаю. Я думала...
Лук до сих пор чувствовал непреклонность ее пальцев, смахивающих его руку.
— Я хочу попросить Лайона Боумена стать моим научным руководителем. Хочу заняться фундаментальной наукой. Изучать физиологию памяти. Можно было бы поработать с гигантскими нейронами у улиток, изучить проводимость... Хочется чего-то такого... максимально точного.
— Понятно. А чего вдруг?
— Не знаю. Просто кажется, что этим надо заниматься. Опять же Конрад Лоренц. По крайней мере, мысли эти пришли мне в голову, когда я читала его. Он отстаивал важность инстинкта, спорил с современными представлениями о том, что все — продукт окружающей среды, воспитания, а не врожденных рефлексов. И мне хочется в этом разобраться. А он писал — я читала, — что мы совершенно не знаем физиологических механизмов, лежащих в основе обучения. Вот оно, подумала я, мое следующее поприще. А Боумен как раз долго изучал зрение голубей.
— Звучит занятно, — отозвался Лук. — Правда, Боумен — неприятный человек.
— Это не важно.
— Важно. Всегда важно. Это стоит учитывать. Я буду скучать.
— По мне? Я все равно буду приезжать к улиткам.
— Я давно хотел тебе сказать...
— Не надо.
— Ты же не знаешь, что...
— Все равно. Не надо.
Лук протянул руку. Жаклин отстранилась, слегка, ровно настолько, чтобы их тела не могли соприкоснуться. Брачные игры наоборот, подумал он, ритуальный акт избегания, отточенный ею и опознанный им. Он вспомнил работы Лоренца по поведению животных. Не идущие на контакт самки, как правило, кусаются, царапаются или рычат. Эта же просто сделала шаг-два в сторону. Признаки вполне однозначные — она его не хочет. При этом Лука, как ученого, удивляло то, насколько сильно, учитывая недвусмысленную ясность ее скрытых сигналов, хочет ее он.
Она вновь принялась вырисовывать в блокноте выжженную землю. Он стоял у стены и смотрел на пустошь. Он часто думал, что можно было бы стать объектом своего рода научного эксперимента по изучению неудавшейся любви или неисполненного желания. Научное объяснение его собственного поведения таково: самцы похожих видов — бабуинов, шимпанзе — не думают ни о чем, кроме секса и соперничества, и они самок в кучу сгоняют и принуждают. Но это никак не объясняло его уверенности в том, что Жаклин для него — та самая, единственная, его неспособности поступить рационально и найти другую, более покладистую, более отзывчивую. А Жаклин стала для него единственной сразу, хотя в момент их знакомства была еще совсем девочкой, опрятной, но ничем не примечательной. Вероятно, эти механизмы сродни импринтингу. Феромоны сводят с ума от желания, но при чем тут годы ожидания без всякой надежды? Он вспомнил о птенцах лебедя, которые вылезают из скорлупы и принимают за своего родителя гуся, утку или сумку-тележку с гудком.
Он рассматривал барашка Люси Нигби, Тобиаса, который вырос у нее буквально на руках и, конечно, считает себя чем-то средним между человеком и овчаркой. Но люди, искавшие безнадежной любви, обычно находят ее, когда уже достаточно самостоятельны. Быть может, какая-то примитивная клетка мозга ждет, когда ее воспламенят черты лица, абрис бедер, тембр голоса, уже заложенные в голове с рождения и ждущие своего часа? Движения у Жаклин — быстрые и аккуратные, карие глаза смотрят прямо и живо, но она — не Елена Прекрасная, не властительница самцов своего вида, притягивающая, как мед — шмелей или свет — мотыльков. Еще один ее ухажер — вялый и замкнутый, нервная мужская версия того самого ритуального избегания. Жаклин «всегда» была привязана к Маркусу Поттеру, еще до того, как он, Лук, с ней познакомился. Маркус — мужчина, которому женщина нужна, чтобы проверять, не застегнул ли он рубаху не на ту пуговицу, не надел ли разные носки. Невнятный, тщедушный, бледный. В постели он, нет сомнений, способен лишь на беспомощные тычки. Жаклин, конечно, уже не девственна, но это произошло не с Маркусом Поттером. Еще тайна. С другой стороны, она смотрела на него с нежностью или надеждой...
Другая любопытная сторона неудачной любви — способность противостоять разуму — разумному наблюдению за инстинктивным поведением — и терпеливо ждать изменения обстоятельств. Лук встречал не так уж много случаев — да был ли хотя бы один? — когда объект безнадежных страстей вдруг делал кульбит и начинал любить отвергнутого. Да, бывают печально-покорные решения смириться со вторым сортом (как у мужчин, так и у женщин): все нормально, но целые пласты самых пылких, потаенных «я» любящего и любимого навсегда остаются в дремлющем состоянии. Откуда он все это знал? Наблюдал. Можно проводить эксперименты с человеческой любовью ровно так же, как с обезьянами или кроликами, синицами или оленями. Можно, подобно врачам-героям, заразить или привить себя различными штаммами этой болезни (понять бы только, как их «собрать»). Хотел ли он излечиться? Нет, он хотел получить Жаклин. Он не без язвительности подумал, что и чистый разум, и слепой инстинкт самосохранения (не говоря уже о необходимости разнести свое семя и стать предком) требуют отказа от этой явно бесполезной затеи. Солнце поднялось выше над пустошью, и Лук с любовью посмотрел на Жаклин, сидящую в выгоревшей траве и вереске.
Жаклин пыталась сосредоточиться на рисунке. Она не любила никого расстраивать. И больше других — Лука. Впрочем, мысли эти шли по касательной к ее сосредоточенности на идее электрической проводимости и практических способах изучения деятельности гигантских нейронов. Жаклин Уинуор, как и Фредерика Поттер, была женщиной целеустремленной. Но к своим устремлениям она пришла почти случайно, одно зацепилось за другое. Она выросла в пригороде Калверли, в семье провизора и воспитательницы, которые радовались ее хорошим оценкам в школе, но никогда не говорили: «Ты поступишь в престижный университет», а тем более «Ты станешь ученым» или «Ты будешь совершать открытия». Ей казались полезными уроки природоведения, а то, что Жаклин с головой ушла в изучение природы, характеризовало ее как добрую, бесхитростную, увлеченную натуру. Родители Жаклин и сама она считали это интересным увлечением на досуге. В конце концов, она выйдет замуж и родит детей, и это увлечение окажется кстати, чтобы учить детей познавать мир. Жаклин, в отличие от Фредерики, не всегда была лучшей в классе и никогда к этому не стремилась. Но училась она хорошо, и стало ясно, что надо поступать в университет — этого ждали в школе, да и в Жаклин к тому времени проснулась подспудная тяга к знаниям.
При этом в голове у нее все еще мелькала стандартная картина: встретит «правильного мужчину» и сочетается с ним браком в буйстве свадебной фаты и органной музыки. А пока она училась — отчасти из физиологического любопытства, отчасти потому, что так полагалось, — и поддерживала бесцельную, но глубоко укоренившуюся связь с Маркусом Поттером, с которым она не спала и по отношению к которому испытывала отчаянную материнскую ответственность в сочетании с уважением к его герметичному, гудящему математическому уму. Маркус был не совсем от мира сего, не совсем настоящий, и Жаклин, по мере того как она начинала понимать масштаб своих собственных устремлений, начала подозревать, что выбрала его именно по этой причине. Он был настолько невероятным претендентом на место среди цветов, фаты и органа, не говоря уже о с нежностью приготовленных ужинах при свечах или гигиенических процедурах в ванной, что она могла продолжать работать, ставить на первое место экзамены, диссертацию, улиток, а теперь и физиологию памяти, не считая себя ненормальной. Ей нужно было казаться ненавязчивой и обычной. И ни о чем таком не думать. Работа идет лучше (по крайней мере, если вы женского пола), если никто на вас не обращает внимания.
Школьница Фредерика знала, что станет кем-то, знала, что на нее будут смотреть, слава коснется ее, люди будут узнавать на улице. Она хотела всего — любви, секса, интеллектуальной жизни. Она попыталась создать семью, родила Лео и как могла зарабатывала себе на жизнь. Жаклин считала себя существом менее приметным, чем блистательная сестра Маркуса. Но она начинала ощущать неумолимую силу собственной любознательности, желания узнать еще что-нибудь, а потом еще и еще. Это ощущение жило в глубине ее души светозарным драконом, которого нужно питать, а пренебрегать им опасно... Следующим шагом было объяснить все Лайону Боумену. А Луку она хотела сказать: «Ты для меня слишком хорош. Я не смогу уделять тебе нужного внимания». Но лучше промолчать. Лук, с надеждой подумала она, перенесет все на другую, и тогда они смогут спокойно жить дальше.
Луку снился один и тот же сон о Жаклин. В нем она была — во всяком случае, в отдельных фрагментах — бурой птицей. Чаще всего чудесной, дымчатой, коричневато-черной самкой дрозда с острым золотым клювом и золотыми глазками — у настоящей Жаклин они карие. Часто птица эта была размером с крупного фазана, гордая и быстрая. Она появлялась среди Cepea nemoralis, когда он ждал Жаклин в привычном обличье, и принималась собирать ракушки и складывать на камне-наковаленке. Он знал (сон был простой), что ему не следует подкрадываться, и все же подкрадывался, а она наблюдала за ним, склонив набок головку в темных перьях и сверкая золотым клювом. Иногда, не часто, птица вытаскивала улиток из раковин, и они, извиваясь и вытягиваясь, свисали с клюва. Однажды он обхватил ее руками, и на миг показалось, что она почти угнездилась, теплая и пушистая. Затем он почувствовал, как сердце бьется все быстрее, и понял, что должен отпустить ее или убить, и проснулся, мучимый необходимостью принять решение. Сон очень простой, размышлял он. Но простое толкование не годится. Бурые перья, настороженность, лапки-прутики, гул крошечного встревоженного сердечка изменили его, изменили ее образ. Он размышлял об этом и с научной точки зрения. Если ей все-таки удастся проникнуть в хранилища памяти мозга, узнает ли она, как в черепе спящего мужчины женщина превращается в птицу?
