автордың кітабын онлайн тегін оқу Дева в саду
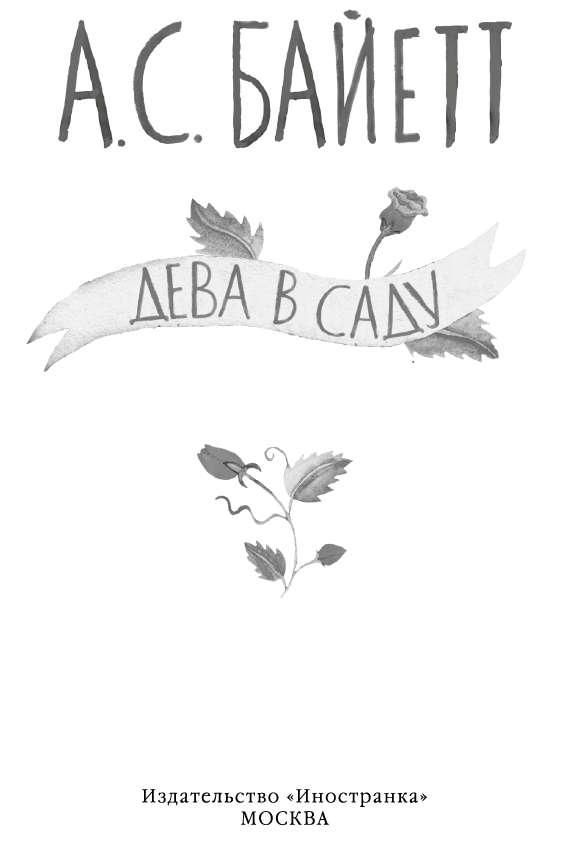
Роман густой, сложный, с большим замахом, до отказа наполненный совершенно особой энергией... Выдающееся достижение.
Айрис Мердок
Антония Байетт — английская достопримечательность, как Тэтчер, Тауэр и файв о’клок.
TimeOut
Байетт не умеет писать скупо. «Квартет Фредерики» — богатейшее полотно, где каждый найдет что пожелает: подлинный драматизм, пестрые капризы истории, идеи, над которыми стоит поломать голову... Едкий юмор, крепкий сюжет, персонажи, которым сочувствуешь, и, конечно, великолепный язык.
The Times
В ее историях дышит тайна, живет страсть, пульсирует древняя магия.
Marie Claire
Амбициозный роман умного автора. Интеллект и кругозор Байетт поражают.
Times Literary Supplement
Только у Байетт обсуждение сложных философских вопросов может звучать так человечно, тепло и жизненно важно.
Scotsman
Герои Байетт останутся с вами еще долго после того, как вы перевернете последнюю страницу.
New York Times
Непростая книга. Ее нельзя походя похвалить, от нее нельзя отмахнуться. Она явно, неопровержимо хороша — и требует самого глубокого внимания.
Financial Times
Антония Байетт — один из лучших наших писателей, умеющих насытить и ум, и душу.
Daily Telegraph
Байетт принадлежит к редким сегодня авторам, для которых мир идей не менее важен, чем мир страстей человеческих... Байетт населяет свои книги думающими людьми.
The New York Times Book Review
В лучших книгах Байетт груз интеллектуальных вопросов кажется почти невесомым благодаря изящно закрученному сюжету и сложным, неоднозначным, бесконечно близким читателю персонажам.
The Baltimore Sun
Перед вами — портрет Англии второй половины XX века. Причем один из самых точных. Немногим из ныне живущих удается так щедро наполнить роман жизнью.
The Boston Globe
Байетт — Мэри Поппинс эпохи постмодерна. Чего только нет в ее волшебном саквояже! Пестрые россыпи идей: от Шекспира до Дарвина, от святого Августина до Фрейда и Витгенштейна. Яркие, живые характеры. И конечно, головокружительная смесь тем, загадок и языковых уловок.
Elle
Байетт как никто умеет высветить эпоху до мельчайших деталей. Мастерски используя все богатство английского языка, она являет нам надежды и сомнения, поражения и победы героев, которые надолго запомнятся читателю.
Denver Post
«Дева в саду» — современный эпос сродни искусно сотканному, богатому ковру. Герои Байетт задают главные вопросы своего времени. Их голоса звучат искренне, порой сбиваясь, порой достигая удивительной красоты.
Entertainment Weekly
Байетт — несравненная рассказчица. Она сама знает, о чем и как говорить, а нам остается лишь, затаив дыхание, следить за хитросплетениями судеб в ее романе.
Newsday
Литература для Байетт — удовольствие чувственное. Ее бунтари, чудаки и монстры абсолютно достоверны.
Town & Country
От богатства повествования подчас захватывает дух. Байетт — это безупречный интеллект, беспощадная наблюдательность, четкие и правдивые портреты героев.
Orlando Sentinel
Мало кто сравнится с Байетт в мудрой зоркости к жизни.
Hartford Courant
Чтение русских писателей многое сообщает о том, что такое роман. Русская классика поражает, и если ты читаешь ее в молодости, кажется, что тебе ничего похожего не написать. Вот почему нельзя ее не читать — она открывает иные горизонты... Я пишу ради языка и еще — ради сюжета.
А. С. Байетт
Посвящаю эту книгу моему сыну,
Чарльзу Байетту
(19 июля 1961 г. — 22 июля 1972 г.)
Я выражаю благодарность газете «Таймс» за разрешение привести во второй части книги статью «На заре года», а также издательству «Рутледж и Киган Пол» и Издательству Принстонского университета за разрешение процитировать в главе 34 отрывок из работы К. Г. Юнга «Психология и алхимия».
Пролог
Национальная портретная галерея, 1968 г.
То ли под влиянием минуты, то ли из запоздалого желания ранить, она пригласила Александра в Национальную портретную галерею послушать, как Флора Робсон читает стихи Елизаветы I. Он хотел отказаться, но вместо этого согласился и теперь стоял перед галереей, разглядывая закопченные буквы на фасаде. Дело было на вечеринке с нелепым набором гостей, и она, заодно уж, позвала остальных. Все отказались, кроме него и Дэниела. Некий юный художник даже изрек: его отвращают сами слова «национальный» и «портрет», так что он — пас. Это не моя тема, добавил непреклонный юноша. Это тема Александра, твердо сказала Фредерика, и тот было заспорил, хотя галерею любил. Так или иначе, вот он здесь.
Он задумался о двух словах, некогда весомых, а ныне заштатных: «национальный» и «портрет». Оба подразумевают единственность, неслиянность с другими культуры или человека как объекта живоподобного изображения. Оба немало значат для него или, по крайней мере, значили. Он стал смотреть по сторонам и незаметно увлекся: с точки зрения эстетики это было довольно забавно. С растяжек, рядком привязанных к полукруглой черной решетке, глядели малокровные копии портрета Елизаветы Тюдор, некогда принадлежавшего Дарнли: бледный коралл и золото, белила и сторожкая надменность. Все вместе возвещало: «Люди. Прошлое. Будущее».
По пути сюда лорд Китченер [1] не раз уставил на него укоризненный перст с вербовочных плакатов Первой мировой. Попался магазинчик под странной вывеской «Я был камердинером лорда Китченера»: поддельный брик-а-брак имперских времен, а вместо призывных горнов — вездесущий стон и дребезг электрогитары. На Шефтсбери-авеню другой плакат: монструозный тыл дюжего рабочего, по пояс голого, а ниже затянутого в красно-бело-синие бриджи. Поперек бугристых от натуги плеч было выведено: «Подставим плечо Британии!»
Александр стоял у подножия лестницы, а наверху перетекал бродячий галерейный люд, незаметно обзаведшийся новыми, то ли библейскими, то ли буддийскими, лицами. Тут были и сандалии «под Христа», и вышитые хламиды, и звон украшений, и внезапные порывы пения, нарушавшие порой просветленное затишье.
Он вошел внутрь. Ее внутри не оказалось, чего, конечно, следовало ожидать. А галерея изменилась. Впрочем, он и сам давно уже здесь не бывал. Викторианскую солидность красного дерева и добротной кожи потеснила на время мишурная пышность театральных подмостков. По сторонам парадной лестницы темно и густо засияли альковы с портретами гигантов тюдоровской поры. Что ж, неплохо. Он пошел наверх взглянуть на портрет, принадлежавший Дарнли, но его унесли по случаю представления. Александр остался на банкетке созерцать другую Глориану [2], окормляющую английские графства и в солнце, и в бурю, — она вся была из плотных мазков, из охры и кремзерских белил, отягченная стеганым шелком, увенчанная париком из конского волоса, крашенного хной, подпертая и удушаемая китовым усом.
Между ним и картинами протекала толпа. Казалось, это были те, кому не хватило места на лестнице, — то же многообразие оболочек и однообразие типов. Снизу грязные ноги в сандалиях, наверху бороды: шелковисто-гладкие, пышно-растрепанные, свалявшиеся. Сари и шафранные одеяния восточных монахов. Мундиры Вьетнамской и Крымской войн: цыплячий пушок на скулах, цыплячьи шеи торчат над золочеными воротниками и потертыми эполетами. Девицы с резиново-тугими телами, в серебряных колготках и сапожках, в серебряных юбочках, пляшущих вместе с крепкими задками. Вялые девы в черном бархате: бессильно повисшие сумочки из металлических чешуек, бумажные цветы в завитках и завесах париков. По несколько экземпляров Жорж Санд и мадемуазель Сакрипант: неизбежные мужские брюки, кружевные манишки и бархатные береты. Вот шелестят мимо бесполые люди в хламидах из индийских покрывал с криво напечатанным рисунком — сколько этой экзотики пылилось на приморских чердаках его детства! В руках новые миски для подаяний, штампуемые где-нибудь в Варанаси, на шеях стадно позвякивают бубенчики — тоже новенькие. Он видел такие на уличных лотках, и всякий раз с табличкой, сообщавшей, что бубенчик символизирует отрешенность от всего внешнего.
Облаченные в английские макинтоши, английский твид и английский же кашемир, американцы истово пролагали дорогу в толпе, электризуемые бормотанием карманного гида, поступающим по проводкам в пластиковые наушники. Гид, без сомнения, нашептывал им, что образы английского Ренессанса сочетают в себе иконописность и реализм. Лет на двести отстав от невесомо-незыблемых восторгов Высокого Возрождения, этот стиль кажется грубым и варварским, но он уже начинает осознавать себя — светский стиль, новое начало после иконоборческих излишеств молодого Эдуарда VI, у которого на площадях полыхали и потрескивали ангелы, Богоматери и Младенцы, сжигаемые во имя логического Абсолюта — Бога, не любящего образов.
Глядя на портрет Кромвеля и на юношей в чужих мундирах, Александр задумался о сути современной пародии. Ему, не понимавшему и не любившему ее, она казалась бесцельной и беспредметной. Остроумцы имитируют все подряд, движимые нехитрой смесью эстетского любопытства, ностальгии и глумливой тяги к разрушению, — быть чем угодно, но не собой, не здесь и не сейчас. Эти псевдосолдатики — отрицали они войну или втайне желали ее? Или они сами не знали? А может, это был продуманный «художественный манифест» на тему прикрытого и неприкрытого человека? [3] Или продолжение детской игры в наряжалки, только уже с истерическим оттенком? Александр очень неплохо знал историю моды, определенный шов или крой мог соотнести с традицией или прихотью таланта не хуже, чем стихотворный размер или авторский вокабуляр. На собственную одежду и поэзию он смотрел через ту же призму тонких модуляций и неявных нововведений. Но уже с тревогой думал подчас, что настоящей жизни нет ни в том ни в другом.
И все же в свои пятьдесят, в хорошо сшитом костюме из оливкового габардина, кремовой шелковой рубашке и золотистом галстуке с хризантемами, Александр был красив.
Вопреки здравому смыслу он решил снова поискать Фредерику снаружи, но приостановился на галерее над лестницей. Внизу висел портрет покойного короля Георга VI, его королевы и двух принцесс c подкрашенными карминовыми губами, в скучноватых платьях и туфлях с ремешком. Все четверо совершенно терялись на огромном холсте, занятом в основном бледно-зеленой — «в хорошем вкусе» — стеной да блеском золотых канделябров и серебряных чайников в одной из гостиных Виндзорского дворца. Прямо перед картиной Фредерика, уклоняясь и петляя, исполняла с неизвестным мужчиной нечто вроде танца вокруг треугольной стеганой банкетки. Мужчина, крупный и укороченный перспективой, состоял из блестящего черного винилового плаща, топорщившегося на выпуклых местах, и массы светлых прямых волос с легким отливом, как на охлажденном сливочном масле.
Вот незнакомец поймал Фредерику за запястье. Она поднялась на цыпочки, что-то шепнула ему, чмокнула возле уха и выскользнула. Он на прощанье широкой ладонью провел по ее спине и ласково задержался чуть ниже — жест явной и полной близости. Потом, не оборачиваясь, стал проталкиваться к выходу. Фредерика засмеялась и двинулась наверх. Александр отступил.
— Ах, вот ты где! Дэниела не видел? Удивительно, как это он согласился прийти.
Александр промолчал, потому что Дэниел как раз шел к ним — толстый, в черных вельветовых брюках и черной водолазке. Приблизился тяжелым шагом, приветственно кивнул.
— Ну вот и дивно, все собрались, — сказала Фредерика. — Вас на входе одарили?
В правой ее ладони лежал зеленоватый зеркальный квадратик, возможно крохотная плитка для ванной, а в левой — смятый розовый бумажный номерок: на одной стороне цифра «69», на другой лиловыми чернилами напечатано: «Люби!»
— А меня одарили, и, можно сказать, насильно, блондинистая Покахонтас и ковбой с зеленым козырьком для глаз. Что это, шутка или некий манифест?
— То и другое, — сказал Александр. — Наши манифесты обряжены, как шутки, зато к шуткам своим мы относимся исключительно серьезно. Помещаем их в рамы и развешиваем в галереях. Великий английский юмор вперемешку с американскими комплексами, западным абсурдизмом и заносчивостью Востока, где прояснение ума достигается ударом по уху. Ваши глубокие манифесты утверждают собственную абсурдность, проистекающую, впрочем, от некой еще большей глубины мысли. И так по кругу без конца.
— Ты мне напомнил! — перебила Фредерика. — Ты знаешь, что тебя включили в список чтения для обычной средней школы? Они должны в таком случае спрашивать у тебя разрешения?
— Перестань, — поморщился Александр.
Фредерика повертела в руке зеркальный квадратик:
— Что же мне с ним сделать?
— Можешь носить с собой, как символ гордыни, — предложил Александр. — Или самопознания.
Фредерика поднесла стеклышко к глазу:
— В него мало что видно.
— Убери в карман, — сказал Дэниел. — Раз уж взяла.
— Я взяла из вежливости. Из нашей знаменитой английской вежливости.
— Вежливость велит без фокусов убрать его в карман.
— Будь по-твоему.
Стулья для зрителей были расставлены на одной из длинных галерей. Тут были совсем другие люди. Александр забавлялся, считая влиятельных женщин: великая актриса и кавалерственная дама Сибил Торндайк милостиво опустилась в кресло-трон, придвинутое Роем Стронгом, тогдашним директором Галереи, знатоком иконографии Елизаветы Тюдор, а может, и поклонником Королевы-девственницы в самом языческом смысле. Чуть откинув голову, с выражением суровым, но благосклонным восседала кавалерственная дама Хелен Гарднер, профессор Оксфордского университета, специалист по ренессансной литературе. Была тут и леди Лонгфорд, биограф королевы Виктории. Александру показалось даже, что позади нее он разглядел крупный силуэт погруженной в раздумья Фрэнсис Йейтс, чья работа о Деве Астрее [4], как он понимал теперь, изменила ход всей его жизни. А вот и знаменитая историческая писательница Антония Фрейзер в сопровождении коренастой дамы в плаще. На леди Фрейзер была юбка от Ива Сен-Лорана, высокие сапоги мягкой замши, а к ним жилет и шляпа — результат многоступенчатой модной эволюции кожаных одеяний ковбоев, индейцев и звероловов.
Над установленной внизу сценой висел портрет, принадлежавший Дарнли. Леди Фрейзер рассматривала его критически, сохраняя, впрочем, на лице безукоризненно корректное выражение. Ее симпатии, видимо, лежали в иной сфере, хоть Александр капризом воображения и превратил ее в современную Бельфебею: золотистые волосы, кожаная одежда, память небывших охот. А коли так, Фредерика в чем-то вроде вязаной кирасы из блестящей серой шерсти и в сапожках с металлическим отливом вполне могла сойти за Бритомарту [5]. Даже волосы ее походили на бронзовый шлем, впрочем, не ренессансных линий, а скорей в стиле космической эры. Александр отвернулся и стал смотреть на Елизавету: то был его любимый портрет королевы.
Перед ним был образ ясный и сильный. В легком платье тугого молочного шелка, расшитом золотыми ветвями, украшенном по корсету шарлаховыми кисточками и небрежно приколотой двойной нитью жемчуга, королева глядела с затаенным пылом юной девушки. Небрежно застывшие руки являли все свое изящество. Королева то ли слегка покачивала, то ли сжимала — наверняка не понять — круглый веер из рыжих, коричневых, черных перьев. Этот крепко закрученный маленький темный вихрь намекал на страсть, на ураган движения, смирённый ради портрета. Постепенно пристальному взгляду открывались двойные знаки, выходящие за пределы очевидной двойственности женщины-монарха. Ярко набеленное лицо было молодо и надменно. Но стоило взглянуть иначе, и оно вдруг делалось костистым, белесым, бесцветным. На этом лице без возраста черные глаза под тяжкими веками смотрели мудро и холодно.
С портретами Елизаветы Тюдор обращались как с иконами или колдовскими куклами. Мужчины гибли за то, что покушались на них: резали, жгли, протыкали кабаньей щетиной, погружали в яд...
Елизавете, конечно, было страшно, но головы она не теряла.
«Несомненно, — думал Александр, — за этим портретом — подлинная личность. Но Елизавета подобна Шекспиру: столь явный избыток силы вызывает странную смесь чувств. Идолопоклонство и иконоборчество, любовь и страх, а с ними — потребность смягчить, приуменьшить не только инаковость, но и простую человеческую суть монархини и поэта. Тут-то идут в дело исторические анекдоты и бессмысленные теории. Шекспира не было. Под его именем писал Марлоу, Бэкон, де Вир или сама Елизавета. Елизавета не была Королевой-девственницей. Она была Блудницей Вавилонской или Лондонской, матерью втайне прижитого ребенка, мужчиной, Шекспиром, наконец. Александр однажды с большим удовольствием прочел книжицу с хвалебным предисловием Гарднера, в которой было «доказано», что шекспировские пьесы — тайный плод брака меж королевой и Англией, а также двойной клятвы: целомудрия (принесена в 15 лет) и верности литературе (принесена в 45). В основе теории лежало следующее положение: королева была достаточно образованна, чтобы располагать, во-первых, необходимым обширнейшим вокабуляром (по разным оценкам, от 15 до 21 тысячи слов), а во-вторых — отрицательной способностью [6]. Примером последней, по мнению автора, служило умение королевы вечно поддерживать вопросы войны, казны и возможного замужества в состоянии напряженной неразрешенности. Елизавета, конечно, скрывала свое авторство, дабы снискать непредвзятую критику и избежать обвинений в небрежении монаршим долгом.
Александр тайком улыбнулся. Если Шекспира, как и Гомера, непременно нужно было обрядить женщиной, то Елизавету энтузиасты, включая многих его современников, вечно стремились сделать мужчиной. В мальчишеские годы эта мысль волновала его невыразимо, куда больше слухов о бастарде, прижитом от Лестера и спешно сбытом с рук: под фижмами мощно играли жилы и сухожилия, в шелестящем шелку скрывались мужские мышцы и прочее мужское. Повзрослев, он стал этот тайно манящий образ ассоциировать с образом Природы у Спенсера, что «съединивши два начала», «без пары не грустит нимало». Весьма удовлетворительное состояние, особенно в сфере фантазий.
Актеры выходили и уходили. Зрители хлопали. Флора Робсон, простоватая, в простом черном платье, прочла стихи самой королевы:
Как тень моя, всегда любовь со мной.
Играет в прятки, в руки не идет... [7]
Потом читала воспоминания о пышной коронации Елизаветы, о ее необычайной щедрости к простому народу. Читала ее речь, обращенную к солдатам в Тилбери... [8]
В тихой глубине души Александр был тронут. Фредерика — отнюдь. Подача Робсон была чересчур мягкой и женственной. Жесткие контрасты в духе Петрарки она облекала в текучий голос с викторианской тоскливой ноткой. И этот голос, богатый, молящий, правдивый, дрогнул на самой известной и яростной фразе: «Пускай тело мое — тело слабой женщины, но сердцем и нутром я — король». Она тут целиком женщина, раздраженно подумала Фредерика, самая заурядная женщина в кухонной перспективе. Домохозяйка в парче. Такую королеву без регалий не отличить от актрисы. Тут великая проза, страстный, яростный ритм — а Робсон изображает «человеческую интонацию» и «естественное течение речи». «Я не так привязана к жизни, чтоб жаждать ее продолжения, и не вижу в смерти достаточной беды, чтоб ее страшиться, но как знать: если Смерть занесет надо мною руку, может, кровь и плоть моя воспротивятся и пожелают ее избегнуть...» Фредерика задумалась: как произносились все эти речи? С той же совершенной звучностью, что представляется ей? Или с волнением, с паузами, с запинками? Может, потом, на бумаге, их дополняли и шлифовали для потомков, в числе которых и сама Фредерика?
Какие-то актер и актриса дуэтом прочли неизвестное Фредерике стихотворение: «Песнь Ее Величества Королевы и Веселого Английского края»:
Приди ко мне, милая Бесси,
Спеши ко мне через ручей!
Я тебя обниму и женой назову,
Драгоценной супругой своей...
И еще потом:
Наследница моя,
Тобой пленился я —
Английский край веселый...
Память словно дернула ее за рукав: «Спеши ко мне, милая Бесси, спеши ко мне через ручей»... Фредерика мгновенно оживилась. Когда актеры дочитали, она, в свою очередь, дернула за рукав Александра:
— Это же «Лир»! Лир судит отсутствующую дочь за предательство, и Эдгар говорит: «Плыви ко мне, Бесси, через ручей» [9]. А Шут отвечает:
Но есть в лодчонке течь.
Завесть об этом речь
Нет смелости у ней [10].
Я в сносках всегда читала, что это про сифилис. Это ведь было опасно — вписать «ручей» в стихи о королеве?! Кощунство или вроде того?
— Вещь написана под конец ее правления. Все боялись, что страну разорвут на части — как Лир разделил свою. Упадок монаршей мощи и Веселой Англии.
— Она архивариусу Тауэра сказала: «Я сама — Ричард Второй». Свергнутый Ричард, понимаешь?
— Понимаю.
— Естественно, это же есть в твоей пьесе. Я, наверно, оттуда и знаю эту фразу.
— Наверное, — сказал Александр, охваченный невыносимой грустью. Лучше бы он никогда не писал этой пьесы. Сейчас пред лицом королевы на полотне он был как мужчина, неудачно посягнувший на женщину: никакие иные отношения с ней были для него невозможны.
— Если бы я мог написать ее заново, то сделал бы все совсем по-другому.
— Так напиши, кто тебе мешает?
— Ну нет.
Время для Александра было исключительно линейно. Счастливые случаи не повторялись, они возникали и исчезали навсегда. Он думал порой, что приемами более современными, более опосредованными можно было бы дать Деву, сад, сегодняшний день и Англию, избежав как лишних сантиментов, так и резкой иронии. Но пробовать не собирался.
— А тогда пьеса была хороша. В начале. Мы все пели, танцевали... Забавно: сейчас пятидесятые считают пустым временем, ненастоящим. А мы тогда жили, и время было довольно славное: пьеса, коронация и все прочее...
— Обманувшая заря, — сказал Александр.
— Другой у нас не было. У меня, во всяком случае. Было то, что было.
— Мне пора, — вдруг заторопился Дэниел.
Фредерика и Александр расстроенно повернулись к нему:
— Ты мог бы предупредить.
— Тебе хотя бы понравилось? Что скажешь?
— Ничего, потому что, признаться, почти ничего не слышал. Так забегался, что как сел, так и задремал. Извините. Мне сейчас бежать надо, с одной женщиной повидаться.
У женщины, к которой спешил Дэниел, сын попал в автокатастрофу. Он был красивый мальчик, а стал ходячей оболочкой красивого мальчика, восковой куклой, попеременно одержимой то вопящим демоном, примитивным духом, способным есть, спать и иметь эрекцию. Отец не выдержал и ушел из семьи. А мать — у матери раньше была школа, где ее ценили как учителя, хорошие подруги, миловидная внешность. Все это ушло — только страх остался, злость, чудовищная усталость. Она ни на минуту не оставляла своего мальчика (или то, что теперь было им). Она подала в суд за понесенный ущерб и теперь хотела, чтобы Дэниел пошел с ней, потому что, если кто-то над ее мальчиком посмеется, она может убить. Дэниел согласился: действительно, му́ка ведь в судебном коридоре бесконечно ждать своей очереди. И в Галерею-то он пришел, чтобы послушать кого-то другого, прежде чем мать режущим голосом снова заведет о своей беде, прерываемая лошадиным фырканьем сына. Послушать не удалось. Он помотал головой и повторил, что ему пора.
Вышли вместе в дружеском молчании. Дэниел, повернувшись к Александру, с трудом выжал из себя:
— А мне твоя пьеса больше нравится.
— О чем ты? Не надо, — отвечал Александр, тоскуя о неповторимости времени и искусства.
Коротким путем дошли до площади Пиккадилли, где Купидон, замерев на одной ножке, метил стрелой поверх наркоманов, сидящих у его постамента или бредущих невесть куда сутуло и криво. Дэниел вдруг объявил, что ему в метро.
— А ты не уходи, — сказала Фредерика Александру. — Выпьем где-нибудь чаю.
Дэниел стал медленно спускаться в теплую и пахучую темноту.
— Пойдем в «Фортнум и Мейсон»? [11] — предложила Фредерика. — Это будет забавно.
Он хотел отказаться, но согласился.
1 Горацио Герберт Китченер (1850–1916) — крупный британский военачальник, много сделавший для поднятия боевого духа соотечественников в ходе Первой мировой войны. (Здесь и далее примеч. перев.)
11 Фешенебельный магазин чая и сластей на улице Пиккадилли, имеющий собственный чайный салон.
10 Перев. Б. Л. Пастернака.
9 Слова из известной народной песенки.
8 Знаменитая речь 1588 г., призванная поднять боевой дух солдат во время Англо-испанской войны.
7 Перев. А. А. Петровой.
6 Отрицательная способность — термин поэта Джона Китса (1795–1821), обозначающий, что «человек способен находиться в неопределенности, в сумраке тайны, в сомнениях, не делая суетливых попыток непременно добиться до фактов и смысла...» (Перев. Г. М. Кружкова).
5 Бельфебея и Бритомарта — охотница и воительница, героини символической поэмы Э. Спенсера (1552–1599) «Королева фей», прославляющей Елизавету I.
4 Символический образ Елизаветы I.
3 Отсылка к шекспировской трагедии «Король Лир». Застигнутый непогодой Лир говорит: «Лучше бы лежать тебе в могиле, чем непокрытым встречать эту суровость непогоды. Что ж, человек и есть таков, как он. Посмотрите на него хорошенько. Тебе шелковичный червь не предоставил своей ткани, скот — покрышки, овца — волны, мускусная кошка — запаха. — Га! Мы трое все поддельные; ты — тварь, как есть; неприкрытый человек — не более, как бедное голое двуногое животное». (Перев. М. А. Кузмина.)
2 Одно из символических имен Елизаветы I.
Часть I
РОБКАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ [12]

12 Робкая добродетель — отсылка к фразе из полемического трактата Джона Мильтона (1608–1674) «Ареопагика», в защиту свободы слова: «Я не воздам хвалы робкой, монашеской добродетели, которая боится испытаний».
1. В Дальнем поле
В 1952 году мир Александра Уэддерберна сотрясали события прошлых веков. Собственно, когда Георг VI умер, пьеса была уже в основном закончена. Впоследствии Александру нередко приходилось прочерчивать в сознании окружающих эту хронологию: выбор темы и кончина монарха. Пьесу часто принимали за сценарий любительского спектакля, заказанный для Празднества искусств по случаю передачи Лонг-Ройстон-Холла тогда еще недовоплощенному Северо-Йоркширскому университету. Само Празднество, конечно, должно было влиться в череду самодеятельных увеселений в парках и садах по случаю коронации Елизаветы II. Воистину, если бы пьесы не было, ее бы стоило изобрести. Но пьеса, по счастью, была.
Все началось с его безобидной одержимости модернизацией языка и стихотворной драмы в частности. Тогда это носилось в воздухе. Был Элиот [13], был Фрай [14]. На последнем курсе Оксфорда Александр решил, что всему виной Шекспир. Он был так несоразмерно велик, что после него почти невозможно стало писать хорошие пьесы. Драматург либо принципиально модернизирует текст и весь уходит в принцип, либо помимо воли производит водянистые, шекспирообразные вирши. Александра осенило пойти на Шекспира в лоб: написать историческую драму, как у него, но современным стихом и таким образом дать без уловок и время, и место, и самого Шекспира. Позже, по причинам как личным, так и эстетическим, он оставил Шекспира и занялся королевой Елизаветой Тюдор. Ему хотелось живого, пульсирующего реализма, и он немало помучился в тех местах, где пьеса естественным образом сворачивала к стилистическим фокусам и пародии. Он работал приступами и провел несколько лет в любовных литературных раскопках и формальных экспериментах, в наитиях и уныниях. Он был тогда младшим учителем английского в средней школе Блесфорд-Райд, что в Северном райдинге Йоркшира. И вот однажды, почти ненароком, надзирая за мальчишками на экзамене по биологии и одновременно подправляя что-то в пьесе, он вдруг понял, что она окончена, что она — подошла к концу. Больше он ничего в ней сделать не мог. И не знал, как быть дальше без надежды, без одержимости, без прозрачных стен, где среди певучих ритмов и живых абрисов жил и двигался он сам. Он запер пьесу в стол, дал отлежаться месяц — тот самый, когда умер король, — и отнес ее Мэтью Кроу.
Смерть короля отозвалась в нем тягостно — отчасти из-за окончания пьесы. Тут было и чувство потери, и собственная неприкаянность. Он свозил мальчиков из срединных классов в городок Калверли послушать, как глашатай прокричит с соборных ступеней о восшествии на престол Елизаветы II. «Король умер, да здравствует королева!» Труба пропела тонко и чисто. Мальчики с торжественными лицами толклись на месте, ожидая прилива каких-то чувств. Эта смерть ставила точку под первой главой их жизни, коротенькой главой, которая должна была казаться им вечностью: продуктовые карточки, конец войны, скупая целесообразность послевоенного быта. Александр вспоминал короля. Вот кинохроника, где Георг VI осматривает разбомбленные кварталы, трогает обломки. Вот его бестелесный голос по радио: мы объявляем войну — взволнованный, пасторский голос. Александр думал, что целая нация силится сейчас представить человека, которого знали все, мертвым и одиноким на ложе смерти. Силится и не может. Но в конце концов, для того и нужны короли. Личная скорбь Александра была нелепа и неподдельна.
Мэтью Кроу в буквальном смысле утвердил пьесу на местной почве, овеществил ее хрупкие контуры, возвел в ранг творческого явления и своего подопечного начинания. Ему принадлежал особняк Лонг-Ройстон, архитектурный родственник Хардвик-Холла, что дальше к северу, только без гигантских окон и грузных башен. Лонг-Ройстон был равно призван служить обиталищем династии Кроу и поражать воображение ближнего, но ударение ставилось все же на обитании. Александр и без того уже был в долгу перед Кроу, прирожденным импресарио и меценатом. Благодаря связям Кроу его первая пьеса «Бродячие актеры» некоторое время шла на подмостках лондонского Театра искусств. Впрочем, с недавних пор Александр несколько стеснялся своего первенца: обратясь на путь радикального реализма, он укрепился в мысли, что пьесы о пьесах и актерах — знак увядания театрального искусства. Кроме того, за пределами школы Кроу единственный обеспечивал ему некое подобие интеллектуальной и светской жизни. Кроу истово верил во все местное: культуру, патриотизм, таланты. В молодости он пробовал себя как режиссер в Вест-Энде, но вскоре вернулся восвояси и занялся устройством фестивалей и любительских постановок в церквях, частных концертных и пустых амбарах. Он говорил, что предпочитает быть первым в деревне, и был таковым. Он был очень богат и редко наезжал в Лондон.
Прочитав пьесу, он пригласил Александра отобедать и выказал бурный энтузиазм по поводу его творения. Позже, когда они перешли в кабинет и устроились у камина, Кроу за кофе и бренди поведал ему несколько тайн местной дипломатии и вообще слегка разоткровенничался. Кроу обожал дипломатию, тайны и откровения. Подавшись к огню из объятий высокого сафьянового кресла, он с восторгом раскрыл перед Александром внутренние пружины влиятельных организаций, трудившихся над созданием Нового университета. Во-первых, было сильнейшее Движение за образование для взрослых — от него исходила основная идея. Были два колледжа: богословский Святого Чеда и женский педагогический Святой Хильды, которым предстояло слиться в университет. Был, наконец, Кембридж, заложивший основы удаленного обучения для взрослых. Интимно понизив голос, Кроу говорил о епископе, о министре, о некоем человеке из министерства финансов, об ультиматумах и компромиссах, но Александр, не одаренный чутьем политика, часто не мог по достоинству оценить тот или иной гроссмейстерский маневр, умную уступку, гениально высчитанный момент. Кроу описывал долгий процесс составления учебной программы, попытки придать всему сугубо местный колорит и направленность на взрослую аудиторию. Предполагалось, что, подобно Кильскому университету, основанному недавно и пока единственному в своем роде, Новый университет будет специальные курсы предварять курсами общей тематики, дабы формировать, по образцам Возрождения, всесторонне развитого человека. Говорил Кроу и о собственной тонко разыгранной роли: выждав минуту, когда стороны зашли в тупик, он объявил, что Лонг-Ройстон — и дом, и землю — передает университету на том условии, что и впредь будет жить там в своем углу.
Время было выбрано как нельзя удачно: прошение на высочайшее имя, объявление о щедром даре Кроу, и в ответ — королевская грамота об учреждении университета... Все это сойдется в зените в год коронации и будет отмечено постановкой пьесы Александра, которая тоже пришлась исключительно кстати. Представьте: летний вечер и Елизавета Тюдор на Большой террасе в парке Лонг-Ройстона... Пьеса весь Йоркшир призовет к оружию... в том смысле, что даст людям работу и откроет путь к творчеству. Понадобится ведь целая армия, тысячи человек: актеры, музыканты, рабочие сцены, художники по костюмам, костюмерши — всё, естественно, местные дарования.
— Моя пьеса не сценарий для самодеятельности, — сказал Александр.
Разумеется, нет. Пьеса — произведение искусства и, при некоторой доле удачи, получит достойное воплощение. Кроу как местный деятель будет тут в своей среде, и Александр в этом вполне убедится.
Бурный характер местной деятельности поначалу ошеломил Александра. В самом скором времени он был снова призван в Лонг-Ройстон и представлен организационному комитету Празднества. Комитет составляли: епископский капеллан, человек из министерства финансов, мисс Мотт с курсов удаленного обучения, мистер Баркер из городского совета Калверли, сам Кроу, разумеется, и Бенджамин Лодж, лондонский режиссер. Пьеса за это время успела еще оплотниться и размножиться: каждый из присутствующих имел собственную копию. Каждый поздравил его с талантливой и своевременной вещью. Надо всем благожелательно царил Кроу. Комитет обсуждал даты, затраты, рекламу, сопутствующие мероприятия, распределение ролей, вопросы санитарии. Александр так и не уловил, кто и на каком этапе решил, что пьеса будет поставлена. К тому же его смутно тревожило присутствие Лоджа, пару раз обронившего слово «самодеятельность» и сказавшего, что текст придется сократить. Кроу, почуявший напряжение, задержал обоих, налил им виски и под сурдинку выцедил из Лоджа несколько комплиментов пьесе и ее языку, а из Александра — похвалу беспощадно минималистской постановке Вейкфилдских мистерий [15], которые Александр видел и действительно высоко оценил. Лодж был дороден и молчалив. У него был чудовищный, горчичного цвета свитер и черные волосы, чье оскудение, как часто бывает, восполняла огромная пышная борода. Кроу же в свои шестьдесят имел пунцовое херувимское личико с налетом мальчишеской недовершенности, большие бледно-голубые глаза, чувственный изгибистый ротик, а на голове легкий серебряный пух вокруг пролысинки. Годы слегка округлили его, но не до тучности. Пока Лодж и Александр еще лучились довольством, происходившим как от дивного виски, так и от сознания собственной небесполезности, Кроу подхватил Александра и умчал, обещая доставить домой в Блесфорд-Райд.
Кроу довольно резво гнал свой старинный «бентли»: мелькали домики, ограды сухой кладки, кочковатые поля, край пустоши. Вниз, в Блесфордский дол, вверх к школе по длинной подъездной дороге, обсаженной липами. У красной готической арки Кроу затормозил:
— Что ж, вы можете быть довольны и сегодняшним днем, и собой вообще.
— Да-да, конечно. Я надеюсь только, что и вы довольны. Не знаю, как вас благ...
— Вы, я вижу, тревожитесь из-за Бена. Не стоит. До самодеятельности он не опустится. Во-первых, я не позволю, а во-вторых, он далеко не дурак. Просто любит внести нечто свое. Поворошить немного текст, чтобы чувствовалась его рука. Вы это, конечно, заметили. Но я присмотрю, чтобы он не расходился. В этом не сомневайтесь. Да и сами посматривайте. Отпустят вас на время с этих галер? — Кроу кивнул в сторону нелепо угрюмой арки. — Злосчастный каприз моего предка... Долго вы планируете тут оставаться?
— Пока не знаю. Я люблю преподавание. Но соблазнительно, конечно, писать не урывками, а постоянно...
— Так найдите себе первоклассную школу. С первоклассным руководителем направления. Тогда будет время писать. Билл человек выдающийся, но совершенно невозможный.
— О, я хорошо лажу с людьми. К тому же Билл — в своем роде тоже первоклассный человек. У нас отличные отношения.
— Вы меня изумляете. И что же он, по-вашему, скажет на эту затею с пьесой?
— Боюсь помыслить. Стихотворную драму он не жалует.
— Как и меня, — подхватил Кроу, — как и меня, уверяю вас. Как, говорят, и университет, по крайней мере, в нынешнем замысле.
— Я с ним поговорю.
— Вы отчаянный человек.
— Но ведь нужно же сказать?
— Я бы не стал. Я бы просто уволился. Впрочем, вы другой. Ну что ж, удачи.
«Бентли» круто развернулся, брызнув гравием. Александр, до сих пор в легком тумане от событий стремительного дня, побрел к школе.
Школа стояла покоем, с трех сторон обжимая лужайку грузными краснокирпичными галереями. Даже стрельчатым аркам придана тут была несвойственная приземистость. В арках обитал неоготический каменный народец, с похвальным беспристрастием завербованный из некоего универсального пантеона: Аполлон, Дионис и Афина Паллада, Изида с Озирисом, Бальдр с Тором, рогатый Моисей, король Артур, святой Кутберт, Амита Будда и Уильям Шекспир.
Блесфорд-Райд была школа частная, прогрессивная и чуждая дискриминации. Ее основал в 1880 году Мэтью Кроу, прапрадед Кроу нынешнего, разбогатевший на сермяге и приобретший значительную для дилетанта репутацию знатока мифологии. Школа нужна была преимущественно для того, чтобы его шестеро сыновей обучались вне дома, но и вне соприкосновения с христианством в его расхожем виде. В основу школьного устава был положен агностицизм. Отдельной статьей запрещено было устройство «часовен, молелен, комнат для уединения и других религиозных помещений». Галереи и пантеон не считались, они были — Искусство. При жизни Кроу-основателя школа ненадолго полыхнула огнем беспримесной причуды. Возможно, именно поэтому двое его сыновей стали священниками, а один — начальником тюрьмы. Из оставшихся трех первый унаследовал сермяжное дело, второй сперва был учителем классических языков в той же школе, а потом архивариусом, председателем Блесфордского историко-топографического общества. Третий умер рано. Мэтью Кроу, обучавшийся в Итоне и Оксфорде, происходил от архивариуса, чей брат-промышленник не оставил потомства.
Блесфорд-Райд никогда не была особенно популярна. Она стояла несколько на отшибе, среди вересковых пустошей Йоркшира. Поблизости ничего не было, кроме соборного городка Калверли, — не столь отполированный, как Йорк, и не столь картинно самобытный, как Дарем, он проигрывал обоим. В исторической перспективе школе, если можно так выразиться, не хватало чутья: изрядно почудив в пору всеобщего англиканского конформизма, она — ввиду оскудения бюджета и смягчения направляющей руки — взялась осторожничать, именно когда чудачества могли бы придать ей определенный шарм. Теперь ее советовали тем, кто не хотел отдавать сыновей в военное училище; кому претило, что в частных школах младшие по обычаю получают тычки от старших; на кого в робком детстве повеяло жженой плотью со страниц «Тома Брауна» [16]; кто с легкой насмешкой отзывался о Флаге и Империи или, наконец, попросту жил неподалеку. Ее же выбирали те, кого отвращала неопрятность быта, сандалии на босу ногу, сигареты, выпивка, половая распущенность и навязчивое половое просвещение, принцип вседозволенности и интеллигентская заумь. По этой причине школу в основном наполняли мальчики среднего сословия, чьи бережливые и благоразумные родители понадеялись, что чада одолеют вступительные испытания, и потому не отдали их на растерзание вопиящим ордам государственной средней школы.
В школе были стипендии для нехристианских меньшинств: евреев, эпилептиков, сирот, способных мальчиков из рабочих и многодетных семей. Теоретически ею управлял парламент из учеников и учителей, который избирался по сложному принципу пропорционального представительства, выведенному одним из последних директоров. Учителя делились на три категории. Первую составляли блестящие юноши, которые приходили в чаянии академической и нравственной свободы, но вскоре направляли стопы в журналистику или школы более либеральные и престижные. Вторую — блестящие юноши, которые приходили, невесть почему оставались и начинали неприметно стареть. Третью составлял Билл Поттер, прослуживший в Блесфорд-Райд без малого двадцать лет. В целом это была обычная либеральная школа, ставшая всем для всех [17] без крайностей и потуг на большее.
Билл Поттер заведовал направлением английского языка и был непосредственным начальником Александра. По общему мнению, это был первосортный учитель, дьявольски увлеченный, несгибаемый и свирепый. Билла уважали отборочные комиссии вузов и боялся собственный директор. Ему предлагали квартиру в одном из нарядных школьных корпусов, но это значило бы присматривать за живущими там мальчиками, а Билл согласен был только учить. Поэтому он до сих пор жил в краснокирпичном домике, куда некогда привел молодую жену. Целая череда таких домиков, поделенных вертикально на два жилища, была построена для семейных педагогов и стояла одиноко на краю самого удаленного поля для регби, справедливо звавшегося Дальним полем. Само же поселение получило имя Учительской улочки.
Александр не без опасений решил отправиться к Биллу.
Билл во многих отношениях воплощал в себе исходный бунтовской дух Блесфорд-Райд. Он громогласно придерживался увесистых принципов агностической морали Генри Сиджвика [18], Джордж Элиот [19] и первого Кроу. Он одержимо творил вокруг себя жизнь по Рёскину и Моррису [20]. С суровым уважением относился к настоящим рабочим, их жизни и интересам, что сближало его скорее с Тоуни [21] времен его учительства в гончарном Сток-он-Тренте. Его энергия во многом питала скромную культурную жизнь округи, какой она была в 1953 году. Билл читал лекции для взрослых заочников, которые съезжались к нему издалека, в любую погоду, в фургонах и междугородних автобусах, из деревушек, разбросанных по пустошам, из курортных местечек, из городков ткацких и сталелитейных. Билл не дал расточиться Литературно-философскому обществу Калверли, сиречь Литфилу. Под его влиянием люди создавали что-то свое, настоящее и долговечное. Члены Литфила инсценировали и сыграли серию лоуренсовских сказок [22], и во всем чувствовалась рука Билла, его сумрачная одержимость совершенством, род мании. За годы лекторства Билл составил собрание работ своих заочников, посвященное местной культуре и литературе. Один учитель пения, например, написал исследование по играм-рифмушкам. Самодеятельная художница, в климаксе пережившая нервный срыв и ненадолго попавшая в психиатрическую клинику Маунт-Плезант, изучила рисунки тамошних больных. Были вполне академичные эссе, например, об источниках, на которые опиралась Э. Гаскелл [23] при работе над «Поклонниками Сильвии». Были любительские, но далеко не дилетантские исследования местных речевых моделей, были продуманные интервью с писателями, жившими и работавшими на севере Англии, — и за всем этим стояли здешние лавочники, учителя, домохозяйки. Билл умел отдельные работы, робкие и ученические, возвысить до Работы с большой буквы, умел придать собственное лицо им и сообществу, их создавшему. Он был непреклонный деспот и умный слушатель. По его намекам косноязычная рассказчица понимала, как повернуть свои топорные фразы, чтобы сквозь них проглянул притягательно-самобытный стиль. Все это — не забывая о блесфордских мальчишках, которых он гнал от экзамена к экзамену, тираня, язвя, вытягивая в полную меру роста.
Когда в Блесфорд приехал Александр, Билл попытался, без особого, впрочем, жара, втянуть его в свою местную работу. Но Александр, неплохо справлявшийся с мальчишками, гораздо хуже находил общий язык со взрослыми. Кроме того, он уже тогда ощущал себя зародышем большого столичного писателя и, мешая спесь со скромностью, полагал, что ничем не сможет помочь этим совместным, провинциальным, любительским потугам. Стоит заметить, что, даже имей он такое желание, ему пришлось бы нелегко, поскольку его понятия о литературе сильно отличались от понятий Билла. Билл же на удивление спокойно воспринял его безучастие: он не умел делиться ни властью, ни работой, а Александр — в первую очередь поэт — не жаждал ни того ни другого. Билл вызывал фанатическую преданность у большинства хороших учеников и у пары-тройки плохих вдобавок. Александр, несмотря на редкую красоту и любовь к предмету, ничего подобного не удостаивался. Он был неподдельно скромен и прост, и, возможно, именно поэтому Билл его в конечном итоге принял.
И все же, шагая сейчас к нему с вестью о пьесе и Празднестве, Александр не питал надежд на теплый прием. Главным пунктом тут был Кроу, его участие. Признавая созидательную энергию Билла, Кроу с его врожденным обаянием периодически пытался ввести его в свой круг и однажды — весьма неожиданно — преуспел. В 1951 году они поставили с Литфилом «Трехгрошовую оперу» Брехта, причем оба поняли, что их таланты друг друга дополняют: к классовой ярости Билла, к его бережности с исходным текстом и умению работать с людьми Кроу добавил интеллектуального блеска, ритма, колорита, да еще обеспечил первосортное музыкальное сопровождение. И все же, как показалось тогда Александру, Билл, наверное, предпочел бы представление более непосредственное и неуклюже-домашнее, более подходящее к стенам зала собраний при блесфордской церкви. Билл был пурист в хорошем и в плохом значении этого слова и к тому же испытывал к Кроу глубинное, почти животное неприятие. Александр далеко не сразу осознал: все, что притягивало его к Кроу, — воспитание, деньги, виски, сафьяновый кабинет — автоматически и навсегда отталкивало Билла Поттера, как иных отталкивает черная кожа или грубый акцент. Ясно было, что Билл не придет в восторг от культурных прожектов местного мецената.
И все же, когда в сумерках Александр шел мимо школы, его захватила одинокая, с утра еще ждавшая радость. За садами, разбитыми перед зданием, за длинными теплицами, что со временем наполнятся вкусными и необременительными для бюджета помидорами, была тяжелая, в заклепках, дверь. За дверью начинался длинный и мшистый ход меж двух высоких стен. Ход упирался в пеший мост над железной дорогой, а дальше было Дальнее поле. За левой стеной, блестевшей поверху вделанными в цемент осколками: водянисто-прозрачными, льдяно-голубыми, бутылочно-зелеными, — лежал Учительский сад. Внутри этот запретный сад был квадратен, опрятен и скучен. В нем рос довольно скромный кедр, а в дальнем конце обложенный камнем бугор украшался солнечными часами. Все вместе напоминало военные мемориалы, куда массово вывозят стариков погреться на солнышке. Прошлым летом Александр сыграл здесь героя-любовника в учительской постановке «Она не должна быть сожжена» — умеренный декаданс по местным меркам. Теперь казалось, что это было очень давно.
Он ступил на чугун моста. Из-под него выбегала железная дорога, окаймляя поле и заодно щедрым изгибом проводя линию горизонта. Вдоль насыпи тянулась изгородь из толстой стальной рабицы. Поезда, пролетая на юг и на север, обдавали пышным паром Дальнее поле, поделенное на игровые поля, и немногие рододендроны насыпи. На мальчишек, копошившихся у прыжковых ям, оседали тучи мелкой, жаркой, кусачей сажи, жирно мазавшей листву и лица.
Александр остановился, положив руки на перила. Он был просто и беспримесно счастлив. Он был довершен. Мелькнула странная мысль: его разум развит вполне, хватит на все, что ждет впереди. Это было как-то связано с тем, что пьеса получила отдельное от него существование, и он, хоть и разлученный с ней, был свободен. В этих огражденных полях и учебных зданиях он привык видеть лишь подробности своего заточения. Поначалу в письмах к оксфордским друзьям он высмеивал школу: убожество вида и обихода, северную узость и бескрылость умов. Потом испугался и перестал. Показалось, что писать о школе — значит уже признавать ее замыкающее влияние. Порой он говорил кому-нибудь в Блесфорд-Райд, что пишет пьесу, слышал в ответ «как интересно...» или «о чем?» и чувствовал, что все это блажь, умозрение, головная горячка. Но теперь его пьесу держали в руках, размножали, читали. Пьеса отделилась от него, а он отделился от школы. И в новом качестве мог позволить себе — со стороны — благожелательный интерес. На поле, припорошенное сажей, смотрел с горделивым удовольствием: вот поле, оно таково, и я его вижу.
Меркнущий вечер сгустил тени и контуры, погасил остатки цвета в грязной траве. Мост задрожал, загудел, возвещая приближение поезда. Александр с тем же блаженным любопытством уставился ему навстречу. Вот он, темный и извивистый, сперва мчит в лоб, потом подныривает под мост, колотит колесами, мелькает поршнями, плюет в Александра искрами, кутает едким паром и, наконец, гремя улетает туда, где отныне угадывается вполне достоверная даль.
Потом Александр сошел вниз. Под ногами еще подрагивало: казалось, поезд, словно корабль, оставляет в земле бурлящий след. Длинные полосы пара расползались прорехами, таяли по краям, исчезая в серости, которая вскоре станет темнотой. Возле Уродского прудика виднелась какая-то фигура.
Природоведческий пруд с самого начала прозвали Уродоведческим или, короче, Уродским прудиком. Вырытый еще в дни основания школы, он пребывал в забросе и медленно загнивал. Круглый, в обводе из камней, он плоско лежал под насыпью, являя миру пару кувшинок, ряску и шаткую каменную плиту, на которой лягушата отдыхали от финальной пермутации. Сверху у него была шелковистая черная гладь, а глубину узнать было трудно, потому что дно покрывал жидкий аспидный ил. Раньше мальчики разводили тут разную водяную живность, но теперь для этого существовала хорошо оборудованная полевая станция дальше к северу, на вересковых пустошах. Ходили неподтвержденные слухи, что в Уродском прудике полно пиявок, обильно плодившихся в нем искони. Никто не согласился бы опустить в него ногу из страха, что полумифические твари присосутся к лодыжке.
Темная фигура у прудика, неловко согнувшись, мешала в нем длинной палкой. Подойдя ближе, Александр узнал Маркуса Поттера.
Маркус был младшим ребенком Билла и единственным его сыном. Он учился в школе бесплатно и через два года должен был держать экзамен на аттестат А [24]. Маркуса толком не знал никто. Учителя старались относиться к нему «нормально». На практике это означало, что его никогда не выделяли из прочих и по возможности предоставляли самому себе. Обращаясь к Маркусу, Александр порой ловил себя на какой-то неестественно бесцветной интонации и знал, что он такой не один. Впрочем, это могло быть и потому, что, в противоположность отцу, Маркус был неестественно бесцветным существом.
Билл явно считал, что его сын исключительно одарен. Зримых доказательств тому было немного. По трем своим профильным предметам, географии, истории и экономике, Маркус имел оценку «удовлетворительно». Отмечали, что он учится без охоты. «Удовлетворительно» — категория, простирающаяся от успехов почти хороших до почти отсутствующих. У Александра, например, младший Поттер регулярно бросал фразы на середине и очень удивлялся, когда ему на это указывали. В классе он был напряжен и молчалив. Александр думал, что он, возможно, из тех учеников, кто, стремясь сохранить внимание, от усилий впадает в столбняк и уже ничего не слышит.
И все же в детстве Маркус имел дар: он мог с жутковатой легкостью складывать, вычитать, перемножать в уме любые числа. Тогда же выяснилось, что он обладает абсолютным слухом. В четырнадцать лет математический дар необъяснимо иссяк. Слух остался, но музыка мало привлекала Маркуса. Он, правда, пел в хоре и играл на альте — безошибочно и безжизненно. Коллеги знали, что немузыкальный Билл трогательно гордится талантами сына, упорно провидя в них нечто, что в свою пору даст плоды еще богаче тех, к каким более торным путем пришли две его старшие дочери.
В свое время Александр пережил краткий период острого интереса к Маркусу. Год назад он ставил школьного «Гамлета», в котором Маркус был Офелией — пронзительно, почти пугающе настоящей. В его игре было что-то от его же математики и музыки: он не изображал сущность девушки, а излучал ее, транслировал откуда-то извне, словно медиум. Его Офелия была кроткой и отрешенной, с грацией почти механической. Когда же она обезумела, ее речи и песенки казались робкой, искалеченной пародией этих свойств. Он не смог сделать ее по-девичьи притягательной, зато сделал ранимой и достоверной телесно. Странной смеси нежного кокетства и откровенных намеков в ее устах он придал глуповатую оторопь неуверенности, незнания, как вести речь в такие минуты. Так, по мнению Александра, и следовало играть эту роль. По крайней мере, то был один из возможных путей. Эти чувства, эти повадки Маркус извлек из малейших намеков Александра. Впрочем, он всегда ждал какого-то направляющего влияния и ничего своего не добавил к роли, кроме тончайшего слуха на ритм языка, на взаимное движение строк. Александр знал: мальчики, еще не скованные пубертатом, отлично слышат режиссера и могут придать неосознанную глубину строкам, им непонятным. Но Маркус — Маркус достиг чего-то небывалого. Александр был глубоко тронут и, говоря по чести, испуган. Впрочем, в этом он был, кажется, одинок. До Маркуса никто не смог так просто и ясно показать: события пьесы сломили, уничтожили невинное сознание девушки.
На всех трех представлениях в зале сидел сияющий Билл, гордый сыном и очередной победой. Теперь Александр надеялся, что тот разрешит задействовать Маркуса в грядущем спектакле — у него были кое-какие задумки. Дальше, если сложится удачно, маячила перспектива уловить в сети пьесы и самого Билла.
Тем временем в Дальнем поле Маркус упал на четвереньки и прильнул лицом к каменной рамке пруда. Александр взял в сторону, прокашлялся, зашелестел травой, обозначая свое присутствие. Мальчик вскочил, как на пружине, и замер, дрожа. На лице у него была грязь.
Маркус поправил дешевые круглые очки, съехавшие набок от его непонятного маневра. Он был мал не по возрасту, щуплый, с длинным бледным лицом, окруженным множеством тонких, мягких, золотисто-бесцветных волос. На нем были брюки из шерстяной фланели и линяло-синий твидовый тесный пиджачок.
— У тебя все хорошо? — спросил Александр.
Маркус молча глядел на него.
— А я иду к твоему отцу. Ты тоже домой?.. Маркус, у тебя все хорошо?
— Нет.
Что спросить дальше, Александр не знал.
— Все тряслось. Земля тряслась.
— Это поезд. Так всегда бывает.
— Нет, не так. Не важно. Теперь все нормально.
В Маркусе было все же что-то неприятное. Александр знал, что нужно бы расспросить его как следует, но не мог себя заставить.
— Теперь все нормально, — повторил мальчик, выбрав одну из своих самых почтительных и механических интонаций.
Александру вполне хватало проницательности, чтобы понять: эта фраза призвана его спровадить. Но ответил лишь: «Пойдем вместе?»
Маркус кивнул, и они в молчании двинулись к скромной череде огоньков на краю поля.
Маркус Поттер вырос на игровых полях. В каникулы он часто бывал их единственным обитателем. В младшем, еще не ходячем, детстве поля лежали окрест него. Потом он лежал в полях: в травянистых кочках и на голой земле, превращая их в Ипр и Пашендаль, воображая Сомму, траншеи, блиндажи, ничейную полосу [25].
Он играл тогда в одну игру. Это называлось «рассеиваться». Начиналось с того, что он последовательно расширял свое поле зрения. Потом — некий трюк восприятия, и оказывалось, что он смотрит разом из четырех углов поля, с высоких стоек ворот, с ограды, увенчанной колючей проволокой. Он не охватывал взором предметы, не вмещал их в окоем. Он просто наблюдал их изо всех точек пространства — а может, ни из одной. С беззаконной одновременностью возникали перед ним барбарис (berberis stenophylla) слева внизу, пролысевшая глина в середине поля и Уродский прудик подальше справа.
Еще маленьким он достиг больших успехов в этой игре и еще маленьким потерял над ней власть. Бывали неизмеримые промежутки времени, когда Маркус не знал, где он и где исток его рассеянного сознания. Ему пришлось научиться находить свое тело: зацепляться сознанием за предметы, сужать внимание до какой-то одной ощутимой вещи. Вот полумесяц белой краски, засохнув, склеил бледную траву. Вот неярко выступил светлый прямоугольник крикетной площадки. Вот мягкий мрак прудика. Из этих точек можно было, как из далекого далека, высмотреть холодное скорченное тело и, если повезет, дотянуться до него сознанием.
Он рано понял, что геометрия — союзник. Она протягивала ему линии, открывала проходы там, где не могли помочь дернистые кочки и комья глины. Ломаные белые границы: это разметка зимних игр легла поверх летнего мела. Круги, параллели, недвижимые точки — ими измерена и сдержана бугрящаяся, текучая, неверная глина. Линии, по которым можно доползти до себя, спасительная картография.
Потом было несколько лет, когда он не играл и об игре не думал. А теперь снова вернулся к ней с какой-то новой жадностью, хоть никакого удовольствия не получал. Это было как онанизм: накатывало внезапно и особенно сильно, именно когда он твердо решал бросить, успокаивался и терял бдительность. Ну хорошо, один раз. Один раз, и быстро. И сразу жизнь заново.
Сегодня он надеялся пройти полем без происшествий. По линиям, по линиям до самого дома. Но внезапно пролетевший поезд выбил его из себя, и он не успел проделать зрительные и телесные маневры, необходимые для равновесия, а может, и выживания.
Теперь ему было мучительно холодно. Он почти ничего не помнил. После этого ему всегда бывало холодно.
Маркус шел, волоча ноги по траве, все еще пытаясь держаться белых линий.
Они прошли под белой планкой высоких ворот для регби — совсем маленьким он думал, что это прыжковые стойки для каких-то высших существ. Потом наконец открыли калитку и двинулись по садовой дорожке.
25 Отсылка к событиям Первой мировой войны.
24 Аттестат с правом поступления в высшее учебное заведение.
23 Элизабет Гаскелл (1810–1865) — британская писательница, нередко обращавшаяся к социальным темам.
22 Дэвид Герберт Лоуренс (1885–1930) — британский писатель и поэт, враг буржуазной морали, проповедник свободы в любви. Автор романов «Любовник леди Чаттерли», «Влюбленные женщины», «Сыновья и любовники», «Радуга».
21 Ричард Генри Тоуни (1880–1962) — британский историк, экономист, христианский социалист. Сторонник дополнительного образования для взрослых.
20 Джон Рёскин (1819–1900), Уильям Моррис (1834–1886) — британские литераторы и общественные деятели, в разной степени разделявшие социалистические идеи.
19 Джордж Элиот — псевдоним британской писательницы Мэри Энн Эванс (1819–1880), выросшей в религиозной семье, но со временем порвавшей с Церковью.
18 Генри Сиджвик (1838–1900) — британский философ и экономист, уроженец Йоркшира. Сторонник утилитаризма, немало сделал для развития женского образования.
17 Отсылка к Первому посланию Коринфянам (9: 22). «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых».
16 Отсылка к книге Томаса Хьюза (1822–1886) «Школьные годы Тома Брауна». Шайка школьных хулиганов травит Тома, из-за чего он получает ожоги от костра.
15 Средневековый цикл мистерий на библейские темы.
14 Кристофер Фрай (1907–2005) — британский поэт и драматург, известный благодаря историческим пьесам в стихах и, в частности, пьесе «Она не должна быть сожжена».
13 Томас Стернз Элиот (1888–1965) — британский поэт, драматург и критик. Создал целый ряд пьес в стихах, горячо интересовался драмой елизаветинской поры.
2. Во львином рву
Александр не раз слышал, что он желанный гость в доме Поттеров. Ну а уж если придется не ко времени или не ко двору, пусть будет уверен — ему по-свойски укажут на дверь. На дверь ему пока не указали, но и желанным гостем он не почувствовал себя ни разу. Ему все время казалось, что он прерывает некий семейственный ритуал неотложного и нутряного свойства. Он робел перед семействами и их обиталищами и потому бывал обостренно обходителен. Его собственная семья держала маленькую гостиницу в Веймуте. С детства он уходил и приходил когда вздумается, но зато никто не упрекал его, что он дом превратил в гостиницу. Гостиница и была домом.
Задняя дверь вела в кухню, а в кухне у раковины стояла Уинифред. Она раскрыла объятия Маркусу, который уклонился, и пригласила Александра поужинать: они как раз садятся, вполне хватит еще на одного человека. Наши в гостиной.
Под слоями фильдеперсовых чулок, серой шерстяной юбки, просторно обвисшего, в цветочках кухонного халата Уинифред устремлялась вверх без изгибов и выпуклостей и увенчана была тяжелой короной седеющей пшеничной косы. Облик несколько смягчался ореолом секущихся волосков, светло и туманно реявшим вокруг головы. Уинифред походила на изможденную скандинавскую богиню кисти какого-нибудь викторианца, у нее был прямой датский нос и близко посаженные глаза, какие часто встречаются у жителей северного Йоркшира. В лице ее, как у многих местных, проглядывало критическое выражение, но голос всегда звучал примирительно — так, по крайней мере, помнилось Александру. А говорила она очень мало, с явственным йоркширским акцентом. Лишь спустя год после знакомства Александр узнал, что Уинифред закончила Лидский университет по специальности «английская филология».
Билл и его дочери сидели в молчании. Гостиная была как у большинства англичан — так думал Александр, хотя подобные видал крайне редко. Она была мала и заставлена не по размеру: диван и два кресла в ржаво-рыжем плюше, большая радиола модной обтекаемой формы, камин со скругленными углами, обложенный красно-бурой плиткой, ореховое бюро на хищных когтистых лапах (весьма разбавленный стиль Директории), два пуфа, два торшера, две группки мелких столиков, убирающихся один под другой. В окна до полу виден был садик в обрамлении льняных штор с яковианскими индийскими кущами в оттенках яшмы, ржавчины и крови. Ковер, местами протертый, являл восточное древо, в кудрявых ветвях которого гнездились призрачные от старости птицы.
На радиоле в серебряных рамках стояли фотографии детей в возрасте примерно лет пяти. Девочки в бархатных платьицах с кружевным воротом хмуро держались за руки. Маркус одиноко парил в пространстве вне всякой связи с непомерным плюшевым медведем с глазами-бусинами.
— Александр! Вот сюрприз. Садитесь в кресло, — сказал Билл.
— Садитесь на полдивана, — вставила Фредерика, на диване полулежавшая. На ней была измятая бело-бордовая форма блесфордской средней школы для девочек, пальцы — в чернилах, гольфы не первой свежести.
Александр сел в кресло.
Билл повернулся к сыну:
— Как контрольная по истории?
— Пятьдесят два.
— Какое место занял?
— Не знаю. Восьмое или девятое.
— Ну это, конечно, не основной твой предмет.
— Нет.
— Покажи ему котят, — резко сказала Фредерика сестре.
Стефани, округло угнездившаяся у маленького столика с кипой тетрадок, выпрямилась и потянулась. Она была светла и мягка, с полной грудью, изящными ногами и шапочкой золотистых волос, пожалуй слишком туго завитых. Получив в Кембридже диплом с отличием по двум дисциплинам, она вернулась домой и теперь преподавала в своей бывшей школе — той же Блесфордской средней.
— Моя дочь Стефани, — произнес Билл, — страдает самаритянской манией. И все мы страдаем вместе с ней. Она любит спасать живое. И полуживое тоже, и желательно вопреки разуму. В данном случае как-то особенно вопреки. Стефани, они там умерли наконец?
— Нет. Если продержатся ночь, возможно, выживут.
— И ты намерена всю ночь над ними просидеть?
— Да.
— Можно я посмотрю? — очень вежливо спросил Александр, хотя предпочел бы, разумеется, не смотреть. Стефани чуть придвинула к нему большую коробку, стоявшую у ее кресла. Он быстро нагнулся, и волосы их соприкоснулись. Ее — пахли живым и чистым. Стефани была, казалось, всегда одна и та же: ровно-приветливая, бережливая на слова и движения, наводящая умственную и физическую ленцу, порой успокоительную, а порой раздражающую.
В коробке было трое недоношенных котят. Их раздутые головки качались на тонких шеях, нюхали, терлись, слабо стукались одна о другую. Глаза были запечатаны темно-жёлтой коркой. Порой один из них разевал розовый ротик, где виднелись тонкие, как рыбьи косточки, зубы. У них были ящеричьи тельца, влажные, с влажным лоском и крошечными, бессильными, безволосыми лапками.
Стефани взяла одного, и он зародышем свернулся у нее в ладони.
— Я их глажу фланелькой для тепла, — сказала она своим мягким голосом, — и кормлю из пипетки, очень часто.
Она взяла пипетку из блюдечка на камине, мизинцем разжала беспомощные челюсти — жест был почти жестокий — и выдавила в ротик немного молока:
— Но они могут захлебнуться так, вот в чем беда.
Крошечное существо брызнуло молоком, тихонько срыгнуло и погрузилось в полусон.
— Ну вот, проглотил.
— Где вы их нашли?
— У викария умерла кошка. Это было ужасно, честно говоря, — так же мягко продолжала она. — Мы пили чай с мисс Уэллс, и тут курат загрохотал в дверь: в кухне дочка уборщицы кричит и плачет, истерика. Я пошла в кухню, а там кошка, и уже ничем не поможешь... задыхается, корчится... и умерла.
— Эти подробности совершенно необходимы? — осведомился Билл.
Маркус, забравшийся возможно дальше от коробки с котятами, спрятал руки между колен и принялся что-то сложное вычислять на костяшках пальцев.
— Еще трое мертвые родились. Девочка так плакала. Я думаю, это она: взяла кошку, нечаянно прижала поперек живота, и вот... Ужасно плакала, бедная. Ну, я сказала, что попробую их выходить. Всю ночь вставать к ним, конечно, не радость.
Существо в ее ладони издало тонкий сип, слишком слабый, чтобы подняться до писка.
Резко вступила Фредерика:
— Не знала, что кошки умирают родами. Я думала, у них это просто, а умирают только героини в романах.
— У нее внутри что-то перекрутилось.
— Бедняга. И что ты с ними будешь делать?
— Если выживут, найду каждому дом.
— Дом, — саркастически отозвалась Фредерика. — Если выживут.
— Если выживут, — спокойно повторила Стефани.
Александра слегка мутило от мрачных разговоров и родильных запахов. Он поднялся и открыл было рот, чтобы сообщить о цели своего прихода. Билл, давно собиравшийся вмешаться, заговорил с ним одновременно. Это была его обычная манера, но Александр, как всегда, ощутил смутное раздражение. Он закрыл рот и принялся созерцать Билла.
У маленького, щуплого Билла лицо, ладони и ступни были длинные, словно он был задуман крупным. Он был одет в шерстяные брюки, сине-белую клетчатую рубашку с расстегнутым воротом и рыжеватый пиджак шотландского твида с кожаными нашивками на локтях. Его редеющие волосы раньше были, вероятно, того же каштанового блеска, что и у Фредерики, но теперь поблекли, подернулись сединой, как гаснущий костер пеплом. Несколько длинных прядей, зачесанных поперек лысой макушки, не хотели лежать ровно и все приподымались мостиком. Нос у Билла был вострый, а глаза — предельно размытой синевы. В детстве Фредерика и Стефани воображали разгневанного Крысолова с отцовским лицом: «И вдруг его зажегся взор, как будто соль попала в пламя» [26]. Билл вообще наводил на мысли об огне, но огне подспудном, вроде тления в глубине соломенного омета или зловещего потрескиванья внизу костра: вот-вот вспыхнет, вспыхнет — и рухнет, рассыплется искрами.
— Можете вы сказать мне, — Билл решительно переехал вступление Александра и коротко мотнул головой в сторону сына, — как его оценивают в школе?
— Хорошо оценивают, — отвечал оторопевший от такой бестактности Александр, — насколько мне известно. Вы же сами знаете: Маркус работает очень упорно.
— Я знаю. Я все знаю. Верней, не знаю ничего, потому что мне ничего не говорят. Никто и ничего. И меньше всех — он сам.
Александр тайком взглянул на Маркуса. Тот, казалось, ничего не слышал. Это было до крайности странно, но с Маркусом, подумал Александр, — более чем возможно.
— Когда я спрашиваю, а я как-никак его отец... Когда я спрашиваю, все поголовно уклоняются. Ни один не сказал, что все отлично, и ни один не сказал, чтó именно не так. Можно подумать, что его нет. Что он невидимый.
— Я веду у него только дополнительные занятия, но я вполне удовлетворен... — Едва начав говорить, Александр задумался, что, собственно, может в таком контексте значить «вполне удовлетворен». Ужас заключался в том, что мальчик отчасти и был невидим, причем, вне всякого сомнения, намеренно.
— Удовлетворены и даже вполне. Гм. Теперь скажите мне, прошу вас, как педагог и специалист по английскому языку: как именно я должен понимать это «вполне удовлетворен»?
— Ужин, — возвестила Уинифред, словно по сигналу возникнув всем во спасение. Сестры поднялись. Маркус выскользнул из гостиной.
Столовая была крошечная, причем с потугами на фамильный замок, битком набитая резным дубом и кожей: раздвижной стол на гнутых, шишковатых, подагрических ногах, кожаные стулья в латунных заклепках, обои под штукатурку. Над местом главы семьи висела очень маленькая репродукция «Ночной охоты» Уччелло. Именно из-за того, что она была так мала, Фредерика долго, лет до сорока, была убеждена, что оригинал непомерен, во всю стену. Его настоящий скромный размер произвел на нее действие одновременно раздражающее и гипнотическое.
Стол был покрыт клеенкой, до жути правдоподобно изображавшей на одной стороне белое дамасское полотно с малиновой искрой, а на другой — розовый клетчатый лен. Уинифред принадлежала к военному поколению хозяек: для нее любой пластик был чудом, сберегающим время, а цвет, любой цвет — освобождением и радостью. Сегодня скатерть предстала своей дамасской стороной. Стол украшало тяжелое, в завитушках, свадебное серебро Поттеров, салфетки под приборы (поддельная плетенка) и просто салфетки из жатки с условно-шотландской клеткой, слишком чахлые для широких серебряных колец. Все это были реликвии жизни прочной и сдобной, со свадьбами, крестинами и другим прилагающимся. Оставив позади значительную ее часть, Поттеры так и не обзавелись более стройным укладом. Посреди стола высились типично английские баночки и бутылочки: пикули, острый паточный соус, маринованные огурцы с горчицей, чатни [27], кетчуп.
Фредерика и Стефани, обе влюбленные в Александра, с беспокойством думали о том, какое впечатление он составил об их доме. Александр одевался с небрежным изяществом: диагоналевые брюки, спортивный пиджак, замшевые ботинки и золотистая сорочка из шерстяной фланели. И красоту свою он нес как бы небрежно. Длинные каштановые пряди мягко ложились на задумчивый лоб, и все в нем было удлиненно, тонко, отчетливо — ухоженно, но без наивного усердия или щегольства. Сестрам казалось, что Александр должен находить пошловатым их вещественный мирок. Им хотелось бы предстать перед ним иначе. Неловкость осложнялась глубоким убеждением, что судить о них по внешним обстоятельствам тоже пошло. И тем более пошло и недостойно — им беспокоиться о мнениях Александра. Главное — внутренняя жизнь и твердость убеждений. Не сознавать этого и есть квинтэссенция пошлости. Так, весьма противоречиво, думали сестры, и это противоречие лежало в основе поттеровского характера, в одной точке объединяя всех.
Билл, без пиджака, с закатанными рукавами, обнажившими бледную синеву вен, резал холодную баранину, раскладывал по тарелкам горячую цветную капусту и вареный картофель. Попутно он экзаменовал Александра, терзал вопросами об интеллектуальных повадках сына. Одержимое упорство тоже было семейной чертой. По словам Билла, Маркус ничего не читал, кроме книжонок о приключениях отважного пилота Бигглза. Билл желал знать, до какой степени это ненормально. Сам Билл в его годы читал всех: Киплинга, Диккенса, Вальтера Скотта, Морриса, Маколея, Карлейля. Ему было ровно столько же, сколько Маркусу, когда приходской священник изъял у него «Джуда Незаметного» [28] и созвал его родных и друзей полюбоваться огненной жертвой.
— В часовне, в печи отопительного котла. Открыл дверцу, маленькую такую, круглую, и бедного «Джуда» затолкал туда щипцами. Самолично прикоснуться не пожелал. Зато прочел проповедь о греховных мыслях и гордыне нахватавшихся по верхам. То есть обо мне.
— И что вы сделали?
— Око за око. Холокост. Все их миссионерские брошюрки собрал и уничтожил. «Джонни подал пенни страждущим язычникам», «Прокаженные благодарят пастора» — всю эту гниль. Там люди гниют в прямом смысле слова — на кой им черт штаны, единобрачие и «блаженны нищие духом», если они не благословенны! Прочесть проповедь смелости не хватило, но я ее написал, уж как смог, и приколол к доске объявлений. Написал, что аутодафе — значит «акт веры», и мне, «нахватавшемуся по верхам», это известно. Что вот оно — мое аутодафе, а они все прокляты за ложную логику, подложные ценности и убожество слога. И за то, что сожгли «Джуда», которого я даже дочитать не успел.
— Удивляюсь, как родители от вас не отреклись, — с неловкой усмешкой сказал Александр.
— Отреклись. Еще как отреклись. На другой же день ушел я из дома с черным жестяным чемоданчиком. Книги и немного тряпья. С тех пор я их не видел. Винни свозила девочек познакомиться, но мне, черной овце, путь туда заказан, даже захоти я вернуться, а я не захочу... Нет, я стал коммивояжером. Послеоперационное и ортопедическое белье для мужчин. В Кембридж пришел из вечерней школы, с рабочего факультета. «Джуда» дочитал, урок усвоил. Ценишь то, за что пришлось поголодать и побороться.
История Билла впечатлила Александра, о чем он как раз хотел сказать, когда встряла Фредерика:
— И после этого ты жжешь наши книги?
— Я книги не жгу.
— Жжешь, если они тебе не нравятся. Ты дома цензуру завел.
Билл издал какое-то нутряное ворчание.
— Цензуру? А кто написал этой старой деве, этой сушеной пикше, когда тебя угораздило попасться в школе с «Любовником леди Чаттерли»? Да еще добавил, что преступление — не иметь в школьной библиотеке «Радуги» и «Влюбленных женщин».
— Я тебя не просила. И вообще, лучше бы ты ей не писал.
— Эта кретинка ответила, если я правильно помню, что закупила для библиотеки шесть экземпляров шедевра под названием: «Прекрасный миг, или Как рождается дитя». Видимо, для нее это некое доказательство свободомыслия.
— Она ничего плохого не хотела, — сказала Стефани. — Просто она такая: робкая, несуразная немного...
Фредерика, возгорясь, озиралась и, видимо, не знала, куда направить огонь: на Билла или на «Прекрасный миг».
— Книжка дурацкая, конечно. Эти схемы есть в любой инструкции от тампонов. И всякая чушь про высшее счастье, высшее доверие, про главное сокровище ушки... дурацкая метафора: там же внутри ничего нет! А она еще и проповеди нам читает — вот уж спасибо, не надо к моей биологии примешивать свой религиозный экстаз. И вообще, она же ничего об этом не знает!
— Но ты недовольна, что я смею ей возражать, когда она лишает вас настоящих книг и настоящего опыта жизни?
Фредерика перекинулась на Билла:
— Ты сперва сдал нас в эту жуткую школу, а теперь мешаешь нам самим решать свои проблемы. Пишешь письма мисс Уэллс про секс, про свободу, про литературу... Если хочешь знать, мне из-за тебя жить невозможно. Если хочешь знать, «Влюбленные женщины» так же растлительны для наших юных душ, как «Прекрасный миг». Да если бы я думала, что мне предстоит жизнь, которую воспевает Лоуренс, я бы прямо сейчас утопилась в Уродском прудике! Не нужен мне «довременный восторг осязания мистической инакости»! Можете оставить себе. Если вы его испытываете. Очень надеюсь, что Лоуренс все наврал, хотя знать, конечно, не могу... Что не мешает тебе навязывать мне его писания. А книги ты жжешь!
— Не жгу.
— Еще как жжешь. Все мои «Девичьи кристаллы» [29] и всю Джорджетт Хейер [30] сжег, а они были даже не мои. У меня один раз была почти-подруга, это я у нее одолжила.
— Ах да, припоминаю. — В глазах у Билла остро сверкнуло тогдашнее удовольствие. — Сжег. Но то были не книги.
— В них ничего такого не было. Они мне нравились.
— Растленные фантазии, пошлость и ложь.
— Кажется, уж я-то способна распознать фантазии. И что, собственно, плохого в фантазиях? Так мне хоть было о чем говорить с девочками.
Билл принялся говорить о правде в литературе. Александр посматривал на часы. Уинифред не в первый раз задавалась вопросом, что так неодолимо толкает Билла ссориться, зло и примитивно спорить с единственным ребенком, перенявшим его сплошную жажду печатного слова, его упоенный аналитизм.
Историю с «Кристаллами» она помнила. Почему Билл взялся шпионить, осталось невыясненным, но он нашел комиксы в коробке под кроватью Фредерики, упиваясь гневом, вынес их во двор и сжег в том же сетчатом железном баке, где сжигал садовый мусор. Одни за другими «Кристаллы» темнели и распадались. В летнее небо, танцуя, устремлялись черные хлопья и бледные огненные языки. Билл жречески помешивал в баке длинным железным прутом. Фредерика, потрясая руками, скакала вокруг огня и вопила от ярости — впрочем, весьма красноречиво.
Из всех детей Уинифред тревожила Фредерика. В ней жил какой-то демон. Учителя писали в характеристиках, что даже почерк у нее агрессивный. Уинифред не имела оснований в этом сомневаться. Стефани, более добрая и ленивая, считалась и более умной. Маркус, как верилось Уинифред, был миролюбив и самодостаточен. Эти двое умели, как и она, на гнев отвечать стоическим терпением. Фредерика не выходила из состояния войны.
За кофе Александру удалось наконец заговорить о пьесе. Он начал издали, с Кроу и его планов насчет университета. Билл немедленно взвился и сообщил, что отлично знает, как там обстоят дела. Он и сам в этом участвовал — поначалу, когда была еще надежда на что-то новое, действительно выросшее из курсов и вечерних школ. Но всякому терпению есть предел. Проректоры уродовали его программу, пока не подогнали под общий бесцветный стандарт, Кроу всюду совал свой нос, епископ добавил допотопных рюшек и богословских колледжей. И что в итоге? А в итоге они получат смесь Оксфорда и Кембриджа, только еще более прилизанную. Придумают церемонии «под старину». Исторические дома в округе выкрасят в жуткий «фестивальный» голубой, снабдят дверными молотками и населят профессорами-выскочками. Нет уж, спасибо. Он будет работать, как работал, без этой шумихи. Не привыкать. А Кроу — старый паук, сидит в своем замке, раскинул сеть и ловит околокультурную мошкару. О, он еще будет проректором — Билл за это ручается! Готовить нужно не титанов Возрождения, а людей, умеющих читать, считать и ясно выражать свои мысли, людей, имеющих непосредственный опыт жизни. Этого более чем достаточно.
Тут Александр успел ввернуть, что грядет Празднество и что сам он как раз написал пьесу и хотел бы узнать о ней мнение Билла. Ему повезло: пьесу поставят в рамках Празднества. Дальше сказал, что Кроу намерен оживить культурную жизнь края, и без убеждения добавил, что участие Билла, несомненно, будет необходимо. И что он надеется в летний семестр урвать сколько-то времени для участия в постановке пьесы, с согласия Билла, разумеется. Он уже не был безудержно счастлив и свободен, как недавно с Кроу и на мосту. Он говорил сдержанно, чуть ли не извиняясь. Билл выслушал его, не отвлекаясь от домодельной сигареты, которую сворачивал железно-резиновой машинкой, перекладывая смолистые и темные табачные шелушинки, аккуратно облизывая губы и тонкий краешек папиросного листка.
— Что это? Самодеятельность?
— Отнюдь.
— Потуги на новый Ренессанс?
— Нет, просто пьеса. Историческая. Драма в стихах. О Елизавете. — Он слегка запнулся. — Я сперва хотел назвать ее, вслед за Рэли [31], «Застигнутая временем врасплох». Помните портрет? Потом решил, что будет «Астрея» — так легче выговаривается. Я в смысле структуры многое подсмотрел у Фрэнсис Йейтс в ее статье о Деве Астрее.
Александр говорил и видел, что Билл все это считает претенциозной заумью.
— Ну что ж. Сперва нужно, чтобы я ее прочел. Есть у вас распечатка?
Александр извлек на свет одну из размноженных Кроу копий. Он только сейчас с легкой оторопью осознал: Биллу и в голову не приходило, что он может написать хорошую пьесу. Билл говорил тоном учителя, поощряющего усердие, но не дающего надежды там, где ее быть не может.
— А мы будем участвовать? — спросила Фредерика. — Мы считаемся культурной жизнью края? Я лично собираюсь стать актрисой.
— Конечно, — ответил Александр. — Будут прослушивания, и много. Для всех желающих. И в школах тоже. Я хотел бы, если Маркус не против, рекомендовать его на одну роль. Мне нужно знать, что он... и вы... об этом думаете.
— Я считаю, что в «Гамлете» он выказал настоящий талант, — сказал Билл.
— Я тоже, — закивал Александр. — Я тоже. И у меня для него есть отличная роль.
— Эдуарда Четвертого, конечно, — встряла неугомонная Фредерика. — А что, он смог бы. Везет же некоторым!
— Спасибо, мне не хочется, — сказал Маркус.
— Думаю, даже при твоей нагрузке, ты смог бы... — начал Билл.
— Я не хочу.
— Объясни хотя бы почему.
— Я на сцене без очков упаду.
— Не упал же, когда играл Офелию.
— Я не умею играть. Я не буду, не хочу играть. Я не могу.
— Мы еще вернемся к этому разговору, — сказал Александр, разумея: без Билла.
— Нет, — отвечал Маркус твердо, но уже забирая голосом вверх.
Раздался звонок, Фредерика поскакала открывать. Вернувшись, объявила со зловещим торжеством:
— А к нам курат с визитом. Желает говорить со Стефани.
Этим нафталиновым оборотом ужалены были все — от Шарлотты Бронте до Элизабет Гаскелл. Кураты не наносили визитов Поттерам. Если уж на то пошло, визитов им не наносил никто.
— Ты его что, в прихожей оставила? — всполошилась Уинифред. — Немедленно веди сюда.
В дверях появился курат. Он был высокий, крупный, толстый, весь заросший черным пружинным волосом, с густыми бровями и тяжкой челюстью, со щеками, синими от энергически прущей щетины. Его черное священническое одеяние свободно лежало на мощных плечах, жесткий стоячий воротничок — «ошейник» — охватывал крупную мускулистую шею.
Неспокойным голосом Стефани представила его: Дэниел Ортон, курат мистера Элленби из блесфордской церкви Святого Варфоломея. Дэниел оглядел компанию, после чего округло и полнозвучно попросил разрешения присесть, — возможно, то была умиротворительная уловка ремесла. Говор у него был невытравимо йоркширский, но южный, рабочий, без напевных северных интонаций Уинифред.
— Если это пасторский визит, то сообщаю вам: вы ошиблись домом, — заявил Билл. — Здесь паствы не обретете.
Курат словно бы не услышал его и сказал просто, что пришел на минутку поговорить со Стефани... с мисс Поттер. Если можно. Он обещал той девочке, Джули, что проведает котят. Дэниел уселся на свободной половине Фредерикина дивана, словно инстинктом почувствовав, где стоит коробка. Заглянул внутрь.
— Пока держатся, но говорить рано, — сказала Стефани.
— Джули во всем винит себя. Хорошо бы вам удалось их выходить.
— Только, пожалуйста, ничего ей не обещайте. И пожалуйста, не надейтесь слишком уж на меня: котята недоношенные, без матери. По сути, ведь это безумная затея.
— Нет-нет, нужно только правду, всегда... Я пришел... я не успел тогда сказать — именно сам сказать вам... Вы ее так хорошо утешили. Я это хотел сказать.
В ровном, без подъемов и спадов, йоркширском голосе курьезно проступали медово-пасторские нотки. Тут снова резко и повелительно вмешался Билл:
— Спасибо, мы уже достаточно наслышаны о происшествии с кошкой.
Дэниел чуть повернул к нему большую темную голову, видимо оценивая помеху. Потом опять взглянул на Стефани:
— Я подумал, может быть, вы захотите немного помочь мне с моей работой. Вы вот давеча спросили, как я работаю. Приходится быть настойчивым, назойливым даже, иначе ничего не добьешься. Мне кажется, с одним делом вы могли бы меня выручить... У меня просто такое чувство, может быть, я не прав. Мне подумалось...
— Лучше не сейчас, — еле слышно произнесла Стефани, залившись краской, уперев взгляд в колени.
— Может быть, я не ко времени, помешал? Тогда прошу меня извинить.
Александр поглядел на часы, на Поттеров, на курата:
— У вас в церкви, мистер Ортон, есть несколько превосходных росписей. Я нигде в Англии ничего подобного не встречал. Адская пасть [32] в нефе особенно хороша, и такой чисто английский Страховидный червь! [33] Краски выцвели, а все равно — настоящее пылающее пекло. Просто прекрасно. Жаль, что в церковной брошюрке так мало сведений и такой нелепо-пышный язык. Ее, как я понимаю, написала жена прошлого викария?
— Не знаю. Я не читал брошюрку. И в прекрасном не особенно разбираюсь. Но раз вы говорите, значит так и есть.
— Повторюсь: вы пришли не по адресу и в этом доме никого не завербуете, — произнес Билл. — Ваша организация плодит ложь и ложные ценности. Лично я не подойду к ней на пушечный выстрел.
— Это я уже понял.
— Я принужден жить в обществе, чьи законы и моральные принципы построены на недоказуемом мифе и рацеях этого ханжи, этого изувера апостола Павла. Но мы молчим. Мы уважаем церковь. Мы не задаемся вопросом, какие истины нам откроются, если ее попросту взять и уничтожить.
Глаза Билла метали молнии. Эту речь он произносил уже не раз и не два, но так редко выпадала возможность произнести ее в лицо священнику...
— Я не зову вас в церковь. Я прошу мисс Поттер помочь мне с одним делом.
— Напрасно не зовете. Какой же вы после этого священник? Где ваша вера? О, церковь не только мертва, она гниет!
— Вера у меня есть, — сказал Дэниел, тяжелыми руками сжимая большие колени.
— Ну да, разумеется! Единый Бог, Творец и так далее вплоть до причастия святых, прощения грехов, воскрешения мертвых и жизни вечной. Вы правда верите? И в ад, и в рай? Это, замечу вам, важно — во что мы верим.
— Верю и в ад, и в рай.
— В золотые города, в херувимов и серафимов, в жемчужные реки, в геенну огненную, в крылья и когти, в путь, усыпанный цветами, ведущий к свету немеркнущему? Или во что? Во что-то похитрей да посовременней? В то, что ад — наши собственные пороки? Меня, право, очень интересуют современные церковники...
— Видимо, больше, чем меня, — отвечал Дэниел. — Что вам в них?
— То, что мы как общество живем во лжи, мы отравлены, хоть многие этого не осознают. Отравлены вашими больными, порочными сказками. Труп на двух досках! Огнь! Древо! Соглашусь, впечатляет. Но это все ложь.
— Зачем вы на меня нападаете?
— В «Короле Лире» больше правды, чем во всех Евангелиях, вместе взятых. Я хочу, мистер Ортон, чтобы люди жили, жили полно и щедро. А вы стоите на пути.
— Ясно. Я не читал «Короля Лира». В мое время он для аттестата не требовался. Я закрою этот пробел. А теперь, если не возражаете, пойду домой. Я не из тех церковников, кто любит дебаты, и в сан проповедника пока не рукоположен. К тому же вы меня немного разозлили.
— Ты не прав, отец, — внезапно сказала Стефани. — Ты говоришь, а он делает. Я видела, как он работает, — в больницах и в других местах, куда ты ни за что не пойдешь, хоть и твердишь о жизненном опыте. И он знает «Лира», даже если не читал его.
— Уверен тем не менее, что Писание я знаю лучше.
— Я тоже уверена. А в чью пользу это говорит, пусть решит он. Простите нас, пожалуйста, мистер Ортон.
— Мы поговорим в более удачное время. — Как и Поттеры, Дэниел был упорен до одержимости.
— Я ничего не обещаю.
— Но мы поговорим.
— Вы делаете очень нужное дело, мистер Ортон, — через силу проговорила Стефани.
— Хорошо. Теперь я пойду.
Александр в сотый раз взглянул на часы и сказал, что ему тоже пора. Они вместе вышли на пустую улицу и несколько секунд стояли в относительно дружественном молчании.
— Он сумасшедший, — сказал Дэниел. — С чего он завелся?
— Ирония в том, что мистер Поттер — в своем роде верующий и даже народный проповедник. Просто он сформирован другой эпохой. Это у него бунт против собственных корней.
— Именно. Я тоже верующий, но в другом роде. И должен бы ему сочувствовать, но не могу. Впрочем, это не важно. Проповедник из меня плохой. Слова, слова...
— Слова — его профессия.
— Вот и пусть занимается профессией. Он нестройный человек. — По тону невозможно было понять, относится это к вере, эстетике или чему-то совсем иному.
Дэниел протянул Александру большую ладонь и крупно, развалисто, нестройно зашагал в сторону городка. Александр поспешно двинулся в противоположную сторону. Как все, кто боится прийти слишком рано, он не рассчитал и теперь опаздывал. Он побежал.
28 Социальный роман Томаса Гарди (1840–1928) о каменщике, замыслившем стать ученым и потерпевшем сокрушительное поражение от судьбы и общества. Был в штыки принят современниками, изымался из библиотек.
27 Пряная заправка из овощей или фруктов по образцу индийских соусов.
26 Фраза из поэмы Р. Браунинга (1812–1889) «Флейтист из Гаммельна» (перев. С. Я. Маршака).
33 Отсылка к народной балладе «О Страховидном черве и Морской макрели».
32 Живописный мотив, сохранившийся со времен средневековых мистерий.
31 Сэр Уолтер Рэли (1552/4–1618) — поэт, политик, военачальник, исследователь Нового Света, фаворит Елизаветы I.
30 Джорджетт Хейер (1902–1974) — английская писательница, автор исторических и детективных любовных романов.
29 «Девичий кристалл» — популярная в то время серия приключенческих комиксов.
3. На Замковом холме
На окраине Блесфорда, где сборные послевоенные домики и патлатые огороды вырывались в настоящие поля, был Замковый холм. К нему все еще бегом приблизился Александр. Замок, ненадолго вместивший низложенного Ричарда II [34], превратился в каменную скорлупу, внутри которой стриженые бугры и пригорки выпирали с двусмысленной натугой могильных курганов. Железные таблички указывали: пересохший колодец, призрачные укрепления, фундамент королевской опочивальни.
Позади аккуратно-безличного замка был заброшенный учебный лагерь для офицеров запаса. Полумесяцем стояли видавшие виды ниссеновские казармы [35] на треснутом термакадаме, а в длинные трещины несмело и слабо просовывались кипрей и желтуха. Не было флагштока в бетонном углублении, не было машин на стоянке. Лагерь имел такой вид, словно недавно подвергся удачной осаде. Из непритворенных дверей несло застарелой мочой. В одном бараке длинный ряд раковин и писсуаров был перебит и загажен. Обычные обитатели — шершавые грязные мальчишки, кружком над спичечным светом в щитках ладоней, — подняли головы навстречу Александру. На пороге одного из бараков хищная стайка девочек, свив руки, толкалась, шепталась, повизгивала. Самая взрослая, лет тринадцати, тощенькая и дерзкая, смотрела в упор. На ней болталось платьишко из поддельного шелка, а волосы покрывала невыносимо алая сетка. В уголке резного рта мерцала сигарета. Александр торопливо и нелепо махнул рукой в знак приветствия. Эти-то знают, подумал он, зачем я... зачем все сюда ходят.
Поверх проволочной изгороди он увидел Дженни, как она быстро идет через поле, полное репьев и коровьих лепешек. Руки сунуты глубоко в карманы, под жестким конусом синего макинтоша лодыжки и ступни такие крошечные. Голова, изящно повязанная красным платком, опущена. Все это было до мучения трогательно. Александр поспешил за ней. Под кронами маленького леса, у перелаза невесть зачем возникшей изгороди, догнал и поцеловал.
— Любовь моя...
— Послушай, я не могу, Томас дома спит, я его одного оставила, я не могу так рисковать, мне нужно домой...
— Милая, я опоздал. Я боюсь прийти раньше и сдрейфить и от этого опаздываю.
— Хорошо хоть кто-то из нас не боится.
Все же она взяла его за руку. Обоих знобило. К Александру вернулся давешний восторг.
— Как ты? — натянуто спросила она.
— Превосходно! Дженни, слушай, Дженни...
Он принялся рассказывать о пьесе. Она молчала, и он слышал, как слабеет его голос.
— Дженни...
— Я очень рада. Я очень за тебя рада.
Она пыталась потихоньку выпростать ладонь. Этот мелкий отпор чаровал его до оцепенения. Беда — или нега — была в том, что вся Дженни составляла для него некую цепенящую, повелительную чару. Когда она раздражалась, что бывало нередко, зачаточные, оборванные движения ее гнева доставляли ему острое наслаждение. Если в гневе она отворачивалась, он впивался взглядом в ее ухо, в напряженный мускул шеи. Его чувства были до сумасшествия просты и упорны. Александр однажды попытался объяснить их Дженни, и тут уж она рассердилась по-настоящему.
Нужно было что-то сделать. Он потянул Дженни за запястье (ее ладонь успела снова нырнуть в карман):
— Ты сердишься. Прости, что я опоздал.
— Ах, это не важно! Я и не ждала, что ты придешь вовремя. Наверное, я эгоистка: если пьеса состоится (а она состоится), ты начнешь пропадать. Если будет большой успех — и вовсе уедешь. Я бы на твоем месте уехала, я...
— Не глупи. Может, благодаря пьесе будут деньги. А с деньгами я куплю машину.
— Как будто машина все изменит.
— Не все, но что-то.
— Ничего практически.
— Мы могли бы уезжать...
— Куда? На сколько? Мечты!
Этот разговор о машине повторялся из раза в раз.
— Дженни, ты могла бы играть в моей пьесе. — Он чуть запнулся на слове «моей». — Мы бы виделись каждый день. Было бы все, как вначале.
— Сомневаюсь.
И все же она остановилась, приникла к нему. У Александра закружилась голова.
— У нас с тобой — вечное начало. Не пора ли закончить?
— Но мы же любим друг друга. И мы договорились: брать хотя бы то малое, что...
Они всегда упирались в эту фразу.
Однажды Джеффри Перри, учитель немецкого, стесняясь, попросил Александра дать его жене какую-нибудь роль в постановке «Она не должна быть сожжена». Дженни после родов затосковала, может быть, театр ее исцелит. Александр как-то смутно помнил миссис Перри: топала по школьным газонам округлая дамочка, похожая на луковку, неуклюжая, как все низкорослые.
Он был, однако, галантен, пригласил ее к себе прочесть что-нибудь на пробу за стаканчиком шерри. Дженни, слишком туго заряженная жизнью для этих тесноватых стен, оказалась грозовой Клеопатрой и напевной, лирической Дженнет. И разумеется, он утвердил ее на роль Дженнет: Блесфорд талантами не блистал. Муж-германист приходил благодарить.
На репетициях он очень скоро ее невзлюбил. За первые два дня она наизусть выучила свою роль, расписание репетиций и все остальные роли. Предлагала тут урезать, тут поменять мизансцену, тут под открытие занавеса пустить такую-то музыку. Она суфлировала, где не просили, давала советы. Александр нервничал, актеры путались и смущались. Как-то раз, когда они вдвоем репетировали в трюме [36], в тесном и душном закутке его, где хранились музыкальные инструменты, Дженни единым духом попрекнула Александра просторечным словцом, усомнилась в выборе его актеров и в правильности приведенной цитаты. Он миролюбиво возразил, что, мол, не стоит из каждой мелочи делать вопрос жизни и смерти.
Она попятилась, покачнулась и вдруг бросилась на него, целя рукой в лицо. Он отступил, запнулся о позолоченный пюпитр и, падая, задел головой пианино. Потекла кровь из ссадины на затылке, из разодранной ногтями щеки. Дженни от столь яростного броска не устояла на ногах и свалилась на Александра, лепеча в трюмной пыли, что это вопрос — ее жизни и ее смерти, потому что с ребенком скучно и от него пахнет, а мальчишки еще скучней и пахнут невыносимо, и все в этой скучной дыре помешаны на мерзких мальчишках. Она с трудом поднялась на колени меж его раскинутых ног и сердито отбрасывала назад длинные черные пряди.
— Жизнь! Это не жизнь, а распад мозга. Здесь же нет человеческих разговоров. Так, что-то вроде — и то когда играем. Играем в студентов, которые играют в актеров, которые играют в средневековых ведьм и солдат. Метафорические радости! И вот я всеми командую, я невыносима, и вы с ваших высот мне на это деликатно указываете.
Она снова занесла руку, но он лишь с улыбкой прикрыл лицо.
— В университете мечтала по глупости: получу диплом, и мне откроется весь мир. Как бы не так! Я заперта. Ни мыслей, ни разговоров, ни надежды. Хотя что это я? Вам не понять.
Александр неизбежно успел сделаться исповедником для молодых замужних женщин, полных энергии, скучающих без настоящей работы, одиноких в тесном мужском мирке. Он подумал, что отлично все понимает, но ей говорить не стал. Вместо этого притянул к себе и поцеловал.
Учительские спектакли ставились не чаще чем раз в два-три года. Обществу требовалось время, чтобы оправиться от потрясений, непременно вызываемых редкой здесь смесью алкоголя, драмы и разных степеней неглиже. Александр, ранее выступавший лишь позабавленным наблюдателем, поначалу был слегка оскорблен трафаретным развитием событий, визитами в дамскую гримерную с витавшим в ней робким душком водевильного адюльтера. Он не любил разочаровывать и потому застегивал крючки своей приме, поправлял декольте, прикасался, в отсутствие явных соглядатаев, щекой, а то и губами к маленьким круглым грудкам. Но его конфузливый холодок должен был отступить перед ее блистательным, блаженным безрассудством. Александр отозвался ей, как хороший актер отзывается на бескорыстную гениальность партнера. В день премьеры, стоя в кулисах за миг до выхода, он сказал: «А ведь я люблю тебя» — и видел, как смущение, жар, надежда преображают ее игру (этого он, впрочем, ожидал). Он собирался, он твердо намерен был после спектакля лечь с ней в одну постель.
С тех пор минул почти что год. Год свиданий урывками, звонков по сговору, побегов, пряток, писем и лжи. Письма двигались потоком, попутным пьесе, фразы из писем в пьесу перетекали. С ироничной нежностью, с нетерпеливой страстью, с тонкими цитатами, с уличными словечками, с подробностями все более определенными — описывался в них миг, когда им наконец подвернется пресловутая постель. Он думал порой, что письма их уплотнились почти до правды и слияние, так много раз воображенное, — при полной их невинности — произошло.
Замковый лес у подножия холма тревожили и теснили новые постройки, но влюбленные вскоре освоились в нем. Их тайные прибежища почти всегда носили недавние следы чужого пребывания. И все же бывали дни, когда изначальное сумасбродство, смеясь, брало верх, когда любовь примятую траву и салфетки в помадных мазках освещала чем-то новым. Однажды Дженни обнаружила там полупустую жестянку печеных бобов, а в ней — использованный чехольчик. «Суррогат супружеского счастия», — торжественно объявила она, а Александр, запустив находку в ближайшие кусты, заметил: «Скорей уж обряд бесплодия: печеные бобы и семя, уловленное в резину». Они много смеялись этому.
Александр отшвырнул рваную газету и уложил Дженни в ложбинку, спиной к дереву. Левая рука обнимала ее, а правая расстегивала пуговки. Дженни положила ладонь ему на бедро.
— Я все жду, что из кустов высунутся мальчишки. Знаешь, рядами, как в кино, и с этими их гадкими улыбочками. Мне кажется, лес ими кишит. Снуют, вынюхивают...
— Ты на них помешалась.
— Знаю. Это ужасно. Никогда не думала, что их возненавижу. И Томас, бедный, вырастет и станет таким же мальчишкой. Только уж в Блесфорд я его не отдам: изгоем он не будет, как младший Поттер...
— Он изгой?
Александр уже расстегнул ее дождевик и вязаный кардиган. Раскрыл их и принялся за юбку.
— Конечно изгой. Всегда один. Знаешь, в нем есть что-то ненормальное. Недавно видела его в Дальнем поле: носился один туда-сюда, как заяц, а потом лег на землю.
Александр открыл ей шею и грудь, драгоценной оправой расположил вокруг складки одежды. Дженни сидела тихо, как статуя. Он вздохнул и прижался лицом к ее лицу. По ней пробежала дрожь.
— Александр... ты любишь мальчиков?
— Тш-ш-ш.
— Нет, правда.
— Ты думаешь, я уранит? Учительские жены подозревают всех неженатых.
Он блаженно водил лицом по ее открытой коже.
— Нет, Дженни, я просто люблю их учить. Никогда мне не хотелось кого-то из них обнять, прикоснуться или что-то в этом роде.
Он подумал, покойно устроив голову у нее на груди, что никогда, собственно, не знал этой неодолимой жажды: прикоснуться к другому. Каждый раз он мог бы так же легко уклониться. Его жажду, подлинную жажду высказать было нельзя. Вместо этого он спросил:
— Почему я так счастлив? Наше положение должно бы приводить меня в бешенство...
— Должно. Но не приводит.
— Будь у нас хоть какое-то место... постель — неужели ты думаешь?..
— Не знаю. И навряд ли узнаю.
Неутоленность и эти быстрые недобрые вспышки тоже были частью сценария. Она сидела совсем неподвижно. Александр занялся ее бедрами. Тронул прохладно-упругую плоть на границе туго натянутых скользких чулок и пояса с цепкими подвязками. Чутко пробежал по пряжкам и рубчикам. Поднырнул под край трусиков, туда, где теплые складки и колкие волоски, где мягкое. Она вздохнула, откинулась, передвинула руку у него на бедре. «Не шевелись, застынь», — мысленно умолял он, а беззвучные пальцы его трепетали особым стаккато. Тело под одеждой, тело в одежде, наложение покровов гладких, суровых, тягучих, текучих, бесконечное разнообразие их — все это было упоительно... Должно быть, способов любви столько же, сколько людей на земле. Он любил медлительное нарастание, когда медлительность почти уже переходит в недвижность. Разумеется, никакого труда не составило бы ему взять ее тут же, в лесу. Под пальто или пледом они рисковали быть замеченными не более, чем сейчас. Тут, думал он, замешалась эстетика. Осилить ее среди смятой, перекрученной одежды, среди обломанных веток, клейких буковых семян, среди разных влаг. «Осилил грубо». Странное дело: он предчувствовал, что отпора не встретит, и все же неотвязно мыслил образами насилия. Была, безусловно, в нем самом некая странность. Что ж, с этим нужно жить. Он длил свое трепещущее стаккато, чтобы она оставалась недвижной и раскрытой, и думал, как часто бывало в эти минуты, о Т. С. Элиоте: «непобедимый голос». Филомела и Тирей. «Ее осилил грубо». «Но плакала она, но по сегодня мир соловьями плачет...» — времена! Вплотную время прошедшее и настоящее [37]. Да, борения с Шекспиром — вещь почтенная, но другой голос подбирался ближе и жалил коварней. Налетела молниеносная паника. У него никогда не будет своего голоса. Была строка — он думал, его. Может, с призвуком Овидия, но его, умно повернутая в духе нового Ренессанса... Поменять, не забыть поменять — этот проклятый ритм определенно от Элиота. В его размышления Дженни всыпала бусинки слов:
— Александр, милый, мне нужно бежать, нужно к Томасу, и у меня внизу все онемело, и...
Тут он заметил, что и сам почти до бесчувствия отлежал бедро, что давно и сильно болит от упора левое запястье. Взглянул на Дженни. В глазах ее стояли крупные слезы. Он молча достал платок и бережно отер их.
— Что с тобой, милая?
— Ничего. Все сразу. Я тебя люблю.
— И я тебя.
Он привел в порядок ее одежду, снова укрыл белизну груди, методически застегнул пуговки на блузке, кардигане, дождевике, поправил сбившийся шов чулка, отряхнул подол.
Они вынули ежедневники, назначили новую встречу, пообещали писать. Потом она, как всегда, ушла не оглядываясь, очень быстро, почти бегом. Он, как всегда, остался: полагалось выждать установленные пятнадцать минут.
Откинувшись на кучу сухих листьев, он принялся сочинять будущее письмо, в котором уязвимость их онемевших, неловко друг к другу притиснутых тел как-то свяжется с этим его ощущением блаженно-золотого, бескрайнего времени и пространства. Дженни оставила после себя такое тепло. Он был целиком захвачен ею. Он улыбался.
В Веймуте, в его мальчишеских, одиноких песках была у него подружка, морская девочка, бело-золотая, чистая, сияющая, как Элли из «Детей вод» [38]. Или он сам был ею — слишком уж явственно было ее пенистое бытие. Какой-то отсвет морской девочки был и в его Елизавете. Возможно, временами он хотел быть женщиной. Мысль будто не о себе, а о ком-то другом. Но если так, его желание должно было сообщить пьесе некую особенную силу или энергию. Нужно хорошенько заняться этой псевдоовидиевой, псевдоэлиотовой строкой.
Выждав достаточно, он решительно зашагал к Замковому холму. Разнополые банды успели перемешаться и вместе пекли что-то в жестянках на тощем костерке. Девочка с алыми волосами раскинулась, разбросав ноги, на коленях у самого крупного и корявого мальчишки. Платье ее было вздернуто до бедер. Три девочки поменьше сидели тут же и смотрели не отрываясь: их напряженное внимание явно было существенной частью действа. Когда Александр вышел из темноты, они разом уставились на него. Тем же прирожденным движением, каким трехлетка, задрав подол, являет круглый живот и сползшие панталончики любой мужской особи, алая девочка изогнулась и, подрагивая, наставила на него развилку бедер. Лениво помахала рукой и издала громкий, непристойный звук. Кровь прихлынула Александру в лицо, защекотала у корней волос. Побитый в каком-то довременном состязании, он опустил глаза.
38 Героиня детской книги преподобного Чарльза Кингсли (1819–1875), в которой «дети вод» — маленькие утопленники — познают добро и искупление.
37 Отсылка к сцене из поэмы Т. С. Элиота «Бесплодная земля»:
А на картине над доской каминной,
Как бы в окне, открытом в лес, свершалась
Метаморфоза Филомелы. Царь Тирей,
Фракиец дерзостный, ее осилил грубо, —
И тут вблизи зачокал соловей,
Непобедимым голосом наполнив
Пустыню до последнего предела.
Но плакала она, но по сегодня
Мир соловьями плачет в уши злу:
«Чок-чок, чок-чок» — в нечищеные уши.
36 Помещение под сценой.
35 Металлические сооружения полуцилиндрической формы, применявшиеся в ходе Первой и Второй мировой войны.
34 Ричард II Бордоский (1337–1400) кончил жизнь в замке Понтефракт. Есть мнение, что его уморили голодом.
