автордың кітабын онлайн тегін оқу Повесть о любви и тьме

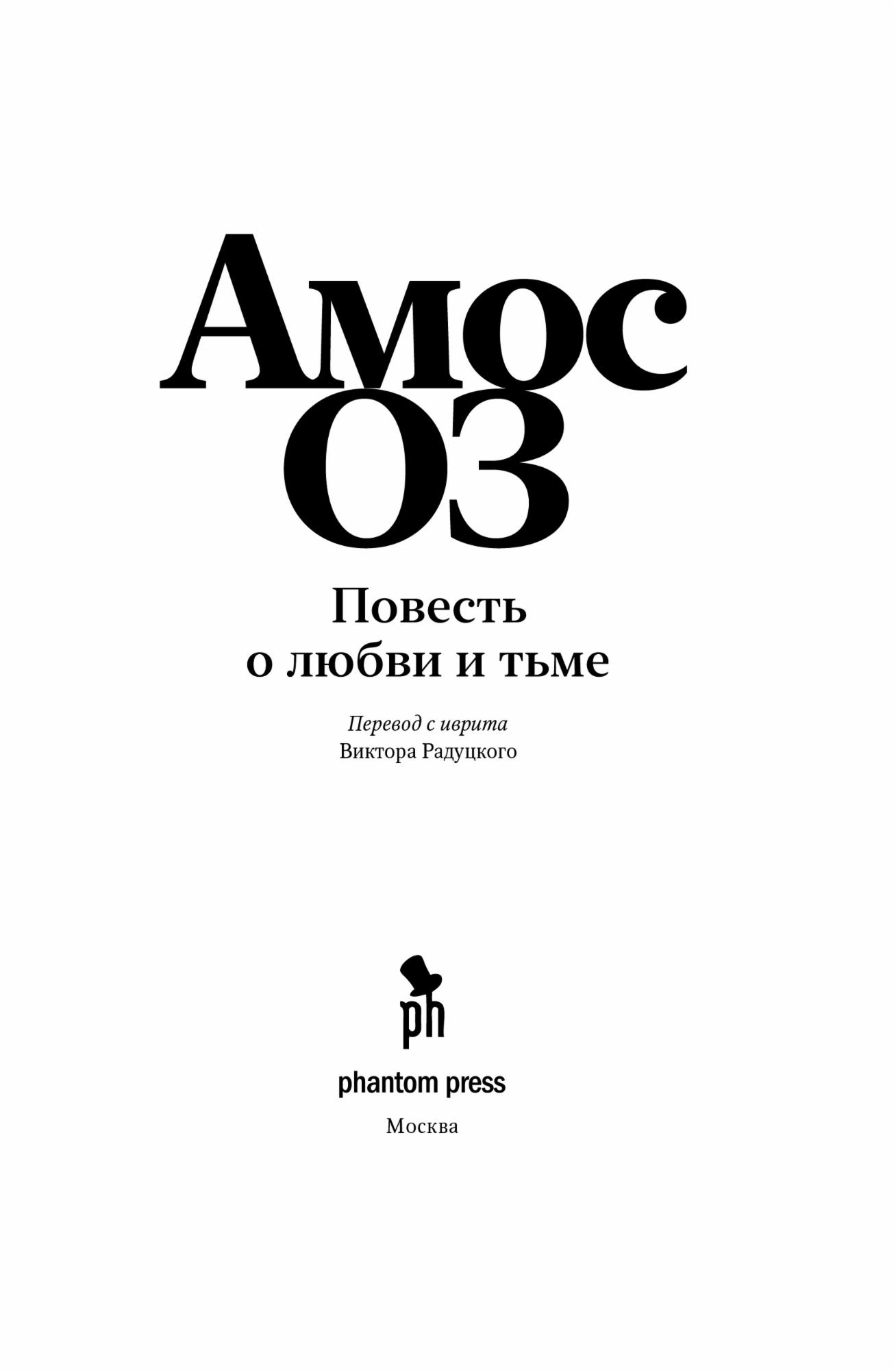
1
Я родился и вырос в крошечной квартирке с низкими потолками. В ней было около тридцати квадратных метров, и располагалась она на самом нижнем этаже. Родители спали на диване, который, когда его по вечерам раздвигали, занимал почти всю их комнату. Ранним утром этот диван заталкивали в самого себя, постельные принадлежности прятали во тьму нижнего ящика, матрас переворачивали, все закрывали, закрепляли, застилали светло-коричневым покрывалом, разбрасывали несколько вышитых подушек в восточном стиле — и не оставалось никаких улик ночного сна. Таким образом, комната родителей служила и спальней, и кабинетом, и библиотекой, и столовой, и гостиной. Напротив располагалась моя каморка — светло-зеленые стены, половину пространства занимал пузатый одежный шкаф. Темный коридорчик, узкий и низкий, слегка изогнутый, напоминающий вырытый узниками для побега подземный ход, соединял эти две комнатушки с кухонькой и закутком уборной. Тусклая электрическая лампочка, заключенная в железную клетку, едва освещала коридорчик, и мутный свет этот не гасили даже в дневные часы. В комнатках имелось по одному окошку. Защищенные железными жалюзи, они словно старательно моргали, изо всех сил пытаясь увидеть восток, но видели только запорошенный пылью кипарис да ограду из нетесаных камней. А кухня и туалет сквозь свое зарешеченное оконце выглядывали в зацементированный дворик, окруженный высокими, словно тюремными, стенами. В дворике этом, куда не проникал ни единый солнечный луч, медленно чахла бледная герань, торчащая из ржавой жестянки из-под маслин. На подоконниках у нас вечно теснились закупоренные банки с солеными огурцами, компанию им составлял кактус, окопавшийся в вазе, которой из-за трещины пришлось переквалифицироваться в цветочный горшок.
Квартирка располагалась в полуподвале: нижний этаж дома был вырублен в склоне горы. Эта гора соседствовала с нами через стену — иметь такого соседа было нелегко: угрюмый, молчаливый, давно уже одряхлевший, меланхоличный, с привычками застарелого холостяка, но с другой стороны — строго оберегающий тишину, погруженный в неизбывную зимнюю спячку, этот сосед-гора никогда не передвигал мебель, не принимал гостей, не шумел и не причинял хлопот. Но через две общие с нашим печальным соседом стены к нам просачивались легкий, но неистребимый запах плесени, влажный холод, тьма и безмолвие.
И на протяжении всего лета у нас сохранялась толика зимы. Гости, бывало, говорили:
— Как у вас приятно, когда из пустыни дует раскаленный ветер, как спокойно и даже, можно сказать, прохладно. Но как вы здесь живете зимой? Не пропускают ли стены сырости? Не действует ли все это зимой несколько угнетающе?
● ● ●
В обеих комнатах, кухоньке, туалете и особенно в коридорчике царила тьма.
Весь дом был забит книгами: отец читал на шестнадцати или семнадцати языках и говорил на одиннадцати (на всех — с русским акцентом). Мама говорила на четырех или пяти языках и читала на семи или восьми. Если они хотели, чтобы я их не понял, то говорили друг с другом по-русски или по-польски. А они довольно часто хотели, чтобы я их не понимал. Когда однажды мама случайно в моем присутствии сказала о ком-то на иврите “племенной жеребец”, отец сердито одернул ее по-русски: “Что с тобой? Разве ты не видишь, что тут мальчик?”
Руководствуясь своими представлениями о культуре, книги они предпочитали на немецком и английском, а сны, посещающие их ночами, наверняка видели на идише. Но меня они учили только ивриту — возможно, из опасения, что знание языков сделает меня беззащитным перед соблазнами Европы, такой прекрасной и такой убийственно опасной.
В иерархии ценностей моих родителей Запад занимал особое место: чем “западнее”, тем выше культура. Толстой и Достоевский были близки их “русским” душам, и все-таки мне казалось, что Германия — даже несмотря на Гитлера — представлялась им страной куда более культурной, чем Россия и Польша, а Франция опережала в этом смысле и Германию. Англия же явно стояла выше Франции. Что же касается Америки, то здесь они пребывали в некотором сомнении: разве там не стреляют в индейцев, не грабят почтовые поезда, не моют золото и не охотятся за девушками как за добычей?..
Европа была для них вожделенной и недоступной землей обетованной — краем колоколен, церковных куполов, мостов, площадей, мощенных древними каменными плитами, улиц, по которым бегают трамваи, краем заброшенных деревушек, целебных источников, лесов, снегов, зеленых лугов...
Все эти “избы”, “луга”, “девушки, пасущие гусей” притягивали и волновали меня все мое детство. От них исходил чувственный аромат подлинного мира, полного безмятежности, в котором нет пыльных жестяных крыш, свалок, зарослей колючек, выжженных холмов Иерусалима, задыхающегося под гнетом раскаленного лета. Стоило только прошептать “луг”, и мне слышалось журчание ручья, мычание коров и перезвон колокольчиков. Зажмурившись, видел я прекрасную девушку, пасущую гусей, и она казалась мне до слез сексуальной — задолго до того, как я что-либо узнал о сексе.
● ● ●
Спустя много лет я узнал, что Иерусалим в двадцатые — сороковые годы, во времена британского мандата, был городом потрясающе богатой и разнообразной культуры. Это был город крупных предпринимателей, музыкантов, ученых и писателей. Здесь творили Мартин Бубер, Гершом Шолем, Шмуэль Иосеф Агнон и многие другие великие мыслители и деятели искусства. Порой, когда мы шли по улице Бен-Иехуда или по бульвару Бен-Маймон, отец шептал мне: “Вон там идет ученый с мировым именем”. Я не понимал, что он имеет в виду. Я думал, что “мировое имя” связано с больными ногами, потому что довольно часто слова эти относились к какому-нибудь старику, одетому даже летом в костюм из плотной шерсти и тростью нащупывающему дорогу, потому что ноги его едва передвигались.
Иерусалим, на который с почтением взирали мои родители, лежит далеко от нашего квартала — этот Иерусалим можно было найти в Рехавии, утопающей в зелени и звуках рояля, в трех-четырех кафе с золочеными люстрами на улицах Яффо и Бен-Иехуда, в залах ИМКА, в гостинице “Царь Давид”... Там еврейские и арабские ценители культуры встречались с учтивыми, просвещенными, широко мыслящими британцами, там, опираясь на руку джентльменов в темных костюмах, плыли и порхали томные женщины с длинными шеями, в бальных платьях, там проходили музыкальные и литературные вечера, балы, чайные церемонии и утонченные беседы об искусстве... А может, этот Иерусалим, с люстрами и чайными церемониями, и не существовал вовсе, а был только в воображении обитателей нашего квартала Керем Авраам, где жили библиотекари, учителя, чиновники, переплетчики. Во всяком случае, тот Иерусалим не соприкасался с нами. Наш квартал, Керем Авраам, принадлежал Чехову.
Когда спустя годы я читал Чехова (в переводе на иврит), то не сомневался, что он — один из нас: дядя Ваня ведь жил прямо над нами, доктор Самойленко склонялся надо мной, ощупывая своими широкими ладонями, когда я болел ангиной или дифтеритом, Лаевский с его вечной склонностью к истерикам был маминым двоюродным братом, а Тригорина мы, случалось, ходили слушать в Народный дом на субботних утренниках.
Конечно же, окружавшие нас русские люди были самыми разными — например, было много толстовцев. Некоторые из них выглядели точь-в-точь как Толстой. Увидев впервые портрет Толстого — коричневую фотографию в книге, я был уверен, что не раз встречал его в нашем районе. Он прохаживался по улице Малахи или спускался по улице Овадия — величественный, как праотец Авраам, голова не покрыта, седая бородища развевается на ветру, глаза мечут искры, в руке суковатый посох, крестьянская рубаха, спускающаяся поверх широких штанов, перепоясана грубой веревкой.
Толстовцы нашего квартала (родители называли их на ивритский лад — “толстойщики”) были все воинствующими вегетарианцами, блюстителями морали, они стремились исправить мир, всей мощью своей души любили природу, любили все человечество, любили каждое живое существо, каким бы оно ни было, они были пропитаны пацифистскими идеями и неизбывной тоской по трудовой жизни, простой и чистой. Все они страстно мечтали о настоящей крестьянской работе, в поле или саду, но даже собственные непритязательные комнатные цветы в горшках им вырастить не удавалось: то ли поливали их столь остервенело, что цветы отдавали богу душу, то ли не поливали вовсе. А возможно, виновата в том была враждебная нам британская администрация, имевшая обыкновение сильно хлорировать воду.
Некоторые толстовцы сошли, казалось, прямо со страниц романов Достоевского — снедаемые душевными муками, непрерывно ораторствующие, задавленные собственными инстинктами, обуреваемые идеями. Но все они, и толстовцы и достоевцы, все эти обитатели квартала Керем Авраам, по сути, вышли из Чехова.
Все, что простиралось за пределами нашего маленького мирка и звучало для меня как одно слово — весьмир, — называлось у нас обычно “большой мир”. Но были у него и другие имена: просвещенный, внешний, свободный, лицемерный. Я познавал этот мир с помощью коллекции марок — Данциг, Богемия и Моравия, Босния и Герцеговина, Убанги-Шари, Тринидад и Тобаго, Кения-Уганда-Танганьика. Весьмир был далеким, манящим, волшебным, но полным опасностей и враждебным нам: евреев не любят — потому что они умны, остры на язык, потому что они преуспевают, но также и потому, что они шумны и, главное, рвутся быть впереди всех. Не нравится большому миру и то, что мы делаем здесь, в Эрец-Исраэль, — уж больно глаза у людей завидущие, им не дает покоя даже этот клочок земли, где нет ничего, кроме болот, скал и пустыни. Там, в большом мире, все стены были покрыты подстрекательскими надписями: “Жиды, убирайтесь в Палестину!” Вот мы и убрались в Палестину, и теперь весьмир поднялся и орет: “Жиды, убирайтесь из Палестины!”
Не только весьмир, но даже Эрец-Исраэль была далека от нас: где-то там, за горами, формируется новая порода евреев-героев — загорелых, крепких, молчаливых, деловых людей, совсем не похожих на евреев, живших в диаспоре, совсем не похожих на обитателей квартала Керем Авраам. Парни и девушки — первопроходцы, осваивающие новые земли, упорные, смуглые от солнца, немногословные, сумевшие поставить себе на службу даже ночную тьму. И в отношениях парней с девушками, равно как и в отношениях девушек с парнями, они уже сломали все запреты, прорвали все препоны. Они ничего не стыдятся.
Мой дедушка Александр как-то сказал:
— Они верят, что в будущем это будет совсем просто — парень сможет подойти к девушке и попросить у нее это, а возможно, девушки даже не станут дожидаться такой просьбы, а сами предложат это, как предлагают стакан воды.
Близорукий дядя Бецалель возмущенно возразил, постаравшись выдержать вежливый тон:
— Но ведь это же чистейший большевизм! Так вот запросто разрушить очарование тайны?! Так запросто отменить всякое чувство?! Превратить нашу жизнь в стакан теплой воды?!
Дядя Нехемия из своего угла вдруг затянул, то ли подвывая, то ли рыча, как загнанный зверь:
Ой, мама, дорога трудна и длин-на,
Тро-пи-инка петляет упря-ямо.
Бреду я, шатаясь, и даже лу-на
Сейчас ко мне бли-иже, чем ма-ма...
Тут тетя Ципора вмешалась по-русски:
— Ну хватит, довольно. Вы все с ума посходили? Ведь мальчик вас слушает!
И все перешли на русский.
● ● ●
Первопроходцы, осваивающие новые земли, существовали где-то за нашим горизонтом, где-то в долинах Галилеи и Самарии. Закаленные парни с горячими сердцами и в то же время спокойные и рассудительные. Крепкие, хорошо сложенные девушки, прямодушные и сдержанные, словно они уже все постигли, все знают, и ты тоже им понятен, как и то, что приводит тебя в смущение и замешательство, но тем не менее они относятся к тебе доброжелательно и уважительно — не как к ребенку, а как к мужчине, который просто не вышел ростом.
Такими они представлялись мне, эта парни и девушки, покорители новых земель, — сильными, серьезными, владеющими какой-то тайной. Они могли, собравшись в круг, петь песни, пронзающие сердце любовным томлением, а затем с легкостью переходить к песням шуточным или даже к полным дерзкой страсти и ужасающей откровенности, вгоняющей в краску. Им ничего не стоило пуститься в бурный, неистовый, доводящий до экстаза танец, и в то же время они способны были к серьезным размышлениям в одиночестве. Их не пугала ни жизнь в шалаше, построенном прямо в поле, ни любая тяжелая работа. Они жили, следуя своим песенным заповедям: “Дан приказ — мы всегда готовы!”, “Парни твои принесли тебе мир на плуге, сегодня они несут тебе мир на винтовках”, “Куда бы ни послали нас — мы пойдем”. Они умели скакать на необъезженной лошади и водить гусеничный трактор, владели арабским, им были знакомы потаенные пещеры и русла пересыхающих рек, они умели обращаться с револьвером и ручной гранатой, и при этом они читали стихи и философские книги, были эрудитами, способными отстоять свое мнение, но скрывающими свои чувства. И порой заполночь, при свете свечи, приглушенными голосами спорили они в своих палатках о смысле жизни и о проблемах жестокого выбора — между любовью и долгом, между интересами нации и справедливостью.
Иногда я с приятелями ходил на хозяйственный двор компании “Тнува”, где разгружали машины, доставлявшие на переработку сельскохозяйственную продукцию. Я хотел увидеть их — прибывших на этих доверху груженных машинах из-за темных гор, их, “припорошенных песком, перепоясанных ремнями, обутых в тяжелые ботинки”... Я, бывало, крутился вокруг, вдыхая запахи луговых трав, пьянея от ароматов далеких пространств. Там, у них, воистину вершатся великие дела: там строят нашу страну, исправляют мир, созидают новое общество, меняя не только ландшафт, но и саму историю; там распахивают поля, сажают виноградники; там творят новую поэзию; там, вооруженные, они летят на конях, отстреливаясь от арабских банд; там из презренного праха человеческого рождается народ-воин.
Втайне я мечтал, что в один прекрасный день они возьмут меня с собой. И я вольюсь в народ-воин. И моя жизнь тоже переплавится в новую поэзию, станет чистой, честной и простой, словно стакан родниковой воды в день, когда дует знойный ветер пустыни — хамсин.
● ● ●
За темными горами был еще и тогдашний Тель-Авив — город, живущий бурной жизнью, откуда прибывали к нам газеты и слухи о театре, опере, балете, кабаре, о современном искусстве и партиях, откуда долетало к нам эхо жарких дискуссий с обрывками весьма туманных сплетен. Там, в Тель-Авиве, были замечательные спортсмены. А еще там имелось море, и в этом море было полно загорелых евреев, умелых пловцов. А в Иерусалиме — кто тут умел плавать? Кто вообще слышал когда-нибудь о плавающих евреях? Это ведь совсем иные гены. Мутация. “Как чудо рождается бабочка из червя...”
Было какое-то тайное очарование в самом слове “Тель-Авив”. Когда его произносили, в моем воображении возникал образ этакого крепкого, на совесть сработанного парня, поэта-рабочего-революционера — в голубой майке и кепке, надетой с небрежным щегольством, загорелого, широкоплечего, кудрявого, дымящего сигаретой “Матусиан”. Такого называют “рубаха-парень”, и он чувствует себя своим во всем мире. Целый день он тяжело работает — мостит дороги, трамбует гравий, — вечерами играет на скрипке, по ночам в песчаных дюнах при свете полной луны танцует с девушками или поет задушевные песни, а на рассвете достает из тайника пистолет или автомат “Стен” и уходит, невидимый, во тьму — защищать поля и мирные жилища.
Как же далек был от нас Тель-Авив! За все свои детские годы я был в нем не более пяти-шести раз — мы, случалось, ездили на праздники к тетушкам, маминым сестрам. По сравнению с нынешними днями в тогдашнем Тель-Авиве и свет был совсем иным, чем в Иерусалиме, и даже законы гравитации действовали совершенно иначе. В Тель-Авиве ходили, словно астронавт Нил Армстронг на Луне — что ни шаг, то прыжок и парение.
У нас в Иерусалиме люди вечно ходили как на похоронах или как опоздавшие, пробирающиеся на свое место в концертном зале, — сначала земли касается носок башмака, словно пробуя, надежна ли твердь. Затем ставится вся стопа, но не спешит перемещаться: наконец-то, через две тысячи лет, обрели мы право поставить свою ногу в Иерусалиме, так не станем спешить. Ведь стоит приподнять ногу, мигом явится кто-то еще и отберет у нас этот клочок нашей земли, эту “единственную овечку бедняка”, как говорит ивритская пословица. Но если уж ты поднял ногу, не торопись опустить ее вновь: кто знает, какой клубок гадюк, вынашивающих гнуснейшие замыслы, копошится там? Разве на протяжении тысячелетий не платили мы кровавую цену за свою неосмотрительность, вновь и вновь попадая в руки притеснителей, потому что ступали, не проверив, куда ставим ногу?
Примерно так выглядела походка иерусалимцев. Но Тель-Авив — вот это да! Весь город — словно кузнечик! Люди куда-то неслись, и неслись дома, и улицы, и площади, и морской ветер, и песок, и аллеи, и даже облака в небесах.
Как-то мы приехали весной, чтобы провести ночную пасхальную трапезу в семейном кругу. Ранним утром, когда все еще спали, я оделся, вышел из дома и отправился в дальний конец улицы, чтобы поиграть в одиночестве на маленькой площади, где были пара скамеек, качели, песочница и росли несколько молоденьких деревцев, на ветках которых уже распевали птицы. Спустя несколько месяцев, на еврейский Новый год — Рош ха-Шана, мы снова приехали в Тель-Авив. Но... площади на прежнем месте уже не было. Ее перенесли в другой конец улицы — вместе с молодыми деревцами, качелями, птичками и песочницей. Я был потрясен, я не понимал, как Бен-Гурион и наши официальные учреждения позволяют творить подобные вещи? Как это так? Кто это вдруг берет и передвигает площадь? Неужели завтра передвинут и Масличную гору? И Башню Давида у Яффских ворот в Иерусалиме? И Стену Плача передвинут?
О Тель-Авиве говорили у нас с завистью, высокомерием, восхищением и некоторой таинственностью, словно Тель-Авив был неким секретным судьбоносным проектом еврейского народа, а потому лучше болтать об этом городе поменьше, ведь и стены имеют уши, и повсюду кишат ненавистники и вражеские агенты.
Тель-Авив: море, свет, синева, песок, строительные леса, культурный центр “Огель-Шем”, киоски на бульварах... Белый еврейский город, простые очертания которого вырастают среди цитрусовых плантаций и дюн. Не просто место, куда, купив билет, можно приехать на автобусе компании “Эгед”, а другой континент.
● ● ●
На протяжении многих лет был у нас заведен особый порядок, чтобы поддерживать постоянную телефонную связь с родными, живущими в Тель-Авиве. Раз в три-четыре месяца мы звонили им, хотя ни у нас, ни у них телефона не было. Первым делом мы посылали письмо тете Хае и дяде Цви, в котором сообщали, что девятнадцатого числа текущего месяца (день этот выпадает на среду, а по средам Цви уже в три часа завершает свою работу в больничной кассе) в пять часов мы из нашей аптеки позвоним в их аптеку. Письмо посылалось заранее, с таким расчетом, чтобы мы могли получить ответ. В своем письме тетя Хая и дядя Цви отвечали нам, что среда девятнадцатого числа, безусловно, подходящий день и они, конечно же, будут ждать нашего звонка в аптеке еще до наступления пяти часов, но если случится так, что мы позвоним позже, они никуда не убегут — мы можем не беспокоиться.
Я не помню, наряжались ли мы в свои лучшие одежды по случаю похода в аптеку, чтобы позвонить в Тель-Авив, но ничуть не удивлюсь, если наряжались. Это был подлинный праздник. Уже в воскресенье папа говорил маме:
— Фаня, ты помнишь, что на этой неделе мы разговариваем с Тель-Авивом?
В понедельник мама обычно напоминала:
— Арье, не возвращайся послезавтра поздно, а то мало ли что может случиться...
А во вторник папа и мама обращались ко мне:
— Амос, только не вздумай преподнести нам какой-нибудь сюрприз, слышишь? Не вздумай заболеть, слышишь? Смотри не простудись и не упади, продержись до завтрашнего вечера.
В последний вечер они говорили мне:
— Ступай спать пораньше, чтобы у тебя хватило сил для завтрашнего телефона. Я не хочу, чтобы тем, кто будет слушать тебя, казалось, будто ты не ел как следует...
Волнение все нарастало. Мы жили на улице Амоса, аптека была в пяти минутах ходьбы, на улице Цфании, но уже в три часа отец предупреждал маму:
— Не затевай сейчас никаких новых дел, чтобы не оказалось, что времени в обрез.
— Я-то в полном порядке, а вот ты со своими книгами, ты смотри не забудь.
— Я? Забуду? Да ведь я смотрю на часы каждые несколько минут. Да и Амос мне напомнит.
Вот так, мне всего лишь пять или шесть лет, а на меня уже возложена историческая миссия. Наручных часов у меня не было и быть не могло, поэтому каждую минуту я бегал в кухню посмотреть, что показывают ходики, и, словно во время запуска космического корабля, провозглашал:
— Еще двадцать пять минут, еще двадцать, еще пятнадцать, еще десять с половиной...
И как только я произносил “десять с половиной”, мы все поднимались, хорошенько запирали квартиру и втроем отправлялись в путь: налево — до бакалейной лавки господина Остера, затем направо — на улицу Захарии, потом налево — на улицу Малахи, наконец, направо — на улицу Цфании, и сразу же — в аптеку.
— Мир и благословение, господин Хайнман. Как поживаете? Мы пришли позвонить.
Он, конечно же, знал, что в среду мы придем позвонить нашим родственникам в Тель-Авив, он также знал, что Цви работает в больничной кассе, что Хая занимает важный пост в женсовете Тель-Авива, что сын их Игаэл станет спортсменом, когда вырастет, что их хорошие друзья — известные политические деятели Голда Меерсон и Миша Колодный, которого здесь называют Моше Кол, но тем не менее мы ему напоминали:
— Мы пришли позвонить родственникам в Тель-Авив.
Господин Хайнман обычно отвечал:
— Да. Конечно. Присядьте, пожалуйста.
И всегда рассказывал свой неизменный анекдот про телефон. Однажды на сионистском конгрессе в Цюрихе из боковой комнаты, примыкавшей к залу заседаний, донеслись ужасные вопли. Берл Локер, член исполкома Всемирной сионистской организации, спросил Авраама Харцфельда, организатора Сионистской рабочей партии, что там за шум. Харцфельд ответил ему, что это товарищ Рубашов, будущий президент Израиля Залман Шазар, разговаривает с Бен-Гурионом, находящимся в Иерусалиме. “Говорит с Иерусалимом? — удивился Берл Локер. — Так почему же он не воспользуется телефоном?”
Папа произносил:
— Сейчас я наберу номер.
Мама:
— Еще рано, Арье. Есть еще несколько минут.
С чем отец обычно не соглашался:
— Верно, но пока нас соединят...
(В те дни еще не было автоматической связи с Тель-Авивом.)
А мама:
— Но что будет, если нас моментально соединят, а они еще не пришли?
На это отец отвечал:
— В таком случае мы просто попытаемся позвонить еще раз.
— Нет-нет, они будут волноваться. Они могут подумать, что прозевали нас.
Пока родители обменивались мнениями, время подходило к пяти. Отец поднимал трубку, делая это стоя, а не сидя, и обращался к телефонистке:
— Добрый день, любезная госпожа. Я прошу Тель-Авив, 648 (или что-то в этом роде — мы жили тогда в мире трехзначных чисел).
Случалось, что телефонистка говорила:
— Пожалуйста, подождите, господин, еще пару минут, сейчас говорит начальник почты, линия занята.
Впрочем, иногда говорилось, что на линии “господин Ситон” или “сам господин Нашашиби”, глава одной из богатейших арабских семей Иерусалима.
Мы немного волновались — что же будет, как они там, в Тель-Авиве?
Я прямо-таки зримо представлял себе его, этот единственный провод, соединяющий Иерусалим с Тель-Авивом, а через него — со всем миром. И вот эта линия занята. И, пока она занята, мы оторваны от всего мира. Провод этот тянулся через пустыню, скалы, извивался среди гор и холмов. Это казалось мне великим чудом, и я дрожал от страха: что же будет, если ночью стая диких зверей сожрет этот провод? Или плохие арабы перережут его? Или зальет его дождем? Вдруг случится пожар, загорятся сухие колючки, что часто случается летом? Кто знает... Где-то там извивается себе тонкий проводок, который так легко повредить. Его никто не охраняет, его нещадно жжет солнце. Кто знает... Я был преисполнен благодарности к тем людям, что протянули этот провод, людям мужественным и ловким, ведь совсем не просто проложить телефонную линию из Иерусалима до самого Тель-Авива. По собственному опыту я знал, как это трудно: однажды мы протянули провод из моей комнаты в комнату Элиягу Фридмана, всего-то и расстояния — два дома и один двор, провод — обыкновенный шпагат, но сколько было проблем: и деревья по дороге, и соседи, и сарай, и забор, и лестницы, и кусты...
После короткого ожидания отец, предположив, что начальник почты или “сам господин Нашашиби” уже закончили говорить, вновь поднимал трубку и обращался к телефонистке:
— Простите, любезная госпожа, мне кажется, что я просил соединить с Тель-Авивом, номер 648.
А та говорила:
— У меня это записано, мой господин. Пожалуйста, подождите. (Или “Пожалуйста, вооружитесь терпением”.)
На что папа отвечал:
— Я жду, госпожа моя, разумеется, я жду, но люди ждут и на другом конце.
Этим он со всей возможной вежливостью намекал ей, что хотя мы люди культурные, но есть предел и нашей сдержанности. Мы, конечно, хорошо воспитаны, но мы не какие-то там “фраера”. Мы не бессловесная скотина, которую гонят на убой. Это отношение к евреям — будто каждый может над ними издеваться и делать с ними все что заблагорассудится, — с этим покончено раз и навсегда.
И тут вдруг в аптеке звонил телефон, и от этого звонка всегда начинало колотиться сердце и мурашки бежали по спине. Это был волшебный миг. А беседа звучала примерно так:
— Алло, Цви?
— Это я.
— Это Арье. Из Иерусалима.
— Да, Арье, здравствуй. Это я, Цви. Как вы поживаете?
— У нас все в порядке. Мы звоним вам из аптеки.
— И мы из аптеки. Что нового?
— Ничего нового. Как у вас, Цви? Что скажешь?
— Все в порядке. Ничего особенного. Живем.
— Если нет новостей — это тоже неплохо. И у нас нет новостей. У нас все благополучно. А как у вас?
— И у нас так же.
— Прекрасно. Теперь Фаня с вами поговорит.
И снова все то же: что слышно? что нового?
А затем:
— Теперь Амос скажет несколько слов.
Вот и весь разговор.
Что слышно? Все хорошо. Ну, тогда мы снова вскоре поговорим. Рады были вас услышать. И мы были рады вас услышать. Мы вам напишем письмо и договоримся, когда позвоним в следующий раз. Поговорим. Да. Обязательно поговорим. Скоро. До свидания, берегите себя. Всего доброго. И вам тоже.
● ● ●
Но это не было смешно — жизнь висела на тонком волоске. Сегодня я понимаю: они вовсе не были уверены, что и вправду поговорят еще. Вдруг это в последний раз, поскольку кто знает, что еще случится? Вдруг вспыхнут беспорядки, погромы, резня, арабы поднимутся и покромсают всех нас, грянет война, обрушится великая катастрофа. Ведь танки Гитлера, двигаясь по двум направлениям — со стороны Северной Африки и с Кавказа, — оказались почти у нашего порога. И кто знает, что нас ожидает еще...
Эта пустая беседа вовсе не была пустой, она была лишь невыразительной. Мне сегодняшнему те телефонные разговоры показывают, как трудно было им — всем, а не только моим родителям — выражать свои чувства. Там, где дело касалось чувств общественных, они не испытывали никаких трудностей, они не боялись обнаружить их, они умели говорить. О, как они умели говорить! Они могли на протяжении трех-четырех часов спорить о Ницше, Сталине, Фрейде, Жаботинском, спорить со слезами и пафосом, вкладывая в это всю душу. И когда они толковали о коллективизме, об антисемитизме, о справедливости, об “аграрном” или “женском” вопросе, о взаимосвязи искусства и жизни, их речи звучали как музыка. Но едва они пытались выразить свое личное чувство, выходило нечто вымученное, сухое — возможно, даже полное опасений и страха. Это было результатом того подавления чувств и тех запретов, что передавались из поколения в поколение. Система запретов и тормозов была удвоенной, правила поведения европейской буржуазии умножались на обычаи религиозного еврейского местечка. Почти все было “запрещено”, или “не принято”, или “некрасиво”.
Кроме того, в то время ощущался некий существенный дефицит слов, иврит еще не обрел языковую непринужденность, и, уж без сомнения, он не был языком интимным. Трудно было предвидеть заранее, что у тебя получится, когда ты говоришь на иврите. У людей не было полной уверенности в том, что сказанное не прозвучит комично, а этот страх, смертельный страх оказаться смешным — он преследовал днем и ночью. Даже такие, как мои родители, хорошо знавшие иврит, не вполне свободно владели им. Они говорили на этом языке, страшась неточности, часто поправляли себя, заново формулировали уже сказанное. Возможно, так чувствует себя близорукий водитель, пытаясь наугад проехать запутанными переулками незнакомого города на автомобиле, который ему тоже незнаком.
Однажды мамина подруга, учительница Лилия Бар-Самха, пришла к нам на субботнюю трапезу. Во время застольной беседы гостья многократно повторяла, что она “потрясена до ужаса”, а раз или два даже сказала, что она в “ужасающей ситуации”. На иврите это звучало мацав мафлиц, и она, похоже, совершенно не подозревала, что на нашем уличном разговорном иврите слово мафлиц означает “портить воздух”. Я не смог удержаться от бурного смеха, но взрослые не поняли, что здесь смешного, а возможно, просто сделали вид, что не понимают. Примерно такое происходило, когда про тетю Клару говорили, что она вечно портит картошку, пережаривая ее. Взрослые брали библейское слово хурбан (разрушение), созвучное со словом харавон (нестерпимый жар), и по всем правилам ивритской грамматики образовывали глагол лехарбен, не ведая, что на иврите моих сверстников этот глагол уже давно обзавелся другим значением — сходить по-большому. Мой отец, говоря о гонке вооружений, что ведут сверхдержавы, или возмущаясь решением стран НАТО вооружить Германию, дабы создать противовес Сталину, всегда употреблял библейское слово лезаен (вооружать), не подозревая, что в разговорном иврите у слова этого совсем иной смысл — трахаться.
С другой стороны, отец всегда морщился, когда я, наводя порядок, определял свои действия глаголом лесадер — от седер (порядок). Глагол этот представлялся совершенно безобидным, и я не понимал, чем он так раздражает папу. Отец, разумеется, ничего не объяснял, а спросить было просто невозможно. Спустя годы я узнал, что еще до моего рождения, в тридцатые годы, слово это означало “сделать ее беременной” или того проще — “обрюхатить” и не жениться. Поэтому, когда я адресовал это слово к кому-то из своих приятелей, отец брезгливо кривил губы, морщил нос, но ничего мне не объяснял — как можно!
Когда дело касалось личных отношений, они не разговаривали на иврите, а в самые интимные моменты, возможно, они вообще не разговаривали. Молчали. Надо всем нависала тень страха — показаться смешным либо произнести что-либо смешное...
2
На первый взгляд самую верхнюю ступеньку на лестнице престижа занимали в те дни пионеры-первопроходцы, покорители новых земель. Но они были далеко от Иерусалима — в долинах Галилеи, в пустыне, протянувшейся вдоль Мертвого моря... Мы издали восхищались этими крепкими задумчивыми парнями, что на фоне тракторов и вспаханных борозд красовались на плакатах Еврейского национального фонда.
На ступеньку ниже располагался “организованный ишув” — та часть еврейского населения Эрец-Исраэль, которая состояла в различных объединениях, организациях и группах, таких как Всеобщая конфедерация профсоюзов — Гистадрут, боевая подпольная организация Хагана [1] или больничная касса. Это были люди, которые читали газету “Давар”, — их можно было увидеть летом на балконах, где они сидели в майках и с газетой в руках. Они носили одежду цвета хаки, питались салатом, яичницей и простоквашей, отдавали предпочтение не слишком острым маслинам в стеклянных баночках компании “Тнува” и вообще продукции местного производства, неукоснительно платили добровольный налог, собираемый на национальные нужды и называвшийся “выкуп за ишув” [2], были сторонниками Рабочей партии и “политики сдержанности” по отношению к британцам, приверженцами ответственности и солидного образа жизни, уважали человека труда и партийную дисциплину. И это они распевали на строительстве первого еврейского порта в Тель-Авиве:
Голубое небо, голубая вода,
Порт мы построим здесь навсегда!
Порт навсегда!
Противостояли “организованному ишуву” те, кто находился, как говорится, “по ту сторону забора”, — тут и отщепенцы-радикалы, и ультраортодоксы из иерусалимского квартала Меа Шеарим, и коммунисты, ненавидящие сионизм, и еще всякие интеллигенты, карьеристы, артисты, эгоцентристы космополитически-декадентского толка. И вместе с ними — разного рода чудаки, стряхнувшие с плеч своих иго любых законов, индивидуалисты, сомнительного толка нигилисты, репатрианты из Германии, бежавшие от Гитлера (здесь их прозвали йеке, и от своего “йекства” они так и не избавились), снобы-англоманы и богатые сефардские евреи-франкоманы, манеры которых очень уж смахивали на манеры вышколенных официантов. Сюда же можно было отнести и уроженцев Йемена, и евреев из Грузии, и курдских евреев, и выходцев из еврейской общины города Салоники... Все, несомненно, наши братья, все-все, безусловно, многообещающий человеческий материал, но — что поделаешь! — нам еще придется, запасясь терпением, вложить в них немало усилий.
Кроме всех перечисленных, были еще и беженцы, нелегальные репатрианты, уцелевшие в Катастрофе, чудом вырвавшиеся из рук нацистов. К ним у нас вообще-то относились с состраданием, но и с некоторым брезгливым неприятием: удрученные, недужные, полные мировой скорби — но кто же виноват, что, от великого своего ума, сидели вы там и дожидались Гитлера, вместо того чтобы прибыть сюда заблаговременно? И почему допустили, чтобы вас гнали, словно скот на убой, вместо того чтобы сорганизоваться и дать достойный ответ? И пусть они наконец — раз и навсегда! — прекратят говорить здесь на своем несчастном идише, и пусть не рассказывают нам, что с ними там сделали, потому что все, что с ними там сделали, уважения никому не прибавляет. И вообще, мы здесь устремлены в будущее, а не в прошлое, а уж если обращаться к прошлому, так ведь у нас предостаточно светлых и радостных фактов в еврейской истории — стоит только обратиться к библейским событиям или к событиям времен Хасмонеев. И к чему пытаться замутить это прошлое, вспоминая тот упадочнический период, где одни только беды (впрочем, “беды” у нас всегда произносили на идише — цурес, произносили с гримасой отвращения и сарказма, словно давая понять, что эти цурес так же далеки от нас, как проказа, и принадлежат исключительно им, а уж никак не нам). Среди этих беженцев был, к примеру, господин Лихт, которого ребята нашего квартала прозвали “миллион дитишик”. Он снимал крохотную каморку на улице Малахи, там он ночью спал на матрасе, а днем, свернув матрас, разворачивал свое маленькое предприятие, которое называлось “Сухая чистка, глажка, утюжка паром”. Уголки его рта вечно были опущены, словно выражали презрение или глубокое омерзение. Обычно он сидел на своем пороге, поджидая клиентов. И если проходил мимо кто-то из детей, он непременно сплевывал в сторону и цедил сквозь стиснутые зубы:
— Миллион дитишик они убили! Таких, как вы! Зарезали!
Он произносил это не с грустью, а с ненавистью и омерзением, словно проклинал нас.
● ● ●
У моих родителей не было определенного места на лестнице, где на одном конце “первопроходцы”, а на другом — “цурес”, одной ногой они уже были в “организованном ишуве” (члены больничной кассы, вносили “выкуп за ишув”), а вторая их нога болталась в воздухе. Моему отцу была близка идеология “отщепенцев” — людей, полагавших, что не политической болтовней, а оружием надо добиваться создания Еврейского государства, но вместе с тем отец был весьма далек от бомб и винтовок. Самое большее, что он мог, — поставить на службу подполью свое знание английского, сочиняя время от времени запрещенные листовки, обличавшие “подлый Альбион”. Интеллигенция престижного иерусалимского квартала Рехавия манила сердца моих родителей, но пацифистские идеи общества интеллектуалов “Брит шалом” [3], которое ставило своей целью установление дружеских отношений между арабами и евреями, сентиментальное братание с арабами, полный отказ от мечты о Еврейском государстве во имя того, чтобы арабы оказали нам милость и дозволили жить здесь, под их пятой, — подобные идеалы представлялись моим родителям нелепыми, они видели в них близость к поведению евреев в диаспоре: заискивание, пресмыкательство, мягкотелость, лавирование...
Мама, которая училась в университете Праги, а завершила свое образование в Еврейском университете Иерусалима, давала частные уроки ученикам, готовившимся к экзаменам по истории и литературе. Папа получил первую академическую степень по литературе в университете Вильно, а вторую — в Иерусалиме, но у него не было ни малейшего шанса стать преподавателем в Еврейском университете: в те дни число дипломированных специалистов-литературоведов в Иерусалиме намного превышало число студентов. К тому же у многих преподавателей были дипломы престижных немецких университетов — не чета потрепанному польско-иерусалимскому диплому моего отца. В общем, он нашел место библиотекаря в Национальной библиотеке на горе Скопус, а по ночам корпел над своими трудами о новелле в ивритской литературе и об истории всемирной литературы. Мой отец был образованным, вежливым, трудолюбивым библиотекарем, но довольно застенчивым. В галстуке и круглых очках, в слегка потертом пиджаке, он легким учтивым поклоном встречал старших, кидался открыть двери перед дамами, настойчиво добивался своих куцых прав, взволнованно читал стихи на десяти языках, всегда пытался быть любезным и веселым, вновь и вновь повторяя одни и те же шутки (он их называл “анекдоты”). Но его остроты нередко выглядели натянутыми, им не хватало живости, это была скорее декларация добрых намерений: дескать, таков наш долг — шутить в эти безумные времена.
Когда встречался ему кто-нибудь из освоителей новых земель, революционер-преобразователь, облаченный в хаки, интеллигент, ставший рабочим, отец терялся: за границей, в Вильно или Варшаве, он бы знал, как говорить с пролетарием. Каждый там знал свое место, но в то же время следовало показать рабочему, что ты — истинный демократ и не считаешь себя выше него. Но здесь? В Иерусалиме? Здесь все было неоднозначно. Не перевернуто с ног на голову, как у коммунистов в России, а именно неоднозначно. С одной стороны, отец принадлежал к среднему классу (правда, стоял он на самой нижней его ступеньке), он был человеком образованным, писал книги, работал в Национальной библиотеке, а собеседник его — потный работяга в спецовке и тяжелых башмаках. А с другой стороны, говорят, что у этого работяги имеется диплом по химии, и он — пионер-первопроходец, сознательно выбравший эту долю, он соль земли, герой еврейской революции. Он занят физическим трудом, в то время как отец ощущает себя (по крайней мере, в глубине души) этаким интеллигентиком, оторванным от подлинной жизни, очкариком, у которого обе руки левые, едва ли не дезертиром, уклоняющимся от фронта, где не на словах, а на деле созидается отечество.
● ● ●
Большинство наших соседей были мелкими чиновниками, торговцами, кассирами в банке или кинотеатре, учителями, некоторые из них давали частные уроки, дантистами. Они не были людьми религиозными, синагогу посещали только в Судный день [4], а иногда еще и на праздник Симхат Тора [5], но при всем при том они зажигали традиционные субботние свечи, чтобы сохранить некий дух еврейства, а возможно, и для того, чтобы охранить себя — пусть будет все как положено, мало ли что может случиться. Все они были людьми более или менее образованными, но это, скорее, доставляло им некоторое неудобство. Каждый имел безапелляционные суждения о британском мандате, о будущем сионизма, о рабочем классе, о культурной жизни в стране, о разногласиях между Марксом и Дюрингом, о романах Кнута Гамсуна, об “арабской проблеме” и о “женском вопросе”. Находились среди них всякого рода мыслители и проповедники, призывавшие, к примеру, отменить наложенный на Спинозу херем (отлучение от еврейской общины) или объяснить живущим в Эрец-Исраэль арабам, что они на самом деле не арабы, а потомки древних евреев. А еще нужно раз и навсегда слить воедино идеи Канта и Гегеля с учением Толстого и с практикой сионизма — именно из такого слияния родится здесь, в Эрец-Исраэль, чистая, здоровая, удивительная жизнь. Каких только утверждений не встречалось: следует-де в больших количествах пить козье молоко; хорошо бы изгнать англичан, создав ради этой цели союз с Америкой, а то со Сталиным; каждое утро полезно делать простые гимнастические упражнения, которые способны разогнать тоску и очистить душу...
Соседи, собиравшиеся по субботам после обеда в нашем маленьком дворике на устраиваемые по русскому обычаю чаепития, были людьми довольно нескладными. Если возникала необходимость сменить сгоревший предохранитель или резиновую прокладку в водопроводном кране либо просверлить небольшую дырку в стене, они отправлялись на поиски Баруха, единственного в нашем квартале, умевшего вершить подобные чудеса, за что и был он прозван у нас Барух Золотые Руки. Все прочие умели увлеченно, с риторическим пылом доказывать насущную необходимость возвращения — наконец-то! — еврейского народа к сельскому хозяйству и производительному труду: интеллигенции, утверждали они, у нас с избытком, но вот людей труда, простых и честных, нам явно не хватает. Но в нашем квартале Барух Золотые Руки был единственным работягой. Интеллектуалов, сворачивающих горы, среди нас тоже не было — все читали горы газет, и все обожали разглагольствовать. Возможно, кое-кто даже разбирался в чем-то, а кто-то имел острый ум, но большинство лишь повторяло вычитанное в газетах, во всяких там памфлетах да манифестах. Мальчиком я мог только смутно догадываться, сколь велико расстояние между их энтузиазмом по поводу преобразования мира и тем, как мяли они поля своих шляп, когда предлагали им стакан чая, или как ужасно смущались и заливались краской, когда мама моя наклонялась (чуть-чуть), чтобы подсластить им чай, и скромный вырез ее платья слегка приоткрывался, как растерянно сжимались тогда их пальцы, словно пытаясь перестать быть пальцами.
Все это было из Чехова, особенное ощущение захолустной провинциальности: есть в мире места, где вершится настоящая, подлинная жизнь, далеко отсюда — например, в довоенной Европе. Там каждый вечер загоралось море огней, господа и дамы встречались в залах с деревянными панелями, чтобы выпить кофе со сливками; они спокойно проводили время в кафе под золочеными люстрами или, взяв свою даму под руку, отправлялись в оперу или балет. Они могли вблизи наблюдать жизнь великих артистов и художников, их бурную любовь и их бурные расставания — вот, скажем, возлюбленная художника вдруг влюбилась в его лучшего друга, композитора, и вот она стоит одна в полночь, с непокрытой головой, под дождем, на старинном мосту, отражение которого дрожит в речной воде...
● ● ●
В нашем квартале никогда не случалось ничего подобного. Такое происходило только за темными горами, где люди живут безудержно, безоглядно и беспечно. В той же Америке ищут и находят золото, там грабят почтовые поезда, там пасутся стада на бескрайних просторах, там тот, кто убьет больше всех индейцев, завоюет в финале красивую девушку. Такой была Америка в синема “Эдисон”: красивая девушка была главным призом, который доставался тому, кто стрелял лучше всех. Что делают с этим главным призом? У меня не было ни малейшего понятия. Если бы в этих фильмах показывали, что в Америке все происходит наоборот: тот, кто подстрелит больше всех девушек, в финале получит в качестве приза прекрасного индейца, я бы наверняка поверил, что таков порядок вещей и с этим ничего не поделаешь. Во всяком случае, так это в тех далеких мирах — в Америке и других удивительных местах из моего альбома марок: в Париже, Александрии, Роттердаме, Лугано, Биаррице, Сан-Морице, где люди снедаемы любовью, где они изысканно сражаются, теряют все, отказываются от всего, странствуют, пьют заполночь, сидя на высоком стуле у стойки людных гостиничных баров, расположенных на городских бульварах, иссеченных дождем. И живут безоглядно и беспечно.
И в романах Толстого и Достоевского, о которых все беспрестанно спорили, герои тоже жили без оглядки и умирали от любви. Или во имя возвышенного идеала. Или от чахотки, или хотя бы от разрыва сердца. Вот и загорелые пионеры-первопроходцы, обосновавшиеся на галилейских холмах, — они тоже живут без оглядки и расчета. В нашем квартале никто не умер ни от чахотки, ни от безответной любви, ни от идеализма. Все жили с оглядкой, не только мои родители. Все. Был у нас железный закон: не покупать ничего иностранного, если можно приобрести товар местного производства. Но, придя в бакалейную лавку господина Остера, что на углу улиц Овадия и Амоса, приходилось выбирать между сыром кибуцным, сыром, произведенным компанией “Тнува”, и сыром арабским. Является ли арабский сыр из соседствующей с Иерусалимом деревни Лифта продукцией иностранной? Сложно. Правда, арабский сыр был чуть-чуть дешевле. Но, покупая арабский сыр, не предаешь ли ты идеалы сионизма? Ведь где-то там, в кибуце или мошаве [6], в Изреельской долине или в горах Галилеи, сидела девушка, одна из тех самых пионерок, быть может, со слезами на глазах приготовила и упаковала для нас этот еврейский сыр — как же можем мы повернуться к ней спиной и купить не наш сыр? Разве не дрогнет рука? Однако же, если мы объявим бойкот продукции наших соседей-арабов, то собственными руками углубим вражду между двумя народами, и если вдруг, не приведи господь, прольется кровь, она будет и на нашей совести. Разве арабский феллах, этот скромный простой труженик полей, чья чистая душа не отравлена пока миазмами большого города, разве этот феллах — не смуглый брат простого и благородного мужика из рассказов Толстого?! Неужели мы ожесточимся и отвернемся от его деревенского сыра? Неужели окаменеют наши сердца и мы накажем его? За что? За то, что гнусная Британия и продажные арабские землевладельцы-эфенди науськивают этого феллаха против нас, против того, что мы создаем здесь? Нет. На этот раз мы определенно купим сыр из арабской деревни, который, между прочим, чуточку вкуснее, чем сыры “Тнувы”, да и стоит немного дешевле. Но все-таки — кто знает, достаточно ли у них там чисто? Кто знает, как они там доят? Что будет, если выяснится — увы, с опозданием, — что в их сыре кишат микробы?
Микробы были одним из наших самых жутких кошмаров. Как антисемитизм: пусть ты ни разу не видел своими глазами антисемита или микроба, но ты доподлинно знаешь, что они подстерегают тебя повсюду, зримые и незримые. Вообще-то утверждение, что никто у нас никогда не видел микробов, не совсем точно — я видел. Сосредоточившись, я долго и пристально вглядывался в кусочек залежалого сыра, пока вдруг не начинал видеть массу мельчайших движений. Как и гравитация в Иерусалиме, которая в те дни была намного ощутимее, чем теперь, так и микробы тогда были значительно больше и проворнее. Я их видел.
Легкий спор вспыхивал между посетителями бакалейной лавки господина Остера: покупать или не покупать сыр феллахов? С одной стороны, как написано в Талмуде, “бедняки твоего города — в первую очередь”, и потому наш долг покупать только сыры, выпускаемые компанией “Тнува”. С другой стороны, в тех же священных книгах сказано, что “один закон и вам и чужеземцу в пределах ваших”, ибо “пришельцами были мы в земле египетской”, поэтому следует иногда покупать и сыр арабских соседей наших. И вообще, с каким глубоким презрением взглянул бы Толстой на человека, который покупает один сыр и не покупает другой лишь по причине различий религии, национальности и расы! А как быть с принципами универсальности? Гуманизма? Братства всех, кто создан “по образу и подобию”? И все-таки какой урон сионизму, какое проявление слабости, какая мелочность — покупать арабский сыр только потому, что стоит он на пару монеток меньше, вместо того чтобы купить сыр, сделанный пионерами-первопроходцами, которые из кожи вон лезут, отдают все силы, чтобы добыть хлеб из земли.
Стыд! Стыд и позор! Так или иначе — стыд и позор!
Вся жизнь состояла из таких вот ситуаций, порождающих чувство стыда...
● ● ●
Существовала, к примеру, такая дилемма: красиво или некрасиво послать цветы на день рождения? Если да, то какие цветы? Гладиолусы слишком дороги, но это культурные цветы, благородные, исполненные чувства, не какая-то там азиатская полудикая трава. Анемоны и цикламены можно было рвать тогда сколько душе угодно, это не было запрещено, как сегодня. А Азария Алон, борец за сохранение флоры и фауны Эрец-Исраэль, был тогда еще ребенком. Но и анемоны, и цикламены не считались цветами, которые прилично послать в день рождения или в честь выхода книги. В гладиолусах имелась некая изысканность — они заставляли вспомнить о певцах-тенорах, о театре, балете, дворцовых балах, на них лежал налет культуры, глубоких и тонких чувств.
Итак, покупаем и посылаем гладиолусы. Не считаясь с затратами. Вопрос только в том, семь гладиолусов — это мало или слишком много? Пять — не слишком мало? Быть может, шесть? Или все-таки семь? Не экономим. Окружаем гладиолусы джунглями аспарагуса и посылаем шесть. С другой стороны, не является ли подобный поступок чистым анахронизмом? Гладиолусы? Где вообще сегодня посылают гладиолусы? Что, в Галилее покорители новых земель шлют друг дружке гладиолусы? В Тель-Авиве кто-то еще валандается с гладиолусами? Что в них вообще хорошего? Стоят кучу денег, а через четыре-пять дней отправляются в мусорное ведро. Так что же все-таки отправить в подарок? Быть может, коробку конфет? Бонбоньерку? С чего вдруг конфеты? Бонбоньерка — это ведь еще смешнее гладиолусов. Похоже, лучше принести просто салфетки или небольшой набор подстаканников, таких ажурных, из серебристого металла, с симпатичными ручками, чтобы можно было подавать очень горячий чай. Подарок скромный, но в то же время и эстетичный, и очень практичный: его не выбрасывают, а пользуются им долгие годы, и всякий раз, пользуясь вещью, возможно, на краткий миг по-доброму вспомнят и о нас.
[6] Дословно: поселение (иврит), разновидность еврейских сельскохозяйственных поселений в Палестине; первая мошава появилась в конце XIX века.
[5] Один из самых веселых праздников в еврейском календаре, праздник непрерывности и вечности Торы: в этот день завершается годовой цикл чтения Торы в синагогах по субботам и тут же начинается новый цикл.
[4] Йом-Кипур (Судный день) — один из самых важных праздников в иудаизме, день покаяния и отпущения грехов, в Израиле нарушение Йом-Кипура порицается даже в среде светских евреев.
[3] “Брит шалом” (“Ассоциация за мир”) — еврейская политическая ассоциация, выступающая за еврейско-арабское сближение.
[2] Выкуп первенца, мицва, — обряд в иудаизме, мальчик-первенец должен быть выкуплен отцом у священнослужителя через 30 дней после рождения.
[1] Хагана (Оборона) — еврейская военная подпольная организация в Палестине, действовала с 1920 по 1948 год. — Здесь и далее примеч. ред.
3
В любом месте можно было обнаружить всякого рода маленьких посланцев Европы, этой земли обетованной. Например, крохотные фигурки, которые отлиты из металла и в течение всего дня поддерживают жалюзи в открытом состоянии. На идише их называли менчелах — человечки. Когда хотят закрыть жалюзи, то поворачивают этих человечков вокруг оси, и всю ночь они висят вниз головой. Именно так в конце Второй мировой войны повесили Муссолини и его любовницу, которую звали Клара Петаччи. И это было жутко. Пугало не то, что их повесили, это они уж точно заслужили, а то, что их повесили вниз головой. Я их даже слегка жалел, хотя это и было запрещено, и-в-голову-прийти-не-могло такое. Ты что, совсем с ума сошел? Рехнулся? Муссолини жалеешь? Ты бы еще Гитлера пожалел! Но я провел эксперимент: зацепившись ногами за трубу, идущую вдоль стены, я повис головою вниз — через две минуты вся кровь прилила к голове, и я почувствовал, что вот-вот потеряю сознание. А Муссолини и его любовница висели так не две минуты, а три дня и три ночи, и это после того, как их расстреляли! Я подумал, что это уж слишком суровое наказание. Даже для убийц. И даже для любовниц.
Не то чтобы у меня было хоть малейшее понятие, что это такое вообще — “любовница”. Во всем Иерусалиме не было в те дни ни единой “любовницы”. Была “спутница жизни”, была “подруга”, была “не просто подруга”. Возможно, то там, то здесь случались даже романы — с величайшей осторожностью поговаривали, например, о том, что у поэта Шауля Черниховского есть кое-что с подругой Лопатина, и мое сердце билось сильнее от мыслей, что же кроется за этим “есть кое-что”, наверняка нечто таинственное, судьбоносное, сладостное и грозящее позором. Но любовница?! Это же чуть ли не из библейских сказаний, парит над нашей обыденностью. Непредставимое. “Быть может, в Тель-Авиве творятся подобные дела, — думал я, — там столько разных вещей, которых у нас нет или которые у нас запрещены”.
● ● ●
Читать я научился сам, почти без посторонней помощи, когда был совсем маленьким. Чем еще было нам заниматься? Ночи тогда были длиннее, потому что земной шар вращался намного медленнее, ведь гравитация в Иерусалиме тех времен была куда сильнее, чем в наши дни. Бледно-желтый свет лампочки то и дело гас из-за перебоев с электричеством. И по сей день запах горящих свечей и закопченной керосиновой лампы пробуждает во мне страстное желание почитать. С семи вечера мы уже были заперты в доме из-за комендантского часа, введенного в Иерусалиме британскими властями. И даже без комендантского часа — кому захочется оказаться на темной улице в Иерусалиме тех дней? Все закрыто наглухо, заперто на засовы, каменные улицы пустынны, и за каждой тенью, двигавшейся по переулкам, тащились по асфальту еще три или четыре тени теней.
Даже когда не было перебоев с электричеством, мы жили при тусклом освещении, поскольку обязаны были экономить; родители использовали лампочку в двадцать пять, а не в сорок ватт не только из экономии, но главным образом потому, что яркий свет — это расточительство, а расточительство аморально. В нашу маленькую квартирку всегда была втиснута вся страдающая половина рода человеческого: голодающие в Индии дети, из-за которых я обязан съедать все на тарелке; нелегальные репатрианты, спасшиеся из гитлеровского ада, которых у берегов Эрец-Исраэль перехватывали англичане и изгоняли на Кипр в лагеря беженцев, где жили они в жутких условиях; сироты в жалких лохмотьях, все еще блуждающие по заснеженным лесам лежащей в развалинах Европы. Отец засиживался за своим письменным столом до двух часов ночи, работая или читая газеты в анемичном свете лампочки в двадцать пять ватт. Ему неприятно было пользоваться более мощным освещением: разве первопроходцы-кибуцники в Галилее не сидят по ночам в палатках, сочиняя стихи или философский трактат при свете колеблемой ветром свечи? Может ли он забыть про этот факт? Сидеть себе, будто Ротшильд, в ослепительном свете лампочки в сорок ватт? А что скажут соседи, если вдруг увидят у нас освещение, приличествующее роскошному балу? Отец готов был погубить собственные глаза, но только не колоть кому-то другому глаза расточительством.
Бедняками мы вовсе не были. Отец работал библиотекарем в Национальной библиотеке, зарплата скромная, но надежная. Мама иногда давала частные уроки. Я каждую пятницу поливал за полфунта [7] садик господина Когена в иерусалимском пригороде Тель-Арза, а по средам складывал в ящик пустые бутылки позади бакалейной лавки господина Остера, зарабатывая четыре груша [8]. Еще я учил сына госпожи Финстер читать карту, договорившись об оплате в два груша за урок (правда, работал я в кредит, и семейство Финстер не расплатилось со мной и по сей день).
Несмотря на все эти наши заработки, мы изо дня в день экономили и экономили. Жизнь нашей маленькой квартирки напоминала жизнь на подводной лодке (я видел ее в кинотеатре “Эдисон”), где подводники, переходя из отсека в отсек, задраивали за собой все переборки. Одной рукой я, бывало, зажигал свет в туалете, а другой в это же время гасил свет в коридоре, чтобы не разбазаривать электроэнергию. За цепочку сливного бачка я дергал очень осторожно, ибо нельзя же, в самом деле, тратить целый бак воды, если справил лишь малую нужду. Были и другие нужды (для них у нас не было никакого названия), которые оправдывали в некоторых случаях расход воды. Но малая нужда? Полный бачок? В то время как первопроходцы в Негеве, почистив зубы, собирают использованную воду, чтобы полить ею саженцы? В то время как в лагере для перемещенных лиц на Кипре одно ведро должно обеспечить водой целую семью в течение трех дней? И при выходе из туалета левая рука гасила в нем свет, а правая согласованно зажигала его в коридоре. Потому что Катастрофа произошла только вчера, потому что меж Карпатами и Доломитовыми Альпами евреи все еще гниют в лагерях для перемещенных лиц. Потому что нелегальные эмигранты, оборванные, истощенные, худые как скелеты, пытаются на утлых суденышках добраться до Эрец-Исраэль. Потому что нужда и страдания существуют и в других уголках мира — китайские кули, сборщики хлопка в штате Миссисипи, африканские дети, рыбаки Сицилии... И мы обязаны экономить.
А кроме того, разве кто-нибудь знает, что сулит нам день грядущий здесь, в наших краях? Ведь несчастья не закончились, и, скорее всего, самое худшее нам еще предстоит; нацисты, возможно, и побеждены, но антисемитизм по-прежнему неистовствует по всему миру. В Польше снова погромы, в России преследуют тех, кто изучает иврит, здесь британцы еще не сказали своего последнего слова, а иерусалимский муфтий призывает к резне евреев, и кто знает, что еще готовят нам арабские страны, в то время как циничный мир поддерживает их, исходя из своей заинтересованности в нефти и в рынках. Легко здесь не будет, это уж точно.
● ● ●
Только книги были у нас в изобилии, без счета, во все стены, в коридоре, и в кухне, и в прихожей, и на подоконниках... Где их только не было. Тысячи книг во всех уголках нашего дома. Было ощущение, что люди приходят и уходят, рождаются и умирают и только книги бессмертны. Когда я был маленьким, я хотел вырасти и стать книгой. Не писателем, а книгой. Людей можно убивать, как муравьев. И писателей не так уж трудно убить. Но книгу — даже если ее будут систематически уничтожать, есть шанс, что какой-нибудь один экземпляр уцелеет и, забытый, будет жить вечно и неслышно на полках какой-нибудь отдаленной библиотеки в Рейкьявике, в Вальядолиде, в Ванкувере.
Если случалось (я припоминаю, что так было два или три раза), что не хватало денег для покупки необходимых продуктов к субботе, мама взглядывала на отца, и он понимал, что настало время выбрать овечку на заклание, и подходил к книжному шкафу. Отец был человеком крепких моральных устоев и знал, что хлеб превыше книг, а благополучие ребенка превыше всего. Я помню его согбенную спину, когда выходил он из дверей, держа под мышкой три-четыре свои любимые книги. Страдающий, словно приходится резать по живому, отправлялся он в магазин господина Майера, чтобы продать несколько дорогих его сердцу томов. Так, наверно, выглядела согбенная спина праотца нашего Авраама, когда вышел он ранним утром из шатра с сыном своим Ицхаком и направился к горе Мория.
Я мог угадать его печаль: у отца было чувственное отношение к книгам. Он любил ощупывать их, перелистывать, гладить, обонять. Книги будили в нем вожделение, он не в силах был сдержать себя и тут же “распускал руки”, даже если это были книги чужих людей. Правда, тогда книги были более сексуальными, чем теперь, было что обонять, что погладить и пощупать. Были книги с золотым тиснением на кожаных переплетах, от них исходил особый аромат, прикосновение к этим шершавым переплетам вызывало в тебе дрожь — кожа к коже, словно прикоснулся ты к чему-то интимному и неведомому, к чему-то вызывающему легкий озноб и заставляющему трепетать твои пальцы. Были книжки с обложками из картона, обклеенного тканью, — запах клея был на удивление чувственным. У каждой книги был свой таинственный, возбуждающий запах. Случалось иногда, что потрепанная ткань слегка отставала от картона, словно смело задранная юбка, и трудно было удержаться, чтобы не заглянуть в темноватое пространство между телом и одеждой и не вдохнуть исходящий оттуда головокружительный запах.
Почти всегда папа возвращался через час-другой без книг, неся коричневые пакеты, в которых были хлеб, яйца, сыр, а иногда даже мясные консервы. Но случалось, что папа возвращался с заклания удивительно счастливым, широко улыбаясь, без любимых книг, но и без продуктов: книги он действительно продал, но тут же на месте купил вместо них другие, ибо в букинистическом магазине он вдруг обнаружил такие потрясающие сокровища, которые, возможно, попадаются раз в жизни, и он не смог справиться со своим желанием иметь их. Мама ему обычно прощала, и я тоже, поскольку мне вообще-то никогда не хотелось есть ничего, кроме кукурузы и мороженого. Я ненавидел яичницу и мясные консервы. Сказать правду, я иногда даже завидовал немного тем голодающим детям в Индии, которых никто и никогда не заставлял доедать все, что лежит на тарелке.
● ● ●
Когда мне было примерно шесть лет, наступил великий день в моей жизни: отец освободил для меня небольшое пространство в одном из книжных шкафов и позволил перенести туда мои книжки. Если быть точным, он выделил мне около тридцати сантиметров, что составляло примерно четверть площади самой нижней полки. Я сгреб в охапку все свои книги, которые до той поры лежали стопкой на тумбочке у моей кровати, притащил их к книжному шкафу отца и поставил по порядку — спиной к внешнему миру, а лицом к стене.
Это была настоящая церемония возмужания и посвящения: человек, чьи книги стоят на полке, он уже мужчина, а не ребенок. Я уже такой, как отец. Книги мои уже стоят в шкафу.
Я допустил ужасную ошибку. Отец ушел на работу, и на выделенной мне площади полки я был волен делать все, что мне заблагорассудится. Но у меня были абсолютно детские представления о том, что и как делается. Так и случилось, что книги свои я выстроил по росту, а самыми высокими оказались как раз те из них, которые уже были ниже моего достоинства, — книжки для малышей, с крупными буквами, стишками и картинками, те книжки, что мне читали, когда я был совсем крохой. Я это сделал потому, что мне хотелось до конца заполнить все выделенное мне на полке пространство. Я хотел, чтобы мой уголок был заставлен так же тесно, как полки отца, где с трудом находилось место для новых книг. Я все еще пребывал в эйфории, когда отец, вернувшись с работы, бросил взгляд на мою книжную полку. Он был просто потрясен. После тягостного молчания он снова устремил на меня долгий взгляд, который я никогда не забуду, было в этом взгляде такое презрение, такое горькое разочарование, такое отчаяние, которое никакими словами не выразить. Наконец процедил он, едва разжимая губы:
— Скажи мне, пожалуйста, ты что, совсем тронулся? По росту? Что, книги — это солдаты? Книги — это почетный караул? Это парад духового оркестра пожарных?
Воцарилось долгое жуткое молчание, в которое отец полностью погрузился. Этакое безмолвие Грегора Замзы из “Превращения” Кафки, будто я прямо на глазах отца обратился в насекомое. И я тоже виновато молчал, словно и вправду был всегда каким-то жалким мелким ползающим насекомым, и вот только сию минуту это открылось, и все потеряно отныне и навсегда.
Наконец отец вынырнул из своего молчания и в течение примерно двадцати минут открывал мне основы мироздания. Ничего не утаил. Ввел меня в тайное тайных библиотечного мира: показал мне и столбовую дорогу, и боковые тропинки в лесной чаще, и головокружительные ландшафты всевозможных вариаций, нюансов, фантазий, и “заброшенные аллеи”, и дерзкие повороты, и даже эксцентричные капризы. Книги можно расставлять по заглавиям, можно по алфавиту — согласно именам авторов, можно по сериям или выпустившим их издательствам, можно в хронологическом порядке, можно по языкам, по тематике, по отраслям знания и даже в связи с местом выхода книги... Вариантов предостаточно.
Так узнал я, что существуют логические законы, определяющие многовариантность жизненных явлений. Все, что происходит, может произойти так, а может иначе, жизнь разыгрывается по различным партитурам, по параллельным логическим схемам. Каждая из этих схем сама по себе логически последовательна и по-своему когерентна, внутри себя — совершенна, а ко всем другим — равнодушна.
В последующие дни я проводил долгие часы, устраивая свою маленькую библиотеку, эти двадцать или тридцать книг я размещал и перетасовывал, словно колоду карт, вновь и вновь переставлял их, располагая различным образом, руководствуясь теми или иными соображениями.
Так, с помощью книг, познал я искусство композиции — не из текстов, что содержались в них, не из слов, а благодаря самим книгам, их физическому бытию. Именно книги научили меня тому, что существует приграничная нейтральная полоса, что существует сумеречная зона, лежащая между дозволенным и запретным, между легитимным и эксцентричным, между нормальным и причудливым. Этот урок сопровождает меня многие годы. Когда пришла пора любви, я не был уж совсем зеленым новобранцем, я уже знал, что существует выбор: есть автострада, и есть дорога с меняющимися по сторонам пейзажами, и есть заброшенные тропы, по которым почти никогда не ступала нога человека. Есть дозволенное, которое почти запретно, и есть запретное, которое почти дозволено. Есть и то, есть и это.
● ● ●
Иногда мне позволяли брать книги с папиных полок и выносить во двор, чтобы стряхнуть с них пыль, не более трех книг одновременно, чтобы не нарушить порядок, чтобы каждый из томов встал точно на свое место. Это была и большая ответственность, и удовольствие, ибо запах книжной пыли возбуждал меня, и порой я забывал о том, что мне поручено, забывал об ответственности и о собственной чести — я оставался во дворе и не возвращался, пока обеспокоенная мама не посылала спасательную экспедицию в лице папы. Он должен был проверить, не хватил ли меня солнечный удар, не покусала ли меня собака... Однако меня всегда обнаруживали в одном из уголков нашего двора погруженным в чтение — коленки поджаты, голова склонена, рот приоткрыт. И когда папа с дружелюбным упреком спрашивал: “Что с тобой опять стряслось?” — требовалась долгая минута, чтобы вернуть меня в этот мир; так утопающий или унесенный потоком медленно-медленно, словно бы нехотя, возвращается из бесконечного далека в юдоль плача, в мир повседневных обязанностей.
В детстве мне нравилось расставлять вещи в определенном порядке, раскидывать их и вновь расставлять, но всякий раз чуть-чуть по-другому. Три-четыре пустые рюмки для яиц могли стать у меня то системой фортификационных укреплений, то эскадрой подводных лодок, то конференцией собравшихся в Ялте лидеров великих держав. Иногда я совершал короткие вылазки в царство полнейшего беспорядка. Было в этом что-то дерзкое и очень возбуждающее: мне нравилось рассыпать по полу содержимое спичечного коробка и пытаться складывать из спичек бесконечное число возможных комбинаций.
В течение всех лет, пока шла Вторая мировая война, на стене в коридоре висела большая карта театра военных действий в Европе с воткнутыми в нее флажками разных цветов. Папа передвигал их раз в два-три дня в соответствии с радиосводками. Я же создал свою параллельную виртуальную действительность: на циновке развернул я собственную арену военных действий, передвигал боевые колонны, брал врага в “клещи”, делал ложные маневры, пробивался ударными группами, обходил с флангов, лично принимал решения о тактических отступлениях, используя их для стратегических прорывов.
Я был одержим историей. Я решил исправить ошибки великих полководцев прошлого. Например, я снова поднял Великое еврейское восстание против римлян в первом веке новой эры, спас Иерусалим от полного его разрушения легионами Тита, перенес битву на территорию врага, привел отряды Бар-Кохбы под стены Рима, штурмом захватил Колизей и водрузил еврейский стяг над Капитолийским холмом. С этой целью Еврейскую бригаду, сформированную в Эрец-Исраэль и воевавшую в составе британской армии в Европе, я перенес во времена Второго Храма и приходил в восторг от тех потерь, которые два пулемета смогли нанести всем прославленным легионам Адриана и Тита, да будут прокляты их имена. Легкий самолет, один-единственный “пайпер”, поставил у меня на колени заносчивую Римскую империю. Отчаянный бой защитников крепости Масада я с помощью миномета и нескольких ручных гранат превратил в убедительную победу евреев.
По сути, этот странный порыв, овладевавший мною, когда я был маленьким, это желание предоставить тому, что было, возможность вернуться туда, куда нет и не будет возврата, — один из порывов, которые двигают моим пером сегодня, когда я сажусь писать.
● ● ●
Многое пережил Иерусалим. Город был разрушен, отстроен, разрушен и вновь отстроен. Завоеватели один за другим приходили в Иерусалим, правили в нем какое-то время, оставляли после себя несколько стен и башен, несколько зарубок на камне, горсть черепков и документов — и исчезали. Испарялись, как утренний туман со склонов этих гор. Иерусалим — это старая нимфоманка, которая с широким зевком стряхивает с себя одного любовника за другим, предварительно выжав их до конца. Это паучиха, разрывающая в клочья тех, кто ею овладевает, прежде чем они успевают оторваться от нее...
А тем временем в разных концах света эскадры кораблей отправлялись в дальние плавания и открывали острова и континенты. Мама, бывало, говорила:
— Слишком поздно, сынок, отступись. Магеллан и Колумб уже открыли даже самые заброшенные острова.
Я с ней не соглашался:
— Как ты можешь быть в этом настолько уверена? Ведь и до Колумба считали, что все уже известно и ничего не открытого не осталось.
Между циновкой, ножками мебели и пространством, что под кроватью, я, случалось, открывал не только безымянные острова, но и новые звезды, солнечные системы, никому не известные галактики.
Если я попаду в тюрьму, то, естественно, буду тосковать по свободе, да и некоторых других вещей мне будет явно недоставать, но от скуки я страдать не буду — при условии, что мне позволят держать в камере костяшки домино, или колоду карт, или пару спичечных коробков, или дюжину монет, или горсть пуговиц: я буду располагать их в определенном порядке в течение всего моего заточения. Буду соединять и разъединять, собирать, удалять, сближать, составлять из них маленькие композиции.
Возможно, все это пришло ко мне потому, что я был один, у меня не было ни братьев, ни сестер, а друзей было очень мало, поскольку они быстро уставали от меня — они предпочитали активные развлечения, “экшн”, как говорят нынче, а приспособиться к эпическому ритму моих игр у них получалось плохо.
Случалось, в понедельник я затевал какую-нибудь игру на полу, во вторник все утренние часы в школе я обдумывал следующий ход, а после обеда, сделав пару ходов, откладывал продолжение на среду и четверг. Моим товарищам это надоедало, они оставляли меня с моими фантазиями и химерами, а сами бросались гоняться друг за дружкой по дворам и улицам. Я же продолжал развивать свою историю, разворачивающуюся на полу, и еще долгие дни передвигал боевые колонны, осаждал города и столицы, разбивал противника наголову, завоевывал, создавал в горах батальоны подпольщиков, штурмовал крепости и линии укреплений, освобождал и захватывал вновь, расширял и вновь сужал границы, обозначенные спичками. Если кто-нибудь из родителей нечаянно наступал на мою вселенную, я объявлял голодовку и бунт, в рамках которого отказывался чистить зубы. Так продолжалось, пока не наступал мой “судный день”, мама больше не могла выносить скопившуюся пыль и сметала все: флотилии, боевые колонны, столичные города, горы и морские заливы, целые континенты. Словно ядерная катастрофа...
Однажды, когда мне было примерно девять лет, один старый дядюшка по имени Нехемия научил меня французской поговорке: “В любви как на войне”. О любви я тогда не знал ничего, кроме того, что усвоил в кинотеатре “Эдисон”: существует какая-то туманная связь между любовью и убитыми индейцами. Но из слов дяди Нехемии я сделал вывод, что не следует спешить. Спустя годы я понял, что полностью ошибся, — по крайней мере, в том, что касается войны: на поле боя быстрота, как утверждают, как раз очень большое преимущество. Возможно, истоки моей ошибки в том, что сам дядя Нехемия был человеком медлительным, не любившим перемен: если он стоял, то почти невозможно было усадить его, но если уж он усаживался, то поднять его не удавалось никакими силами.
Бывало, говорили ему:
— Вставай, Нехемия, ну пожалуйста, вставай, в самом деле, что это с тобой? Ведь уже очень поздно, вставай же. Долго ты еще будешь сидеть здесь? До завтра? До Судного дня? До прихода Мессии?
А он отвечал:
— По крайней мере.
При этих словах он слегка задумывался, почесывался, хитро улыбался самому себе, словно разгадал наши козни, и добавлял:
— Ничего не убежит.
Тело его, как это свойственно любому физическому телу, всегда стремилось сохранить свое положение.
Я на него не похож. Я очень люблю перемены, встречи, поездки, путешествия. Но и дядю Нехемию я любил.
Недавно я искал его могилу на кладбище Гиват Шауль, но не нашел. Кладбище разрослось, еще немного — и доползет до берегов озера Бейт Некофа или до склонов Моцы. Полчаса или даже целый час сидел я там на одной из скамеек, среди кипарисов настойчиво жужжала какая-то оса, птица выпевала один и тот же куплет пять-шесть раз подряд, но со своего места я мог видеть только могильные памятники, верхушки деревьев, горы и облака.
Потом мимо меня прошла худая женщина, вся в черном, с черным платком на голове. Мальчик пяти или шести лет держался за нее. Маленькие пальцы с силой вцепились в край ее платья. Оба они шли и плакали.
[8] Монета с отверстием в центре, номинал — 10 милей.
[7] В Палестине при британском мандате в качестве денежной единицы курсировал палестинский фунт, приравненный к британскому фунту стерлингов. В одном фунте было 1000 милей.
4
Я один дома. Зимний день. Вечереет. Пять часов, а возможно, и половина шестого. На улице холодно и темно, дождь, подхлестываемый ветром, царапается в закрытые железные ставни. Родители отправились на чай к Мале и Сташеку Рудницким, на улицу Чанселор, угол Невиим, и вернутся — так они мне обещали — еще до восьми вечера, самое позднее в восемь пятнадцать или в восемь двадцать. Даже если они немного опоздают, мне, по их словам, не стоит беспокоиться:
— Мы ведь всего лишь у Рудницких, это рядом, в четверти часа ходьбы.
У Малы и Сташека нет детей, но есть два сиамских кота — Шопен и Шопенгауэр. Всю зиму они, словно впавшие в спячку медведи, спят, сплетясь друг с другом, в углу дивана или на особой мягкой подушке, которая называется “пуф” и на которой сидят. А в клетке в углу гостиной живет старая птица. Облезлая, слепая на один глаз, со всегда чуть-чуть приоткрытым клювом. Эту птицу иногда называют Альма, а иногда Мирабель. Чтобы Альма-Мирабель не страдала от одиночества, в ее клетку поместили еще одну птичку, которую Мала Рудницкая сделала из сосновой шишки, приделав ей ножки из спичек и бумажные крылышки, раскрашенные всеми цветами радуги, а для великолепия приклеила там и сям пять-шесть настоящих перышек.
— Одиночество — это как удар тяжелого молота: стекло оно разобьет вдребезги, но сталь закалит.
“Закалить” — это сделать еще крепче, разъяснял нам потом папа. “Закалить” — это как бы “сделать прививку”. На иврите эти понятия обозначаются схожими словами: лехасем — закалить, лехасен — сделать прививку. Хотя лехасем по смыслу ближе к словам хасима — заграждение и махсом — шлагбаум. Следует еще проверить, нет ли тут связи со словом махсан — хранилище, которое на арабском звучит как махазан и от которого тем или иным путем произошел и европейский “магазин”.
Папа очень любил вычерчивать для меня подробные схемы всяких близких или, напротив, абсолютно противоположных отношений между словами. Будто слова — это какая-то огромная разветвленная семья, прибывшая из Восточной Европы, и есть в ней множество двоюродных, троюродных и четвероюродных братьев, сватьев, племянниц, внуков, правнуков, зятьев, шуринов, деверей... Родственник — шеар, что буквально переводится как “плоть”.
— А посему, — говорит папа, — следует еще проверить, почему близких родственников называют странным словосочетанием шеарей басар — плоть плоти. И пожалуйста, напомни мне, что при случае стоит еще проверить, какая связь между упомянутым словом шеар и похожим на него шеарит — остаток, в том числе и в математике. Впрочем, не напоминай мне, а ступай-ка, пожалуйста, и принеси мне с полки большой словарь, и мы вместе проверим, вместе наберемся знаний, ты и я. А по дороге, будь уж так добр, поставь свою чашку на место.
● ● ●
Во дворах и на улице тишина, черная, всеобъемлющая тишина, такая, что можно услышать движение низко нависших облаков, проплывающих между крышами и ощупывающих верхушки кипарисов. Слышно, как капает протекающий кран в ванной и какой-то шорох или легкое трение, почти не различаемое ухом, но неуловимо-уловимое кончиками волос на затылке, — шепот, что сочится из темной пустоты между шкафом и стеной.
Я зажигаю свет в комнате родителей, беру с письменного стола отца восемь-девять скрепок, точилку для карандашей, две маленькие записные книжки, чернильницу с высоким горлышком, полную черных чернил, ластик, коробочку кнопок — и использую все это, чтобы основать новый кибуц на самой границе. В сердце пустыни — на циновке — стена и сторожевая вышка; я располагаю полукругом скрепки, ставлю точилку и резинку по бокам высокой чернильницы (это моя водонапорная башня) и окружаю все забором из карандашей и ручек, укрепив его кнопками.
Еще немного — и произойдет нападение: банда погромщиков, жаждущих крови (примерно двадцать пуговиц), набросится на поселение с востока и с юга, но мы защитим его, прибегнув к военной хитрости. Откроем им ворота, дадим им пробраться внутрь, на хозяйственный двор, который станет для них могилой, ворота закроются за ними, чтобы погромщики не могли отступить, и тогда-то я прикажу открыть огонь. В то же мгновение с каждой крыши, с высоты водонапорной башни, роль которой исполняет чернильница, откроют огонь поселенцы — их изображают белые фигурки-пешки моих шахмат. Несколькими яростными залпами они начисто уничтожат попавшие в ловушку вражеские силы, и, как поется в старинном гимне в честь праздника Ханука, “тебя подобает славить, когда устраиваем жертвенник во избавление от врага-хулителя... И завершу я хвалебной песнью”...
А нашу циновку я возведу в ранг Средиземного моря, этажерка с книгами обозначит берега Европы, диван будет Африкой, между ножками стула проляжет Гибралтарский пролив, карты из колоды, рассеянные тут и там, выступят в роли Кипра, Сицилии и Мальты, записные книжечки будут авианосцами, резинка и точилка — эскадренными миноносцами, кнопки — морскими минами, а скрепки — подводными лодками.
В квартире холодно. Вместо того чтобы надеть второй свитер поверх первого, как мне было велено сделать, чтобы зря не расходовать электричество, я включу — только на десять минут — обогреватель. У этого обогревателя две спирали, но есть специальный выключатель, благодаря которому можно для экономии зажечь только одну из них. Нижнюю. Я буду не отрываясь глядеть, как постепенно спираль нагревается. Процесс этот развивается по нарастающей, медленно, поначалу ничего не видно, только слышна серия легких-легких потрескиваний (нечто подобное слышится, когда ботинок наступает на рассыпанный по полу сахарный песок). Следом за потрескиваниями на концах спирали пробивается бледно-фиолетовое мерцание, а затем от краев спирали к ее середине начинает распространяться некий едва заметный трепет, бледно-розовый, словно румянец на щеках застенчивой девушки, потом розовый сменяется резкой багровой краской стыда, а за ним неистовствуют, уже преступив все приличия, нагой желто-красный и сладострастный лимонный цвет, пока накал не достигнет центра спирали и она не запылает так, что сейчас, кажется, ничто уже ее не погасит. Теперь уже раскаленная добела спираль выглядит словно солнце в металлической, сверкающей серебром раковине, эта раковина отражает тепло, и на нее уже почти невозможно глядеть, не моргая. И вот уже вся спираль пылает, огонь слепит, разрастается, выходит из берегов, не в силах вместить в себя столько жара, еще минута — и избыток жара извергнется, еще минута — и яростные струи зальют циновку Средиземного моря. Это похоже на вулкан, по склонам которого несутся потоки пламени, готового заживо сжечь и мою эскадру, и эсминцы, и весь подводный флот.
Все это время верхняя не включенная спираль дремлет себе, холодная и равнодушная. И чем больше распалялась нижняя спираль, тем более равнодушной, как бы пожимающей плечами казалась ее верхняя соседка, наблюдающая все вблизи, но остающаяся ко всему безучастной. И вдруг пробрала меня дрожь, словно догадался я или прямо-таки кожей ощутил всю силу напряжения между пылающим и холодным. И осознал, что есть у меня достаточно простой и быстрый путь сделать так, чтобы и у равнодушной спирали не осталось никакого выхода, — и она будет вынуждена запылать, и она тоже еще затрепещет у меня, готовая взорваться от переполняющего ее огня... Но это решительно запрещено. На самом деле запрещено. Строжайше запрещено включать обе спирали одновременно, и не только из-за вопиющей расточительности, но также из-за опасности перегрузки, чтобы, упаси бог, не сгорел предохранитель и весь дом не погрузился в темноту. А кто пойдет посреди ночи искать мне Баруха Золотые Руки?
Вторая спираль — только если я сошел с ума, действительно сошел с ума, так что будь что будет.
А что, если родители вернутся раньше, чем я успею выключить эту вторую спираль? Или если выключить-то я успею, но спираль не успеет остыть, не успеет прикинуться мертвой? Что я смогу тогда сказать в свое оправдание? Итак, следует проявить сдержанность. Не включать. И пожалуй, стоит мне начать наводить порядок: красиво расставить по местам все то, что рассеяно на циновке.
5
Итак, что же все-таки в моих историях автобиографично, а что — вымысел?
Все автобиографично; даже если я когда-нибудь придумаю и напишу книгу о страстном романе между матерью Терезой и израильским политиком Абой Эвеном, это наверняка будет автобиографическое повествование, хотя и без всякой исповедальности. Все написанные мною истории автобиографичны, но ни одна из них не исповедь. Читателю, чей уровень я определил бы как недостаточно высокий, всегда хочется узнать — причем безотлагательно, — “Что же случилось на самом деле?” Что за история кроется за этой историей, что это все значит, кто против кого, кто же на самом деле с кем переспал. “Профессор Набоков, — спросила однажды американская журналистка в прямом эфире, — скажите нам, пожалуйста, are you really so hooked on little girls?” [9]
Вот и я время от времени удостаиваюсь того, что неуемные интервьюеры спрашивают меня “во имя права общественности все знать”, не послужила ли моя жена прообразом Ханы из “Моего Михаэля”? Не грязна ли моя кухня так же, как кухня героя из “Фимы”?
А иногда они просят:
— Не можете ли вы рассказать нам, кто она на самом деле, молодая девушка в романе “И то же море”? Не было ли, случаем, у вас самого сына, который исчез на Дальнем Востоке? И что в действительности скрывается за романчиком Иоэля с его соседкой Анной-Мари в “Познать женщину”? А может быть, вы любезно согласитесь рассказать нам — своими словами, — о чем, собственно, роман “Уготован покой”?
И чего же, по сути, просят эти возбужденно пыхтящие интервьюеры от Набокова и от меня? Чего хочет ленивый читатель, а также и читатель-социолог, и читатель-сплетник, любящий подглядывать в щелку?
В худшем случае, вооружившись пластмассовыми наручниками, они приходят ко мне, чтобы из живого или мертвого выбить признание: в чем состоит мое “послание”, что хочу я сказать этому миру? Однозначного вывода — вот чего они ждут. “Что хочет сказать поэт?” — за этим они пришли ко мне. Только выдайте им великую “весть”, или назидание, или политическую “позицию”, или “мировоззрение”. Вместо романа будь любезен дать им нечто, стоящее обеими ногами на твердой почве, нечто такое, что можно подержать в руках, нечто вещественное, вроде “оккупация развращает”, “песочные часы социальных противоречий на пределе”, или “только любовь победит”, или “элита поражена гниением”, или “ущемленные меньшинства”. Короче, подай им “священных коров”, что зарезал ты для них в своей последней книге, подай их упакованными в пластиковые мешки, предназначенные для трупов. Благодарствую.
Иногда они отступаются и от идей, и от священных коров, готовые удовольствоваться только “историей, которая стоит за этой историей”. Они жаждут сплетен. Они хотят заглянуть в замочную скважину. Чтобы ты сообщил им, что в действительности произошло в твоей жизни, а не то, что ты написал об этом в своих книгах. Чтобы открыли им наконец, ничего не приукрашивая и не дуря им голову, кто на самом деле сделал это, и с кем, и сколько раз. Это все, чего они хотят, и как только получат — будут удовлетворены. Влюбленного Шекспира подавай им, Томаса Манна, нарушившего молчание, поэтессу Далию Равикович, обнажающую душу, исповедь нобелевского лауреата Сарамаго, сочные подробности интимной жизни поэтессы Леи Гольдберг.
Ленивый читатель приходит и требует от меня, чтобы я очистил для него написанную мною книгу, как апельсин от кожуры. Он приходит ко мне и требует, чтобы ради него я собственными руками выбросил в мусорное ведро мой виноград, а ему подал лишь зернышки.
Такой читатель подобен любовнику-маньяку, набрасывающемуся на женщину, срывающему с нее одежду, а когда она уже обнажена, он не унимается и сдирает с нее кожу, он нетерпеливо отбрасывает в сторону ее плоть, разнимает скелет и перемалывает ее косточки своими грубыми пожелтевшими зубами — только тогда он наконец полностью удовлетворен: “Ну все. Теперь я на самом деле внутри. Добрался”.
А куда он добрался? К старой, истертой, банальной схеме, к набору сухих клише, которые, как и всем остальным, ленивому читателю известны уже очень давно, и поэтому ему удобно с ними и только с ними, ведь герои книги — это уж точно сам писатель или его соседи, а писатель и его соседи, как выясняется, не бог весть какие праведники, они в достаточной мере омерзительны — как и мы все. После того как все оболочки сорваны, кожа содрана до самых костей, выясняется, что “все одним миром мазаны”. А это как раз то, что такой читатель с настойчивостью и усердием ищет (и находит) в любой книге.
Более того, неумный читатель, как и похожий на него запыхавшийся интервьюер, с какой-то подозрительной враждебностью, с какой-то пуритански-праведной злобой относится к творчеству, к вымыслу, к усложненности стиля, преувеличению, к изощренности любовных игр, к “подводному” смыслу, к музыкальности и музе, к самому воображению. Ему случается, возможно, заглянуть в сложное литературное произведение, но лишь при условии, что ему заранее обещано либо удовлетворение от “подрыва устоев”, либо сладко-праведное удовлетворение, к которому пристрастились все потребители скандалов и всевозможных журналистских “расследований” — в соответствии с меню, которое подает желтая пресса.
Удовлетворение, которое доступно такому читателю, связано с тем, что личность прославленного, всемирно известного писателя Достоевского как-то туманно связана с темной склонностью к грабежу и убийству старушек, Уильям Фолкнер уж точно так или иначе замешан в кровосмешении, а Набоков занимался любовью с несовершеннолетними девочками. Кафка наверняка был на подозрении у полиции (дыма без огня не бывает), наш писатель А. Б. Иегошуа поджигает леса, посаженные Национальным фондом (есть и дым, есть и огонь), уж не говоря о том, что Софокл сделал своему отцу и что сотворил он со своей матерью, а иначе как бы он сумел описать все это столь живо, да не просто “живо” — более живо, чем это бывает в жизни.
У нашей национальной поэтессы Рахели есть такие строки:
Лишь о себе рассказать я умела.
Узок мой мир, словно мир муравья.
Ноет под тяжестью бедное тело,
Груз непомерный сгибает меня.
Тропку к вершине сквозь холод тумана,
Страх побеждая, в муках торю,
Но неустанно рука великана
Все разрушает, что я создаю... [10]
Один незадачливый ученик так изложил мне однажды свое понимание этого стихотворения:
“Когда поэтесса Рахель была еще совсем маленькой, она жутко любила лазить по деревьям, но всякий раз, как только она начинала карабкаться на дерево, появлялся какой-то громила и сбрасывал ее на землю. И из-за этого она была очень несчастной”.
● ● ●
Тот, кто пытается найти смысл произведения в пространстве между самим произведением и его автором, ошибается: искать следует не на поле, лежащем между написанным и писателем, а на поле, которое создается между написанным и читателем.
Я не утверждаю, что совсем уж нечего искать между текстом и его автором, — там есть место для биографических исследований и есть определенная сладость в сплетнях, вполне возможно, даже ценных, поскольку они помогают точнее увидеть биографический фон, на котором создавалось произведение. Думаю, что не стоит пренебрегать сплетней — при всей своей вульгарности это ведь двоюродная сестра беллетристики. Правда, обычно литература не снисходит до того, чтобы раскланиваться со сплетней, но нельзя игнорировать фамильное сходство между обеими, ведь и у той и у другой один метод — подглядывать, чтобы выведать тайны ближнего.
И только тот, кто ни разу не наслаждался прелестью сплетни, пусть встанет и первым бросит в нее камень. Однако вся ее прелесть не более чем сладкая-пресладкая розовая сахарная вата. И сплетня так же далека от хорошей книги, как далека газировка, подслащенная всякими разноцветными пищевыми добавками, от живой воды или благородного вина.
Когда я был маленьким, то по случаю праздников Песах или Рош ха-Шана меня два-три раза водили в фотостудию Эдди Рогозника на тель-авивской приморской улице Буграшов. У Эдди Рогозника стоял мускулистый великан — нарисованный человек-гора, вырезанный из картона, опирался на две колонны. Крохотные плавки обтягивают бычьи чресла, бесчисленные мускулы вспучиваются по всему телу, а загорелая, цвета меди, волосатая грудь необъятна. У этого картонного великана вместо лица было отверстие, а позади стояла скамеечка с двумя приступками. Тебе предлагалось обойти героя со спины, подняться на две ступеньки, просунуть свою маленькую голову в дырку, которая была у этого Геркулеса вместо лица, и посмотреть прямо на фотоаппарат. Эдди Рогозник прикажет тебе улыбнуться, не двигаться и не моргать — и нажмет на кнопку. Спустя десять дней мы приходили, чтобы получить фотокарточки. На этих снимках мое маленькое, бледное и серьезное лицо возносилось над жилистой бычьей шеей, его обрамляли кудри богатыря Самсона, ниспадающие на плечи Атласа, на грудь Гектора, на бицепсы колосса.
Вот так и каждое хорошее литературное произведение приглашает нас, по сути, явиться и, “просунув голову”, войти в тот или иной образ, созданный каким-нибудь Эдди Рогозником. Вместо того чтобы пытаться просунуть в отверстие голову писателя, как это делает лишенный воображения читатель, стоит попытаться сотворить это с самим собой и посмотреть, что получится.
Иначе говоря, пространство, которое хороший читатель предпочтет пропахать, знакомясь с настоящей литературой, это не область, лежащая между написанным и писателем, а простор, который раскинулся между написанным и тобой, читатель. Важно не то, “действительно ли Достоевский еще в бытность свою студентом убивал и грабил вдовствующих старушек”. Важно, что это ты, читатель, ставишь себя на место Раскольникова, чтобы в своей душе ощутить и ужас, и отвращение, и отчаяние, и болезненную убогость, смешанную с наполеоновской гордыней, и безмерность фантазий, и голодную лихорадку, и одиночество, и страсть, и усталость, и смертную тоску... И провести сравнение (результаты которого останутся тайной) не между героем книги и кое-какими скандальными подробностями из жизни автора, а между героем книги и твоим собственным “я” — скрытым, опасным, несчастным, сумасшедшим, преступным... Это приводящее в ужас существо навсегда упрятано тобой глубоко-глубоко, в самый темный из твоих карцеров, так что ни один человек даже не догадается, упаси боже, о его существовании — ни родители твои, ни любящие тебя, иначе убежали бы они от тебя в полном ужасе, как убегают от чудовища. И вот, когда постигаешь ты историю Раскольникова, — притом что ты не любитель сплетен, а вдумчивый читатель — ты можешь ввести этого Раскольникова внутрь, в свои подвалы, в свои темные лабиринты, через все решетки — в свой карцер, и там устроить ему встречу с самыми постыдными, с самыми позорными твоими чудовищами. И ты сможешь сравнить чудовищ Достоевского со своими собственными, которых в обычной жизни тебе ни с чем сравнить не удастся, потому что во веки веков не представишь ты их ни одной живой душе, даже шепотом, в постели тому (или той), кто спит там с тобой по ночам, иначе он (или она) в ту же секунду, сдернув с омерзением простыню и обернув себя ею, убежит от тебя с воплями ужаса.
Так Раскольников сможет чуть-чуть утешить твоего внутреннего узника, которого каждый из нас вынужден обречь на позор и одиночество пожизненного карцера. Так смогут книги немного подсластить горечь твоих постыдных тайн: не только ты, голубчик, таков, но все остальные, возможно, немного похожи на тебя. Ни один человек не является островом, хотя каждый из нас — полуостров, Пиренейский полуостров, окруженный почти со всех сторон черной водой и все же как-то связанный с другими полуостровами.
Рико Данон, к примеру, в моей книге “И то же море”, размышляя о таинственном гималайском снежном человеке, не может не задуматься о тайне человеческого существования:
Рожденный женщиной несет родителей своих.
Не на плечах. Внутри себя.
Всю жизнь он будет их нести. И всех, кто позади.
Всех пра-пра-родителей.
Подобно матрешке, скрывает он в утробе все поколения.
И будет он нести в утробе родителей своих.
Засыпать и просыпаться он будет с родителями своими.
Странствовать или сидеть на месте он будет с родителями своими.
Ночь за ночью, день за днем отец и мать всегда с ним рядом, в нем.
Пока не пробьет его час [11].
И не спрашивай: “Каковы подлинные факты? Что происходит у этого писателя?” Спроси себя. Спроси о себе. И ответ тоже храни в себе.
[10] Перевод Льва Друскина.
[9] Вы и вправду свихнулись на маленьких девочках? (англ.)
[11] Строки из романа в стихах Амоса Оза “И то же море”.
6
Нередко факты угрожают правде. Однажды я написал об истинной причине смерти моей бабушки. Моя бабушка Шуламит прибыла из Вильны жарким летним днем 1933 года. Она окинула потрясенным взглядом пропотевшие базары, пестрые прилавки, кишащие живностью закоулки, наполненные криками торговцев, ревом ослов, блеянием овец, писком цыплят, подвешенных за связанные лапки... Она увидела кровь, капающую из шей зарезанных кур, увидела плечи и мускулы мужчин, сынов Востока, увидела кричащие краски овощей и фруктов, увидела окрестные горы и скалистые склоны иерусалимских холмов — и немедля вынесла окончательный приговор: “Этот Левант кишит микробами”.
Около двадцати пяти лет прожила моя бабушка в Иерусалиме, знавала трудные времена, а иногда и прекрасные дни, но приговор этот не смягчила и не изменила до своего последнего часа. Рассказывают, что уже на следующий день после их прибытия в Иерусалим она приказала дедушке (и приказ оставался в силе в течение всей их совместной жизни) и зимой и летом каждое утро вставать в шесть или половине седьмого и обрабатывать ручным распылителем каждый уголок квартиры. Чтобы отразить атаку микробов, следовало опрыскать под кроватью, и за шкафом, и на антресолях, и между ножками буфета. Затем надлежало выбить все матрасы, постельное белье и покрывала. С раннего детства я помню дедушку Александра, стоящего в предрассветных сумерках на балконе в майке и тапочках, — изо всех сил лупит он по простыням, словно Дон Кихот, атакующий бурдюки с вином. Он поднимает выбивалку и раз за разом, со всем гневом отчаяния и обездоленности, опускает ее на развешенные простыни и наволочки. Бабушка Шуламит стоит позади него, в нескольких шагах. На ней цветастый шелковый халат, застегнутый на все пуговицы, волосы подобраны зеленой лентой с бантиком-бабочкой, она стоит, прямая и твердая, как начальница пансиона для благородных девиц, и следит за битвой — пока не будет одержана ежедневная победа.
В рамках неустанной борьбы с микробами бабушка привыкла ошпаривать кипятком овощи и фрукты, не идя ни на какие компромиссы. Хлеб она, бывало, протирала пару раз влажной тряпочкой, смоченной в розовом химическом дезинфицирующем растворе, который назывался “кали”. После каждой трапезы она не мыла посуду, а, как это принято при подготовке посуды к пасхальным дням, вываривала ее продолжительное время в кипящей воде. И себя бабушка Шуламит тоже “вываривала”: и летом и зимой она три раза в день принимала ванну с едва ли не кипящей водой, чтобы уничтожить микробов. Она прожила долгую жизнь, микробы и вирусы, завидев ее издали, торопились перебежать на другую сторону улицы. И когда ей, уже пережившей два или три сердечных приступа, было за восемьдесят, доктор Крумгольц предостерегал ее:
— Дорогая моя госпожа, если вы не откажетесь от ваших обжигающих ванн, я не могу нести ответственность за то, что с вами, не приведи господь, может стрястись...
Но бабушка не могла отказаться от своих ванн. Ужас перед микробами был слишком силен. Она умерла в ванне.
От сердечного приступа.
Но правда в том, что моя бабушка умерла не от сердечного приступа, а от чрезмерной чистоты. Факты склонны скрывать от нас правду. Чистота убила ее. И хотя ее жизнь в Иерусалиме проходила под девизом “Левант кишит микробами”, это, возможно, лишь свидетельство того, что существовала более глубинная, внутренняя, приглушенная, невидимая глазу правда, предшествовавшая борьбе за чистоту — этому овладевшему бабушкой наваждению. Ведь бабушка Шуламит прибыла в Иерусалим из Северо-Восточной Европы, из мест, где микробов, не говоря уж о всяких прочих вредителях, было не меньше, чем в Иерусалиме.
Возможно, здесь приоткрывается некая щелочка, через которую можно заглянуть и хотя бы частично восстановить то, что пробудилось в душе моей бабушки Шуламит, увидевшей Восток, его краски и запахи. Это относится не только к моей бабушке, но и к другим эмигрантам-беженцам, прибывшим из осенне-серых местечек Восточной Европы, — они до такой степени испугались бьющей через край чувственности Леванта, что захотели выстроить себе гетто, пытаясь за его стенами укрыться от того, чем грозил им этот новый мир.
Чем же грозил он? Может быть, правда в том, что не из-за исходящей от Леванта опасности истязала бабушка свое тело, очищаясь омовениями в обжигающе горячей воде утром, днем и вечером до конца своих дней, а как раз из-за чувственных чар, соблазняющих ее тело. Была невероятная притягательность в этих переливающихся через край и растекающихся вокруг нее базарах, завораживающих и искушающих так, что перехватывало дыхание и плавилась душа. Колени слабели при виде изобилия овощей, фруктов, сыров, от острых запахов и кушаний, дерущих горло, потрясающих, неведомых, чужих, странных, дразнящих, возбуждающих... И эти алчные руки, которые щупают, роются, погружаются в потаенную глубину гор фруктов, зелени, красных перцев, пряных маслин... И изобильная нагота этой мясной плоти, болтающейся на крюках, окровавленной, обнаженной, от которой поднимается пар, лишенной кожи и не ведающей стыда... И все это разнообразие приправ, пряностей, специй, доводящее едва ли не до обморока, все это разнузданное и околдовывающее многоцветье горького, острого и соленого. А над всем этим еще и необузданный аромат кофе, проникающий до самых печенок, и запахи, поднимающиеся от всяких стеклянных сосудов, наполненных напитками всех цветов с кусочками льда и дольками лимона. И эти крепкие базарные грузчики, смуглые, косматые, голые до пояса, мускулы играют под кожей, подрагивая от напряжения, потные их тела лоснятся под солнцем.
Может быть, все это культовое служение чистоте было для моей бабушки не чем иным, как космическим скафандром, герметичным и стерильным? Антисептическим поясом верности, в который она сама, по своей доброй воле, заковала себя с первого часа своего пребывания в Израиле, навесив семь замков и уничтожив при этом все ключи?
В конце концов, она умерла от сердечного приступа, это факт. Но не сердечный приступ, а чистота убила мою бабушку. Или, точнее, не чистота, а тайные желания. Или еще точнее — не желания, а ее жуткий страх перед ними. Или даже не чистота, не желания, даже не страх перед ними, а постоянная тайная досада по поводу этого страха — удушающая, злокачественная, неизлечимая, как блуждающая инфекция; досада на собственное тело, досада на собственные страсти. И еще другая досада, уже более глубокая, — на себя за то, что перед собственными страстями она пятится и отступает. Мутная, ядовитая досада — и на узницу, и на тюремщицу. На долгие-долгие годы, в течение которых втайне оплакивалось утекающее время, пустое и печальное, на свое ссыхающееся тело, на плотские желания. Те самые желания, которые выстираны много тысяч раз, намылены до полной покорности, продезинфицированы, отскоблены, прокипячены...
Этот вожделенный Левант, загаженный, потный, животный, услаждающий до потери сознания, но “весь-кишащий-микробами”.
7
Почти шестьдесят лет прошло с того времени, но я до сих пор помню его запах; я вызываю этот запах, и он возвращается ко мне, грубоватый, припорошенный пылью, напоминающий прикосновение плотной мешковины, но сильный и приятный. В моей памяти этот запах соседствует с прикосновением его кожи, с его буйными кудрями, густыми усами, касающимися моей щеки, и я чувствую себя так уютно, будто в зимний день сижу в старой, теплой, полутемной кухне...
Шауль Черниховский умер осенью сорок третьего года, когда мне было четыре с небольшим, так что эта чувственная память сохранилась наверняка потому, что прошла через несколько ретрансляционных станций с мощными усилителями: мама и папа часто напоминали мне эти мгновения, поскольку любили погордиться перед знакомыми — вот, мол, мальчик удостоился посидеть на коленях у Черниховского и поиграть его усами. При этом они всегда обращались ко мне, прося подтвердить их рассказ:
— Ты же помнишь ту субботу, после обеда, когда поэт дядя Шауль посадил тебя на колени и назвал чертенком, верно? (“Чертенок” он, разумеется, сказал ласково.)
В соответствии с отведенной мне ролью я должен был продекламировать для них свою неизменную реплику:
— Верно. Я это отлично помню.
Я ни разу не сказал им, что та картина, которую я помню, несколько отличается от их сценария.
Я ничего не хотел им испортить.
Привычка моих родителей повторять эту историю, требуя от меня ее подтверждения, укрепила, сохранила во мне память о тех минутах. Не будь мои родители столь горды происшествием, воспоминания поблекли бы и испарились. Но есть разница между их рассказом и тем, что отложилось в моей памяти. Факт, что оставшаяся в моей памяти картина не является лишь отражением родительского рассказа, что она живет и своей изначальной жизнью, что пьеса о великом поэте и маленьком мальчике в постановке моих родителей не совпадает с моей версией, — этот факт бесспорно доказывает, что моя версия рождена не только их рассказами. У родителей занавес поднимается, и светловолосый мальчик в коротких штанишках сидит себе на коленях гиганта ивритской поэзии, трогает и дергает его усы, а поэт тем временем удостаивает малыша звания “чертенок”. Но мальчик, со своей стороны, — о прелестная наивность! — платит поэту той же монетой, отвечая ему: “Сам ты черт!” По версии моего отца, автор стихотворения “Перед статуей Аполлона” отреагировал на это следующими словами: “Возможно, мы оба правы” — и даже поцеловал меня в голову. В этом поцелуе мои родители усмотрели знак на будущее, что-то вроде помазания, как если бы, предположим, Пушкин склонился и поцеловал в голову малютку Толстого.
Но рисунок, выгравированный моей памятью, рисунок, который то и дело освещали прожектора моих родителей и тем помогли мне сохранить его, этот рисунок определенно создан не ими. В запомнившейся мне сцене, не столь приторной, как у родителей, я вообще не сидел на коленях у поэта и не дергал его знаменитые усы. Было это в доме дяди Иосефа, я упал и прикусил язык, так что даже кровь пошла, я заплакал, и врач (а наш великий поэт был детским врачом), опередив родителей, подхватил меня, поднял своими широкими ладонями, и я до сего дня помню, как именно он поднял меня с пола: спина моя обращена к нему, орущее лицо — к собравшимся в комнате. Он повернул меня и произнес что-то и еще что-то, уж наверняка не о том, что Толстой наследует корону Пушкина, а мне, трепыхавшемуся в его руках, он открыл рот, глянул на ранку, велел принести немного льда и сказал:
— Пустяки, всего лишь царапина, не более, и так же, как мы сейчас плачем, так мы сразу же и засмеемся.
Возможно, потому, что поэт говорил как бы о нас обоих, возможно, из-за легкого прикосновения его щеки к моей щеке, шероховатого и приятного, похожего на прикосновение мешковины или толстого и теплого полотенца, а главное, из-за его запаха, крепкого домашнего запаха, который я и сегодня могу вызвать, и он отзывается и возвращается ко мне (не запах одеколона после бритья, не мыла и не табака, а запах тела, крутой, густой, пропитывающий все вокруг, — почти так пахнет куриный бульон в зимний день), именно из-за этого замечательного запаха я быстро успокоился. И выяснилось, что боль, как это часто бывает, это в большей степени паника, чем сама боль. А пышные усы, усы Ницше, улыбались и легонько щекотали меня, а затем — так помнится мне — осторожно уложил меня на спину доктор Шауль Черниховский, без церемоний, прямо на диван, где обычно восседали дядя Иосеф, он же профессор Иосеф Клаузнер, и поэт-врач или моя мама, кто-то из них положил мне на язык кусочек льда, который поспешила принести тетя Ципора.
Насколько мне помнится, никаким остроумным афоризмом, достойным, чтобы его увековечили или цитировали, не обменялись в этот выпавший им момент великий поэт поколения, которое принято называть в нашей литературе поколением Возрождения, и его маленький скулящий подопечный, принадлежащий уже к “поколению Государства”.
После того дня прошли еще два или три года, прежде чем я научился произносить “Шауль Черниховский”. Когда мне сказали, что он поэт, я не удивился: в Иерусалиме тех дней почти каждый был или поэтом, или писателем, или ученым, или философом, или преобразователем мира. Когда мне сказали, что он доктор, и это не произвело на меня никакого впечатления: в доме дяди Иосефа и тети Ципоры каждый из мужчин-гостей был профессором или доктором наук.
Но он не был просто еще одним доктором или еще одним поэтом. Он был детским доктором, он был мужчиной с непокорной, слегка взлохмаченной шевелюрой, смеющимися глазами, большими, поросшими шерстью руками, густой чащей усов, войлочными щеками и единственным, только ему присущим запахом, сильным и нежным.
И по сей день, стоит мне увидеть поэта Шауля Черниховского на фотографии, на картине или его скульптурный портрет, установленный, как мне кажется, у входа в школу его имени, — сразу же возникает и обволакивает меня, словно доброе зимнее одеяло, его запах, милосердный и утешающий.
● ● ●
Мой отец, как и почитаемый и обожаемый им дядя Иосеф, предпочитал пышноволосого Черниховского лысому Бялику [12]. В глазах отца Бялик был поэтом чересчур “еврейским”, несущим в своем творчестве комплексы рассеянного по миру народа, к тому же отчасти женственным, а Черниховский, тот представлялся выдающимся ивритским поэтом — этаким мужественным, несколько чужеземным дикарем, эмоциональным и дерзновенным, чувственно-дионисийским, “веселым греком”, как называл его дядя Иосеф (полностью игнорируя и еврейскую грусть Черниховского, и его еврейское тяготение к греческой культуре). В Бялике отец видел певца еврейской приниженности, характерной для мира вчерашнего, характерной для местечка с его жалким бессилием (кроме “Огненных свитков”, “Мертвецов пустыни” и “Сказания о погроме”, где, по словам папы, Бялик “прямо-таки лев рыкающий”).
Как и многие евреи-сионисты, его сверстники, мой отец был, по сути, скрытым “ханаанцем”: еврейское местечко и все с ним связанное, в том числе и представители “местечка” в новой ивритской литературе Бялик и Агнон, вызывали в нем чувство неловкости и стыда. Он хотел, чтобы все мы родились заново, ясными, сильными, загорелыми европейцами, говорящими на иврите, полностью избавившимися от приниженности, принесенной из Восточной Европы. К языку идиш отец почти всю свою жизнь чувствовал отвращение и называл его “жаргоном”. Бялик в его глазах был поэтом убогого существования, “агонии поколений”, а Черниховский — провозвестником зари возникающего для нас нового дня, зари тех, кто “бурей покорил Ханаан”. Стихотворение “Перед статуей Аполлона” отец знал наизусть и, бывало, читал его нам с большим подъемом, не обращая внимания на то, что поэт, по простодушию своему, преклоняясь перед Аполлоном, по сути, поет хвалебную песнь Дионису.
А порой с “одесско-жаботинским” душевным подъемом, но с ашкеназийской интонацией, отец метал в нас громы и молнии Черниховского:
Мне мелодия звучала первозданных дней...
Мелодия огня и крови...
На гору был поднят таран и сокрушил все,
что ему попалось, — беда.
Или:
Ночь... ночь... ночь чуждых богов.
Без звезды, без света... [13]
Бледное лицо отца, лицо скромного ученого, озарялось на миг, словно лицо монаха, в голове которого мелькнула греховная мысль, когда со всей возможной энергией, едва ли не рыча, произносил он строчку: “Кровь отдам за кровь”. А я подавлял улыбку, поскольку ивритское слово тахат (взамен), употребленное поэтом в высоком стиле, но имеющее и более “низкое” значение (низ, под), в бытовом иврите обозначало просто “задницу”.
За всю мою жизнь мне ни разу не пришлось встретить человека, который бы знал наизусть столько стихов Черниховского, как мой отец. Он наверняка помнил больше стихов Черниховского, чем сам Черниховский, и декламировал их с огромным пафосом и воодушевлением. “Поэт, осененный музой и музыкой, безудержный в своих устремлениях, без всяких ухищрений, приобретенных евреями в изгнании, ничего не стыдясь, он пишет о любви и даже о чувственных наслаждениях, — так говорил папа. — Черниховский никогда не топчется, не барахтается до полного изнеможения во всяких там «несчастьях» и «охах-вздохах»”. Эти последние слова произносились на нелюбимом папой идише.
Мама, бывало, глядела на папу с некоторым скептицизмом, словно удивлялась про себя природе подобных наслаждений, но считала за благо промолчать.
● ● ●
Был у него, у моего отца, явный темперамент “литвака”, как называли литовских евреев. Отец происходил из одесского семейства Клаузнеров, но в Одессу они попали из Литвы, а в отдаленном прошлом корни этого клана можно было бы, по-видимому, обнаружить в Матерсдорфе, он же — Матерсбург, город на востоке Австрии, у границы с Венгрией. Был отец человеком чувствительным и восторженным, но при этом всегда с пренебрежением относился ко всякого рода мистике и магии. Сверхъестественные явления представлялись ему несомненным результатом деятельности всяких обманщиков и проходимцев, пускающих пыль в глаза. Хасидские притчи о чудесах считал он всего лишь фольклором, а слово “фольклор” произносил с той же гримасой пренебрежения, с какой произносил еще целый ряд слов, например “жаргон”, “экстаз”, “гашиш”, “интуиция”...
Мама слушала его речи, вместо ответа предлагая нам свою грустную улыбку, а иногда говорила мне:
— Твой отец человек умный и логически мыслящий — даже во сне.
Спустя годы, после ее смерти, когда несколько потускнела оптимистическая веселость папы и исчезла его постоянная разговорчивость, изменились и вкусы его — возможно, они стали ближе ко вкусам мамы.
В одном из подвалов Национальной библиотеки отец обнаружил неизвестную рукопись И. Л. Переца, классика литературы на идише. Тетрадь относилась к юношеским годам писателя, и среди разного рода черновиков и набросков оказался неизвестный рассказ под названием “Месть”. Отец уехал на несколько лет в Лондон, там засел за работу и написал докторскую работу об этом своем открытии. В процессе своей исследовательской деятельности он отдалился от бури и натиска раннего Черниховского, втянулся в литературу на идише и, углубившись в печальную таинственность рассказов Переца и хасидских притч, словно освободился в конце концов от неких стеснявших его рамок и стал заниматься мифами и сагами разных отдаленных народов.
● ● ●
Но в те годы, когда по субботам мы отправлялись в дом дяди Иосефа в иерусалимском квартале Тальпиот, отец все еще пытался воспитывать всех нас, стремясь сделать из нас таких же “сынов света”, каким был он сам.
Мои родители довольно часто спорили о литературе. Папа любил Шекспира, Бальзака, Толстого, Ибсена и Черниховского. Мама предпочитала Бялика, Шиллера, Тургенева, Чехова, Стриндберга, Гнесина, а также господина Агнона, который жил прямо напротив дяди Иосефа в Тальпиоте. Но, как мне представляется, большой дружбы между ними не было.
Арктически холодная вежливость воцарялась в переулке, если случалось встретиться этим двоим, — профессор Клаузнер и господин Агнон приподнимали чуть-чуть свои шляпы, удостаивали друг друга легким поклоном и при этом наверняка шепотом желали друг другу вечного пребывания в пропасти забвения. Дядя Иосеф не признавал Агнона значительным писателем, считая его произведения архаичными, провинциальными, напоминающими кокетливо-красивые и замысловатые рулады канторского пения.
Что же до господина Агнона, он, со своей стороны, таил мстительную обиду, ничего не забывая, пока наконец не нанизал дядю Иосефа на один из вертелов своей иронии в издевательски поданном образе профессора Бахлама из романа “Шира”. Дядя Иосеф умер еще до появления романа “Шира”, благодаря чему счастливо избежал душевных огорчений. А вот господин Агнон прожил долгие дни и годы, стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, обрел мировую славу, но, несмотря на все это, обречен был сжать зубы и кисло улыбнуться, что, несомненно, произошло с ним в тот день, когда их переулку-тупичку, скромной улочке в квартале Тальпиот, было присвоено имя дяди Иосефа и она стала называться “улица Клаузнер”. С того дня и до самого дня смерти суждено ему было зваться писателем, господином Агноном с улицы Клаузнер.
И так до сих пор, словно назло, стоит дом-музей Агнона посреди улицы Клаузнер.
А вот дом Клаузнера был разрушен, его больше нет, и на его месте, к сожалению, построен просто многоквартирный дом, самый обыкновенный, ничем не примечательный — прямо напротив дома Агнона на улице Клаузнер.
[13] Из стихотворения Ш. Черниховского.
[12] Хаим Бялик (1873—1934) — поэт и прозаик, классик ивритской литературы.
