автордың кітабын онлайн тегін оқу Повесть о Мурасаки

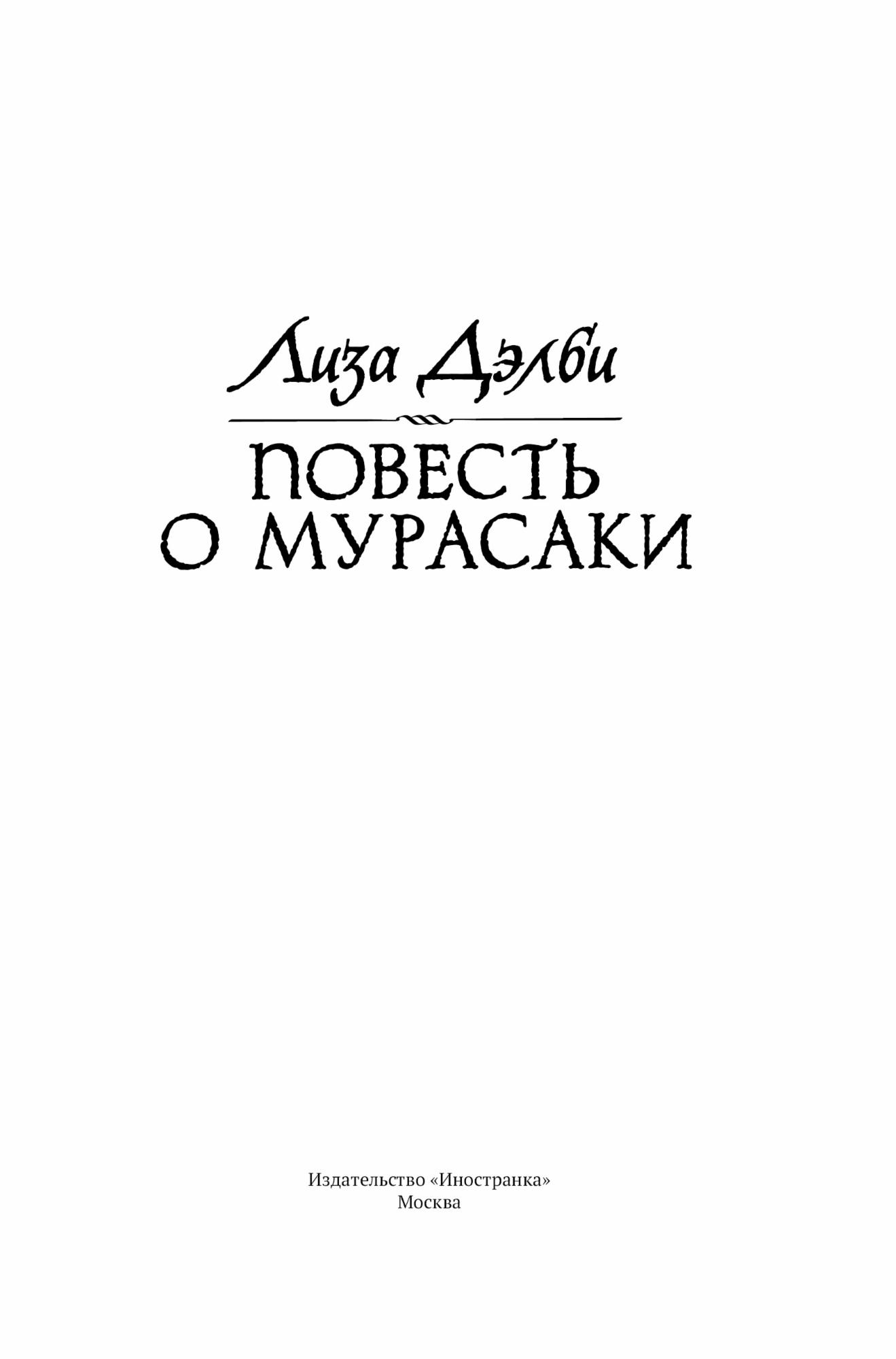
Liza Dalby
THE TALE OF MURASAKI
Copyright © Liza Dalby, 2000
All rights reserved
Издательство выражает благодарность Curtis Brown Ltd. и литературному агентству Synopsis Literary Agency за содействие в приобретении прав
Перевод с английского Анастасии Рудаковой
Серийное оформление и оформление обложки Александра Андрейчука
Научный редактор Екатерина Даровская
В оформлении обложки использована иллюстрация Утагавы Хиросигэ
Дэлби Л.
Повесть о Мурасаки : роман / Лиза Дэлби ; пер. с англ. А. Рудаковой. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2025. — (Сага).
ISBN 978-5-389-30167-2
18+
В XI веке придворная дама Мурасаки Сикибу написала первый в мире сюжетный роман «Гэндзи моногатари», ставший самым популярным произведением в истории японской литературы. Тысячу лет спустя, на рубеже XXI века, американка Лиза Дэлби придумала этой удивительной писательнице и поэтессе личную биографию. По сюжету романа госпожа Мурасаки получает приглашение на службу к императорскому двору благодаря таланту рассказчицы.
Лизе Дэлби удалось вдохнуть жизнь в древнюю Японию и приблизить ее к современному читателю: мы видим облетающий цвет нежной сакуры в саду Дворца чистой прохлады и рисовые поля в суровых горах, вдыхаем горьковатый запах хризантем и аромат старинной смеси благовоний «воплощение осени»…
Любовь и страсть, политика и дворцовые интриги — о чем бы ни шла речь в «Повести о Мурасаки», блистательный слог Дэлби заставляет наше сердце биться сильнее.
© А. А. Рудакова, перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2025
Издательство Иностранка®
Посвящается Майклу, Мари, Оуэну и Хлое
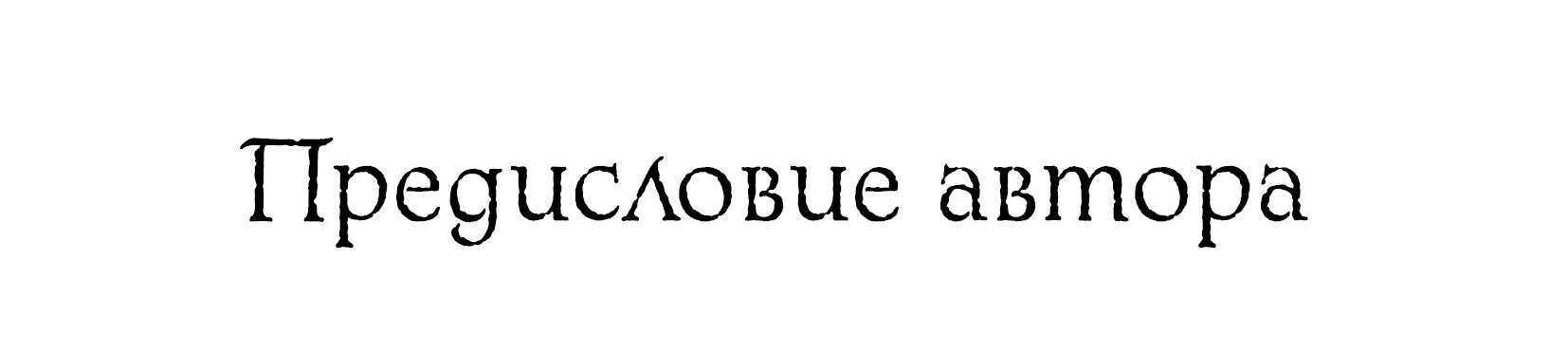
В переводе с японского языка «моногатари» означает «повесть», буквально — «повествование, рассказ о чем-либо». В моногатари могут быть вплетены прочные нити фактов, но в целом данный жанр относится к художественной прозе. Самое известное произведение японской литературы — это пространная «Повесть о Гэндзи» («Гэндзи моногатари»), написанная придворной дамой Мурасаки Сикибу в XI веке. Автор этой необычайной книги и стала героиней «Повести о Мурасаки». Я включила сохранившийся исторический фрагмент ее дневника в вымышленные мемуары, подобно тому как археолог реконструирует античную вазу, вживляя подлинные черепки в тело современного керамического сосуда: получилось нечто вроде литературной реставрации. Как очертания древних черепков определяют форму сосуда, так и моя книга имеет форму лирического дневника — литературного жанра, распространенного во времена Мурасаки. И хотя для реконструкции использовался новый материал, я привнесла в повествование представления, верования и предрассудки XI века.
Все включенные в книгу стихотворения сочинены самой Мурасаки или людьми, с которыми она вела поэтические диалоги. В кругах, к которым принадлежала Мурасаки, пятистишия, относящиеся к поэтическому жанру вака (предшественнику хайку), служили основным средством общения мужчин и женщин. В сохранившемся сборнике ее стихотворений вака нередко сопровождаются краткими заглавиями, дающими намек на обстоятельства, при которых они были созданы. Опираясь на эти намеки, я и строила свое повествование.
Я представила, что эти мемуары Мурасаки написала в конце жизни, а после смерти сочинительницы они были найдены ее дочерью Катако.
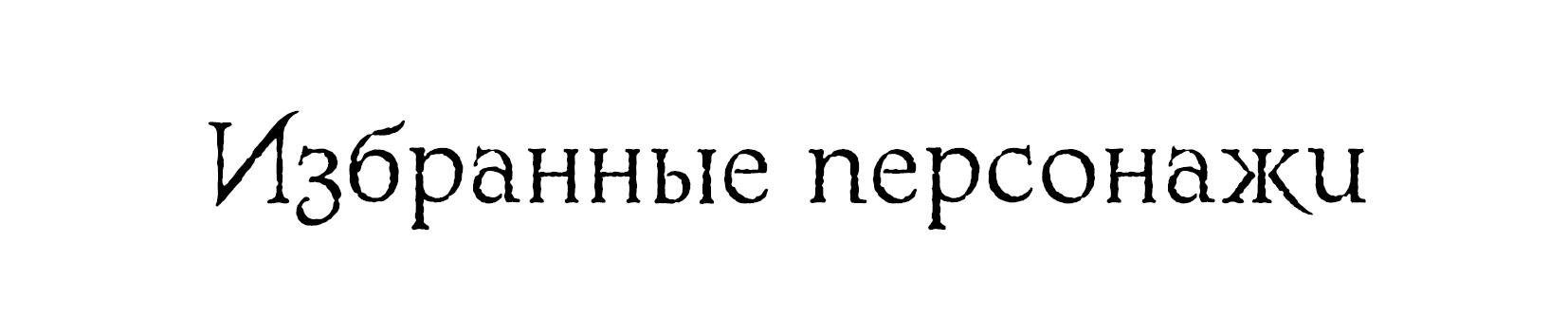
Ацухира (1008–1036) — принц, сын Итидзё и Сёси, внук Митинаги; в 1016–1036 годах правил под именем императора Го-Итидзё.
Ацуясу (999–1018) — принц, сын императора Итидзё и его первой супруги, императрицы Тэйси; не получил титул наследного принца из-за регента Митинаги, отстаивавшего интересы сыновей Сёси.
Биси (1000–1008) — принцесса, дочь императора Итидзё и Тэйси, умершей в родах.
Гэнси (891(?)–1002) — супруга наследного принца Окисады, сестра Корэтики.
Дайнагон — племянница Ринси, придворная дама императрицы Сёси. Была любовницей Митинаги.
Ёримити Фудзивара (992–1074) — старший сын Митинаги и Ринси.
Идзуми Сикибу — известная поэтесса, современница Мурасаки Сикибу.
Итидзё (980–1011) — 66-й император Японии, на чье правление пришлась бóльшая часть жизни Мурасаки Сикибу.
Кадзан (968–1008) — 65-й император Японии; правил всего два года (984–986), после чего под давлением Митиканэ принял постриг и отрекся от престола.
Канэиэ Фудзивара (929–990) — влиятельный политический деятель, закрепивший должность регента за кланом Фудзивара; отец императрицы Сэнси и трех сыновей — Мититаки, Митиканэ и Митинаги, каждый из которых стал регентом; сластолюбивый муж женщины, написавшей «Дневник эфемерной жизни».
Канэтака Фудзивара (985–1053) — сын Митиканэ; покровитель Катако, дочери Мурасаки Сикибу.
Катако (999–1083) — единственная дочь Мурасаки Сикибу.
Кинто Фудзивара (966–1041) — один из наиболее влиятельных культурных деятелей при дворе императора Итидзё. Был известен как ученый, музыкант, литературный критик и поэт, писавший на японском и китайском языках.
Кодаю — известная поэтесса, придворная приятельница Мурасаки Сикибу.
Корэтика Фудзивара (973–1010) — сын регента Мититаки, брат императрицы Тэйси.
Косёсё (?—1013) — придворная дама императрицы Сёси, близкая подруга Мурасаки Сикибу, многолетняя любовница Митинаги.
Кэнси (994–1027) — императрица, вторая дочь Митинаги и Ринси, младшая сестра Сёси, супруга наследного принца (с 1012 года — императора) Окисады.
Мингвок — китайский друг Мурасаки Сикибу, сын господина Цзё.
Митинага Фудзивара (966–1027) — сын Канэиэ, ставший регентом после смерти своего брата Митиканэ; самый могущественный из регентов клана Фудзивара, отец трех императриц, в том числе Сёси.
Мититака Фудзивара (953–995) — сын Канэиэ, отец Корэтики и императрицы Тэйси; регент в 990–995 годах.
Мураками (926–967) — 62-й император Японии, чье двадцатилетнее правление считалось эпохой расцвета искусств.
Мурасаки — персонаж «Повести о Гэндзи».
Мурасаки Сикибу (973(?) – ?) — писательница, автор «Повести о Гэндзи».
Нобунори Фудзивара (980(?)–1011) — младший брат Мурасаки Сикибу.
Нобутака Фудзивара (950(?)–1001) — муж Мурасаки Сикибу.
Норимити Фудзивара (996–1075) — второй сын Митинаги и Ринси.
Окисада (976–1017) — наследный принц; с 1012 года, после смерти Итидзё, — император Сандзё.
Ринси Минамото (964–1053) — главная жена Митинаги, мать шестерых его детей — двух сыновей и четырех дочерей.
Роза Керрия — подруга Мурасаки Сикибу, ставшая монахиней.
Рури — подруга детства Мурасаки Сикибу.
Сайсё — высокопоставленная придворная дама императрицы Сёси.
Санэнари Фудзивара (975–1044) — придворный императрицы Сёси, помощник управляющего делами двора ее величества; судя по нескольким записям в дневнике Мурасаки Сикибу, она, очевидно, была к нему неравнодушна.
Саэмон-но Найси — придворная дама.
Сёси (988–1074) — императрица, старшая дочь Митинаги и Ринси; с тринадцати лет замужем за императором Итидзё, мать двух императоров.
Сэй Сёнагон (966(?)–?) — писательница, автор сборника блистательных зарисовок, известного под названием «Записки у изголовья» («Макура-но соси»), где запечатлены тонкие наблюдения над людьми, придворной жизнью и красотой природы.
Сэнси (962–1001) — вдовствующая императрица, дочь Канэиэ, сестра Митинаги, мать императора Итидзё; с 986 года, после восшествия сына на престол, являлась заметной политической фигурой.
Такаиэ Фудзивара (979–996) — сын Мититаки, брат Корэтики, вместе с которым был отправлен в ссылку за противостояние Митинаге.
Такако — старшая сестра Мурасаки Сикибу.
Тамэтоки Фудзивара (945–1020) — отец Мурасаки Сикибу.
Тетушка — автор «Дневника эфемерной жизни», дальняя родственница Мурасаки Сикибу.
Тифуру — подруга детства Мурасаки Сикибу.
Тэйси (976–1000) — императрица, дочь Мититаки, сестра Корэтики, первая супруга императора Итидзё.
Фудзи — детское прозвище Мурасаки Сикибу.
Фуюцугу Фудзивара (775–826) — государственный деятель времен правления императора Нинмё, сыгравший важную роль в разработке канона благовоний. Предок всех выдающихся представителей клана Фудзивара.
Цзё (Цзё Шичан) — китайский чиновник, глава делегации, направленной в 997 году в Этидзэн для сопровождения обратно в Китай группы потерпевших кораблекрушение купцов.

Когда скончалась моя мать, я была беременна тобой и состояние мое оставляло желать лучшего. На меня нередко накатывали приступы тошноты. Единственное, что помогало с ними справляться, — свежие цитрусы. Если поскрести бугристую желтую кожуру юдзу [1], она начнет источать едва заметный аромат цитрусовой эссенции. Вдыхая его, я подавляла подступающий к горлу позыв, но чаще просто смирялась с постоянной дурнотой. Чтобы выдержать церемонию похорон, мне пришлось на всякий случай спрятать в рукава юдзу и мандариновую кожуру. Мать давно уже затворилась в уединении. Некоторые люди, узнав о ее смерти, удивлялись, что она дожила до этой поры.
Твоя бабушка прославилась как женщина, написавшая «Повесть о Гэндзи». Появление этого любовного романа, полного проницательных наблюдений, можно сравнить с восходом яркой полной луны, озаряющей темный небосвод. Прежде никто не читал ничего подобного. В свое время «Гэндзи» принес моей матери известность и громкое имя. И все же я поразилась, увидев, какая толпа собралась, чтобы присутствовать при свершении последних обрядов над нею. Не менее дюжины женщин выдержали тягостную поездку в храм Исияма, занимающую целый день. Вероятно, то были читательницы «Гэндзи», которые предпочитали своим скучным мужьям или стесненным обстоятельствам жизнь, описанную в сюжетах моей матери.
Я убеждена, что мать стала затворницей, чтобы отделаться от «Гэндзи». Этот труд начал подчинять себе ее жизнь, но вместе с тем он был матушкиным детищем. Она породила и взрастила его, однако затем, как часто случается с детьми, чадо выросло и в конце концов освободилось из-под ее власти. Я была куда более послушным ребенком, чем эта книга, и никогда не давала матери столько поводов для беспокойства, как «Гэндзи».
Возможно, оттого что люди были очарованы одной из героинь романа, в их сознании этот образ слился с образом моей матери. Когда матушка поступила на службу к императрице, ее прозвали Мурасаки. Похоже, читатели повести вообразили, что знают мою мать, потому что знают Мурасаки из «Гэндзи». Думаю, матушке надоели письма и визиты публики всех сословий, включая императорских особ, которыми она, разумеется, пренебречь не могла. В конце концов читатели настолько увлеклись, что стали докучать ей требованиями написать новые сцены в угоду их воображению. Они привыкли ждать от «Гэндзи» чего-то определенного, и, надо полагать, матушка в равной степени устала как оправдывать, так и обманывать их ожидания.
Именно благодаря этому произведению матушку пригласили к императорскому двору. Должно быть, ей, вдове, проводившей жизнь среди книг, показалось чудом, что ее разом перенесли из тьмы безвестности в залитые светом государевы покои. «Повесть о Гэндзи» привлекла к ней внимание регента Фудзивары Митинаги — могущественного вельможи, который повелевал императорами и фактически правил страной. Каковы бы ни были отношения моей матери с Митинагой, за это в значительной степени ответственен «Гэндзи».
Производя на свет детей и со временем вводя их в общество, люди молятся о том, чтобы отпрыски произвели благоприятное впечатление, заняли достойное положение или по меньшей мере не опозорили родителей. Возможно, сыновей и дочерей учат, как обрести силы, чтобы терпеливо нести карму, с которой они родились. Однако впоследствии дети все равно будут поступать по собственному разумению. Предугадать, как скажется на них предыдущее существование, мы не способны. Любой родитель принимает это как данность. Однако литературное сочинение — порочное дитя. Едва появившись на свет, оно сразу идет своим путем, не оправдываясь, не терпя никакого влияния, самостоятельно обзаводясь друзьями и врагами.
Пожалуй, в конечном счете книга не столь уж отличается от живого ребенка из плоти и крови.
С самого моего рождения Гэндзи был для меня кем-то вроде старшего брата. Как любой эгоистичный мальчишка, он вечно отнимал время у матери, добивался ее внимания, никогда не оставлял в покое и не умерял своих требований. И, несмотря на терзающую меня ревность, в конце концов я тоже поддалась чарам Гэндзи.
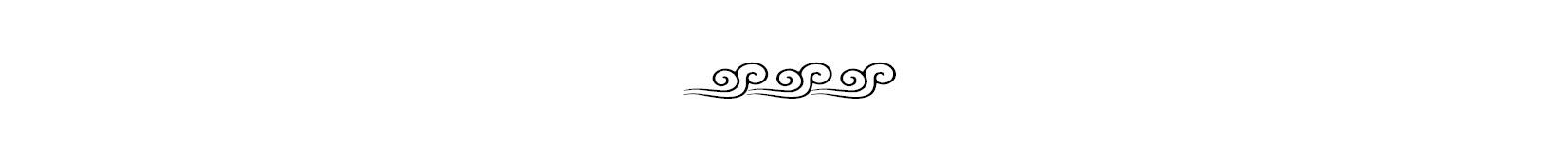
Мы нечасто встречались в те годы, когда матушка вела монашеский образ жизни. Моя карьера при дворе развивалась сравнительно успешно: тогда я находилась под покровительством советника Канэтаки, племянника регента Митинаги. В момент смерти Мурасаки я носила под сердцем дитя Канэтаки — тебя.
Я полагала, что, вероятно, никогда не выйду замуж. Разве могла я знать, какие встречи и взлеты уготованы мне судьбой? Я не беспокоилась о грядущем, потому что о нем не беспокоилась матушка. Она не покинула бы меня в мои шестнадцать, если бы не считала надежными мои виды на будущее.
Едва уловимый запах цветущей сакуры всегда будет напоминать мне о матушкином расставании с этим миром. Покидая на рассвете засыпанную песком погребальную равнину, мы проходили мимо цветущей вишневой рощи, окутанной утренним туманом. А после, когда солнце нагрело землю и туман растаял, воздух наполнился нежным благоуханием. Сакуру ценят отнюдь не за запах: у нее нет того медвяного духа, который присущ цветущей сливе, но оказалось, что на сельских просторах скопления деревьев сакуры источают особенно тонкий аромат.
Урну с прахом Мурасаки, которую предстояло отвезти в наш семейный храм, несла я. Это должен был делать мой дед Тамэтоки, но семидесятичетырехлетний старец, удрученный тем, что пережил всех своих детей, уклонился от официального участия в церемонии. Качая седой головой, точно сварливые макаки, которые встречались нам на горных дорогах, дедушка сокрушался о своем крепком здоровье не меньше, чем о смерти дочери.
В следующем месяце я в последний раз отправилась в место уединения моей матери близ храма Киёмидзу, дабы забрать ее вещи. Мне было известно, что пожитков у нее немного: матушка уже раздала свои музыкальные инструменты и книги, а также, разумеется, давным-давно рассталась с прекрасными шелковыми одеяниями, которые носила при дворе. Осталось несколько добротных зимних платьев на теплой подкладке, которые я пожертвовала храму, а также сутры, переписанные изящным каллиграфическим почерком матушки. Мне удалось отыскать единственные предметы, которые я хотела сохранить у себя: мамину темно-фиолетовую тушечницу [2], набор кистей для письма и фарфоровую подставку для влажных кистей в виде пяти горных вершин. Опустившись на колени перед низеньким письменным столиком, я заметила пачку бумаг, скатанную в тугую трубку и обернутую куском зеленовато-желтого шелка. Предположив, что это старые письма, которые матушка хранила ради бумаги для переписывания сутр, я решила забрать их, чтобы самой упражняться в каллиграфии. Бумага стоит дорого, и мне пришло в голову, что я вполне могу использовать старые свитки по тому же назначению, что и матушка. Священнослужитель был раздосадован: монахи вечно гоняются за бумагой.
По различным причинам — и оттого, что по возвращении моем ко двору установилась жара, и оттого, что тошнота у меня, вопреки заверениям более опытных женщин, так и не прошла, — я заглянула в матушкины бумаги лишь спустя год после твоего рождения.
Не забывай, что сочинения твоей бабушки неизменно вызывали переполох. Кажется, после смерти Мурасаки о ней судачили не меньше, чем когда она жила при дворе. Поскольку люди по-прежнему с жадностью поглощали историю принца Гэндзи, меня часто просили рассудить спор читателей, которые располагали разными версиями текста — как правило, потому, что придворные дамы допускали ошибки при переписывании. Не знаю, как так вышло, но целые главы оказывались перетасованными, а в некоторых вариантах порой и вовсе отсутствовали. Собственный сборник я старалась поддерживать в изначальном порядке и позволяла тем, у кого возникали вопросы, сверяться с ним. А кроме того, были еще матушкины стихи, иные из которых входили в состав различных императорских антологий. Пожалуй, совсем неудивительно, что у Мурасаки оставалось множество почитателей, однако своей литературной репутацией матушка обязана отнюдь не стихам. Они, безусловно, заслуживают внимания, но среди прочих ее выделял именно «Гэндзи».
После родов ко мне вернулось хорошее самочувствие. Ты была здоровым и крепким младенцем, и я настояла на том, чтобы кормить тебя грудью вместе с принцем, кормилицей которого я удостоилась чести быть. С твоим появлением на свет апатия, вызванная беременностью, развеялась, как туча в погожий осенний денек. У меня возникло непреодолимое желание взять в руки кисть и вновь обратиться к своему дневнику. Добавив к собственной коллекции прекрасные старинные кисти матери, я разместила их в большом держателе из пятнистого бамбука. А кисть, выбранную для работы, положила на подставку в виде пяти горных вершин, которой Мурасаки пользовалась до конца жизни.
Рука отвыкла от письма; я осмотрела комнату в поисках клочка бумаги, на котором можно поупражняться, переписывая стихи, и наткнулась на сверток бледно-зеленого шелка, который безотчетно сунула в сундук во время беременности, мучимая непроходящей тошнотой. Я развязала узел и развернула скрученные в трубку листы, среди которых имелись как старые, так и довольно новые. По большей части там были переписанные тексты «Лотосовой сутры» [3]. Я узнала материн почерк и сперва приняла свитки за письма. Некоторые из листов и впрямь оказались письмами или дневниковыми отрывками. На обороте каждого листа имелись отметки, тоже сделанные рукой Мурасаки. Все это было перемешано между собой, и поначалу я не увидела в записях ни смысла, ни порядка. Однако затем обнаружила клочок, который все прояснил. Судя по всему, под конец жизни матушка разобрала письма, дневники, стихотворения, черновики «Гэндзи» и создала мемуары. Однако вместо того, чтобы доверить мысли чистой бумаге, она начертала свой последний труд на обратной стороне тех самых дневников, которые легли в его основу. Теперь, когда у меня был ключ, я приступила к чтению.
В последующие месяцы я посвящала все свое время кормлению и матушкиным бумагам — твоему ненасытному ротику, похожему на сливовый бутон, и своим ненасытным глазам. Ты утоляла голод моим молоком, а я — этими текстами, поэтому нынешнее отсутствие у тебя интереса к литературе вызывает искреннее изумление, ведь пристрастие к ней ты должна была впитать еще во младенчестве.
В глазах окружающих я была хранительницей правильного варианта «Повести о Гэндзи»: мой экземпляр считался образцовым. Негласно же мне суждено было стать хранительницей воспоминаний матери. Я уже сказала, что Гэндзи был для меня кем-то вроде родственника. Пока я росла, он получал первоочередное внимание, зато позднее помогал мне, как старший брат, приглядывающий за своей сестрой. Уйдя от мира, Мурасаки рассталась с Гэндзи, как рассталась и со своим престарелым отцом. Попечение о них обоих выпало на мою долю. Если матушка сейчас в раю будды Амиды [4], душа ее, верю, спокойна: я постаралась позаботиться о тех, кого она покинула.
Люди хвалили меня за радение о дедушке. Кое-кто думал, что привязанность к пожилому родственнику очень тягостна, но я никогда так не считала. Тамэтоки неизменно оставался для меня источником мудрости, а не бременем. Всегда обходительный, ничуть не высокомерный, он, казалось, был столь глубоко погружен в меланхолию, что она курьезным образом продлевала ему жизнь. Сам дедушка считал, что это он заботится обо мне, а не наоборот.
Ныне, когда ты выросла, тебе следует прочесть бабушкины воспоминания, чтобы понять собственные истоки и в силу этого лучше узнать себя. Советую держать мемуары при себе, пока однажды ты не передашь их собственному литературному потомку. В грядущем, если «Повесть о Гэндзи» все еще будут читать, чувствительные натуры, возможно, заинтересуются сокровенными мыслями Мурасаки, а сплетни к той поре уже позабудутся и не принесут ей вреда.
На ум невольно приходит стихотворение, которое матушка некогда написала кому-то:
Прочтет ли в грядущем
Хотя бы один человек
Посвящение той,
Память о коей всегда
Будет жить на этой земле?
Я не могу не надеяться, что прочтет.
[3] Один из самых древних и почитаемых буддийских текстов.
[4] Будда Амида (Амитабха) — владыка Западного рая (Чистой земли), особо почитавшийся в древней Японии.
[1] Японский лимон, плод одноименного растения рода цитрусовых. — Здесь и далее примеч. пер.
[2] Письменная принадлежность, камень (или подставка из других материалов) для растирания бруска туши и смешивания ее с водой.
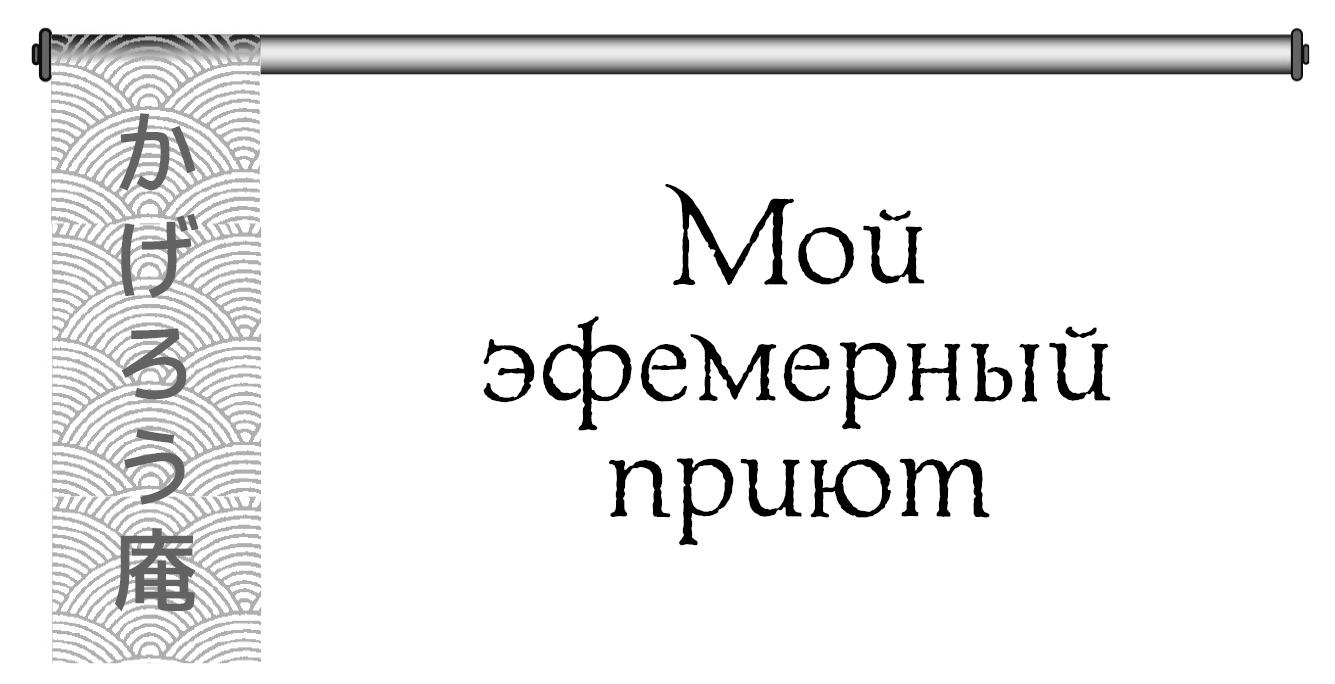
Ныне, мысленно обращаясь к прошлому, я ужасаюсь количеству переведенной мною бумаги. В аду наверняка отведен особый уголок для писак вроде меня. Рядом стоит коробка с моими старыми дневниками; тут же переплетенный сборник моих стихов; вот пачка историй о Гэндзи, относящихся к тому времени, когда они во множестве имелись у самой государыни, а вот целая охапка писем. Я вспоминаю бесчисленные черновики, впоследствии сожженные мною или превращенные в кукольные домики для Катако: на них ушло гораздо больше бумаги, чем то количество, что окружает меня сейчас. Лишь малую часть листов я пустила на благое дело, переписав на их оборотах «Лотосовую сутру»; жизнь моя, без сомнения, уже на исходе, и я не успею в полной мере возместить все то, что потратила зря.
По некой причине, предопределенной моей кармой, я считала необходимым создавать письменные образы всего услышанного и увиденного мною и никогда не довольствовалась самóй жизнью. Жизнь становилась для меня реальностью лишь тогда, когда я облекала ее в рассказы. Однако отчего-то, несмотря на все написанное, истинная природа вещей, которую я пыталась запечатлеть в своих сочинениях, просачивается сквозь слова и крохотными росинками оседает между строк. Невыдуманные истории передают суть вещей даже хуже, чем выдуманные. Когда я листаю дневники, которые вела на протяжении долгих лет, то понимаю: хотя эти записи пробуждают во мне много воспоминаний, любому другому человеку они, вероятно, совершенно ничего не скажут.
Почему же я упрямо верю в то, что должен быть иной способ уловить ускользающий смысл сущего? Из всего мною прочитанного наиболее близок к этому оказался пресловутый «Дневник эфемерной жизни» [5], написанный моей тетушкой, да и то она сосредоточилась лишь на горечи жизни.
Я решила перелистать свои дневники и описать собственную жизнь, включая длительные отношения с принцем Гэндзи. Быть может, обратившись к плоду своего воображения, я наконец сумею немного приблизиться к истине.
Но сможет ли это оправдать всю истраченную мною бумагу?
[5] «Кагэро-никки» — «Дневник эфемерной жизни» (в других переводах «Дневник летучей паутинки» или «Дневник подёнки») — произведение в жанре никки (лирического дневника, как правило женского), созданное в конце Х века писательницей, известной под именем Матери Митицуна (Митицуна-но хаха), второй женой регента Фудзивары Канэиэ, который принадлежал к тому же разветвленному клану, что и автор «Повести о Гэндзи».
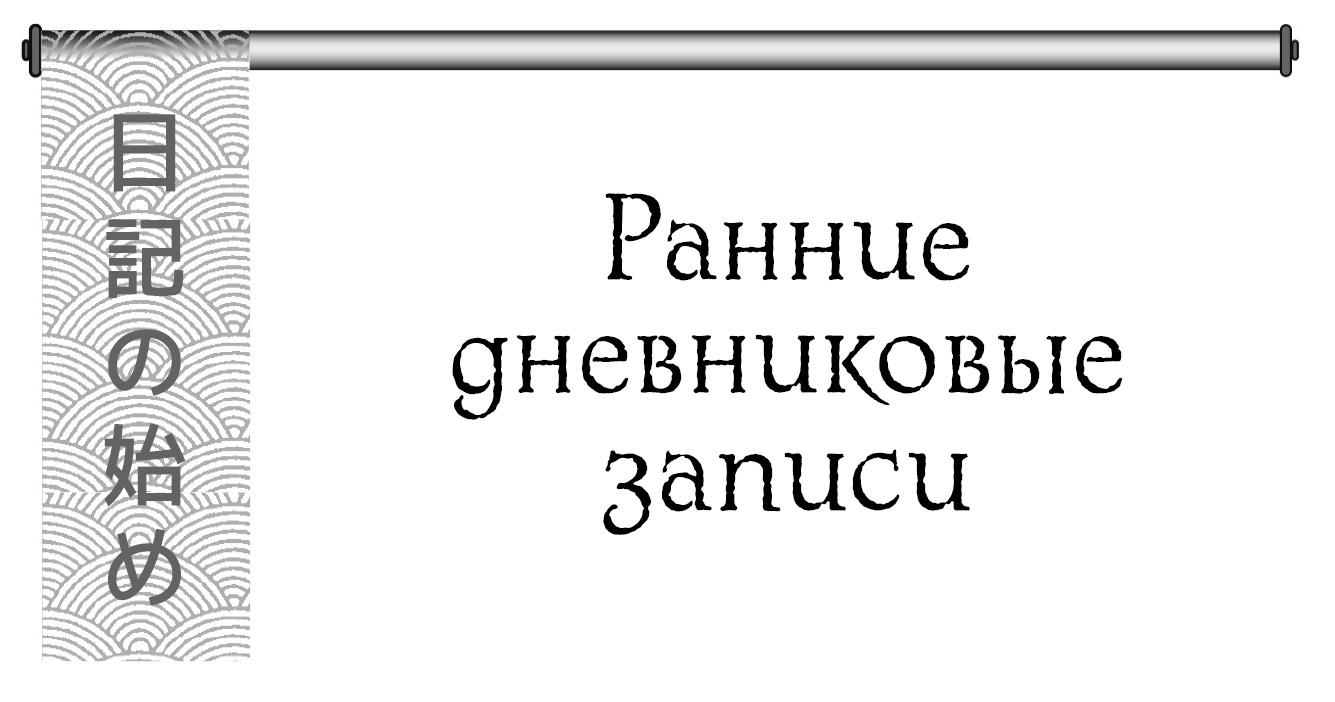
Моя мать умерла, когда мне было пятнадцать лет. Помню, как бабушкин дом захлестнула черная волна монахов, нараспев читавших молитвы; матушка, стеная, металась в предсмертной лихорадке, ее гладкое круглое лицо осунулось, черты его заострились и приобрели землистый оттенок. Поющие монахи, сидя на корточках в главном покое, завывали и щелкали четками, но от их мантр толку было не больше, чем от морской пены. Наконец стало ясно, что матушки больше нет, после чего отец велел монахам умолкнуть. И они снова удалились в свои храмы, откуда их вызвала моя обезумевшая от горя бабушка.
При жизни мать была красивой, но ее мертвое тело выглядело безобразно. Я закрывала глаза, и мне чудилось, будто я сплю, но вот-вот проснусь и увижу, как матушка, сидя перед зеркалом, чернит зубы или наклоняется над горшочком с благовониями, которые перед тем были зарыты в саду, у ручья, для созревания. В течение нескольких дней этот злосчастный сон обрел убедительную осязаемость, а реальные события детства сделались призрачными. Отчетливо помню лишь момент, когда тело матушки предавали огню, ведь именно тогда я внезапно очнулась от оцепенения.
Я наблюдала за столбом дыма, поднимавшимся над погребальным костром. По хмурому небосводу медленно расползалась заря [6]. Люди уже начали расходиться, но мы с отцом, братом и сестрой оставались в экипаже. Носильщики опустили оглобли на камни, вросшие во влажную, пахучую почву, а сами занялись упряжным волом. Сперва из погребального костра вырывались темно-рыжие языки пламени и клубы дыма, но последние несколько часов огня не было, костер только слабо курился, а под конец ввысь поднялась одинокая дымная струя. Я следила на ней взглядом, едва дыша: боялась выдохнуть, чтобы она не исчезла. Этот тонкий столб дыма был последним, что осталось от матушки. Когда он развеется, ее совсем не станет. И я, как и у маминого смертного ложа, затаила дыхание.
Всё. Мглистая серая струйка испарилась. Сердце застучало быстрее, и мне показалось, будто в горле у меня застрял жгучий уголек. Мне невыносимо было думать, что это конец. Но дым заструился опять, притом с новой силой, словно повинуясь моей воле. Я покосилась на младшего брата. Тот заснул с приоткрытым ртом, неуклюже привалившись головой к стенке экипажа. Отец сидел прямо, умышленно избегая смотреть на погребальный костер, и перебирал пальцами сандаловые четки. Он и виду не подал, что заметил, как дым исчез, а затем появился снова.
Пока я наблюдала за воскресшей струей дыма, взошло солнце и наступило утро. Вокруг нас в тесных повозках зашевелились и начали потягиваться люди; эти звуки отвлекли мое внимание, и столб дыма заколебался. Перепугавшись, я вновь направила всю силу воли на дым. «Останься!» — мысленно приказала я ему. Раз костер курится, значит, матушка еще не покинула этот мир. Врата Западного рая распахнулись, и, может быть, сам будда Амида уже наклонился, чтобы вознести ее душу к своему великолепному лотосовому трону — но она еще здесь! От напряжения я ощутила головокружение, а потом страх. Из горла так и рвался крик: «Это выше моих сил! Я больше не могу удерживать тебя!» Мне захотелось, чтобы дым рассеялся прямо сейчас, но сам, не по моей воле.
И дым рассеялся. Матушка перестала быть моей матерью, она превратилась в нечто иное. Я тихонько выдохнула и на несколько минут сосредоточилась на том, как воздух входит мне в легкие и выходит оттуда.
Болотистая равнина, где совершалось сожжение тел, представляла собой сырое, чадное, неизбывно печальное место. Огонь в погребальных кострах поддерживали некие чумазые лохматые существа в рваных обносках. Они лишь отчасти походили на людей. Помню, я удивилась, обнаружив, что у них есть семьи. Вокруг, пугливые, точно лисята, рыскали их дети, и мне показалось, что за крытой тростником хижиной мелькнула какая-то женщина. Мужчины, во всяком случае, умели говорить на нашем языке: я заметила, как один из наших чиновников дал служителю указания и вручил какой-то сверток. Но разобрать, о чем они говорят друг с другом, я не могла. На обратном пути в город отец подтвердил, что они и впрямь люди, но отверженные. «Эти изгои зарабатывают на жизнь, возясь с мертвецами, — сказал он. — Кто-то ведь должен сооружать огромные погребальные костры, которые освобождают души усопших».
Быть преданным огню после смерти — это привилегия. Простолюдинов просто сбрасывают в болота, где те разлагаются, спотыкаясь и падая на своем кармическом пути. Меня поразило существование подобного образа жизни, низводящего человека до уровня животного, и потому я не была изумлена, когда услышала, что именно эти создания дубят шкуры, выделывая из них кожи.
Отец настаивал, чтобы я сочинила стихотворение в память о матери, но, к моему стыду, у меня ничего не получилось. Переживания не порождали в голове никаких образов. Брата извинял слишком малый для стихосложения возраст, а старшая сестра считалась недалекой. В результате ни один из детей не оправдал надежд отца.
Впрочем, я решила завести дневник, ибо поняла, что могу оказывать воздействие на окружающие явления — пусть даже всего лишь на струю дыма. Но даже это заслуживало внимания. Я будто вмиг очнулась от тревожного сна, обретя способность концентрировать волю и некоторым образом влиять на окружающий мир. Казалось необычайно важным сохранить ощущение собственной силы, секрет которой таился в словах.
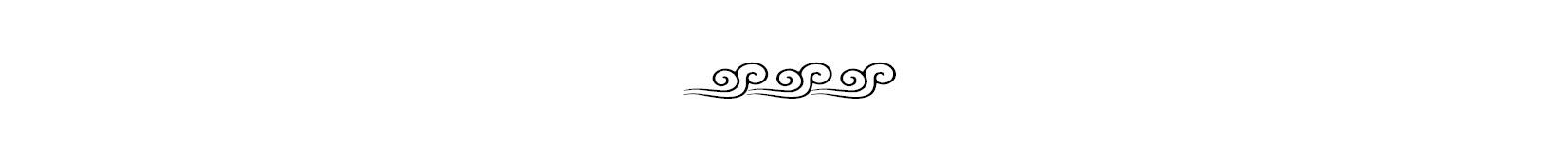
Весной следующего года мы переехали из бабушкиного дома в официальную отцовскую резиденцию близ западного берега реки Камо. Отец начал обучать моего брата Нобунори китайской классической словесности. Нобу исполнилось десять лет, но отец уже думал о грядущей церемонии совершеннолетия. Мысль о том, что брат пострижет волосы и наденет мужские шаровары, смешила меня, но отец проявил благоразумие, рассудив, что его отпрыску потребуется несколько лет на освоение текстов, необходимых для обряда. Брат был недурен собой, но, к глубокой досаде отца, малосообразителен.
Нобу ежеутренне заставляли корпеть над китайским. Я обнаружила, что без усилий заучиваю наизусть все уроки брата, просто слушая монотонную долбежку, доносившуюся из его комнаты. Стоило мне разок взглянуть на текст, как китайские иероглифы сами собой отпечатывались в голове, и я, сев за письменный стол, безо всякого труда воспроизводила их на бумаге. А поскольку грамота давалась мне легко, Нобунори стал меня раздражать. Он был не в состоянии не то что понять, а хотя бы запомнить правила, которым его учили. Однажды я нашла брата в саду: он бубнил себе под нос урок, одновременно ища под листьями ириса жуков-оленей. Каждый раз, когда Нобу запинался, я скрежетала зубами. И наконец, не выдержав, вслух отчеканила трудный отрывок. Нобу поднял на меня глаза, и его чумазую физиономию исказила пренеприятная гримаса.
— Так нечестно! — вспылил он. — Я пожалуюсь отцу.
— Таково уж мое везение, — вздохнул отец. — Как жаль, что моя дочь не родилась мальчиком. Похоже, именно она унаследовала семейные дарования. — Но, заметив, что я слышала его реплику, быстро добавил: — Вопреки расхожему мнению, девочка, родившаяся в ученой семье, — вовсе не беда…
И отец возложил задачу обучения Нобунори китайскому языку на меня. Благодаря этому я получила основательное образование по части классической словесности.
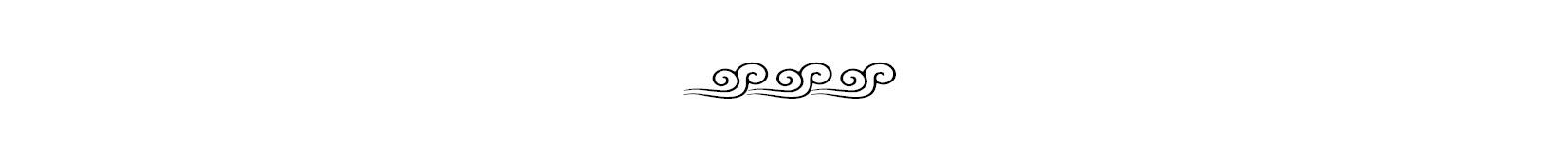
В начале пятого месяца в преддверии празднества Поднесения аира мы с Нобу отправились собирать аямэ [7]. Домой мы с братом вернулись с пучком пахучих листьев для приготовления ароматических шариков и несколькими корневищами для состязания, которое отец устраивал для своих ученых друзей. Он осмотрел длинные бледно-желтые корневища с розоватыми лиственными розетками и густой порослью тонких корней. Мы с Нобу очень радовались, когда наткнулись на корневище длиной почти в шесть ладоней. Отец одобрил нашу находку: длинные корневища предвещают долгую жизнь. В моем детстве аир уже стали выращивать на продажу и в преддверии пятого месяца привозили его в город.
— Прежде бывало куда занятнее, — посетовал отец. — Что толку сравнивать, чьи корневища длиннее, когда стоит лишь выйти на улицу, чтобы тут же купить аир. Впрочем, у лоточников можно отыскать невероятно длинные экземпляры, какие нам самим на болотах ни разу не попадались. Посмотрим, что принесут другие.
Отца, происходившего из ученой семьи, воспитывали в строгости, требуя, чтобы основную часть времени он отдавал занятиям. Раз в год, перед самым началом затяжных дождей, вся семья выезжала в сельскую местность на сбор корневищ аира для состязания, проводившегося в столице. У нашей семьи имелось немного земли, и возделывавшие поля крестьяне отвели под аямэ участок на берегу ручья. Младшим детям разрешалось бродить по скользкому руслу, вытаскивая корневища из ила. Ребятишки возбужденно обшаривали дно в поисках лучших экземпляров, и тот, кто находил самый длинный, получал награду. Дети относили свою добычу в крестьянский дом, который по случаю визита хозяина, явившегося из столицы с особой целью, был убран цветами. Крестьяне смывали с корневищ ил и раскладывали их на досках.
Поэтические состязания были забавой придворных и ученых, а вот конкурсы на самую красивую картину, самую сладкоголосую певчую птицу, самый красивый бонкэй [8] или самое длинное корневище аямэ нравились всем. Очевидно, для отца, который проводил детство среди книг, это была редкая возможность развлечься. Когда он рассказывал нам о соревновании, смакуя приятные воспоминания, нежно лелеемые на протяжении многих лет, глаза у него сияли от удовольствия.
В тот раз мы впервые делали из благоуханных листьев ароматические шарики без матушки. На карнизах дома мы развесили свежий аир, чтобы он уберег нас от нездоровых летних испарений.
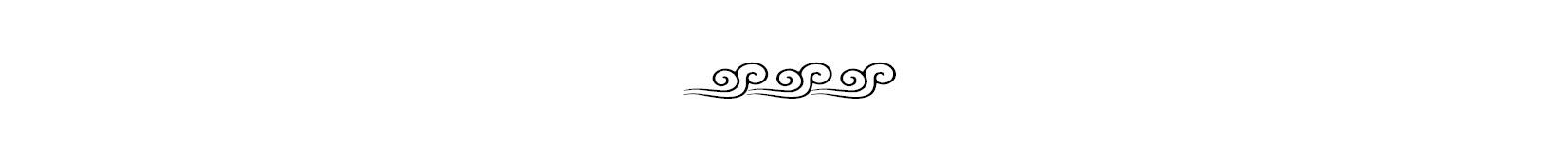
К осени тайфуны один за другим пронеслись по земле свирепыми бурями. В восьмом месяце нам пришлось срочно покинуть наш дом, поскольку Камо вышла из берегов. Вся восточная, низменная часть Мияко [9] была затоплена. Отец позволил нам вернуться, лишь когда слуги выгребли из дома весь ил и речной мусор, однако сам возвратился еще до того, как вода ушла, чтобы попытаться спасти хоть что-то из собрания драгоценных китайских книг. Стоя под яркими солнечными лучами в нашем жалком заиленном саду, я заметила у подножия каменного столба какую-то грязную кучку. Я давно боялась спросить у слуг, не попадалась ли им после наводнения какая-нибудь из наших кошек. Крепко зажмурившись, я сказала себе, что это всего лишь клубок речных водорослей, но когда вновь открыла глаза, то вместо травы увидела спутанную шерстку и оскал крошечных белых зубов. Пока я таращилась на трупик, из-за дома вышел садовник с еще одной кошкой, которая ожесточенно пыталась вырваться. Она неистово выла и царапалась, но мужчина как будто ничего не замечал. Он подхватил животное одной рукой и крепко прижимал к себе.
— Взгляни-ка, юная госпожа, — обратился садовник ко мне, растягивая толстые губы в широкой ухмылке, — кого я нашел на гранатовом дереве!
Пленница выкрутилась из-под его грязной смуглой руки, спрыгнула на слякотную землю и бросилась ко мне. Выяснилось, что это не кошка, а кот. Издали два наших белых китайских кота были неотличимы друг от друга. Я взяла питомца на руки, дивясь, как ему удалось остаться белоснежным, и указала садовнику на несчастное тельце у подножия столба:
— Вон там…
Помню, как стояла, ошарашенная горем и радостью, столь несовместными друг с другом.
[6] В эпоху Хэйан (794–1185), к которой относятся описываемые события, в Японии тела умерших сжигали по ночам.
[9] Столица (яп.), старинное наименование Киото, который во времена Мурасаки официально назывался Хэйан-кё. — Примеч. авт.
[7] Японское название аира, травянистого растения, произрастающего в заболоченных местах.
[8] Миниатюрный пейзаж на подносе, созданный с использованием гальки, песка, живых и засушенных растений.
