автордың кітабын онлайн тегін оқу А дом наш и всех живущих в нем сохрани
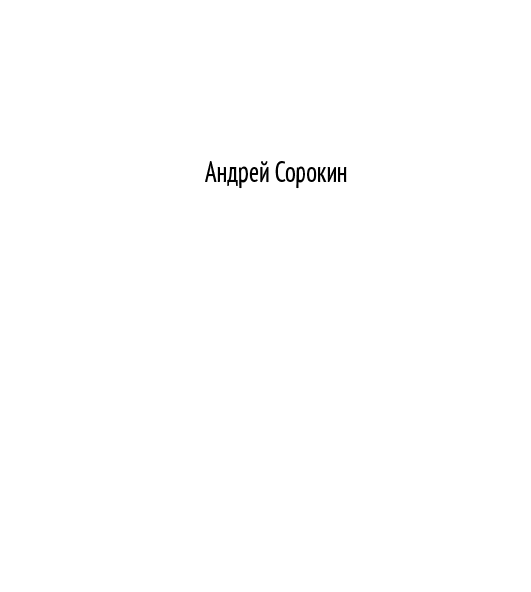
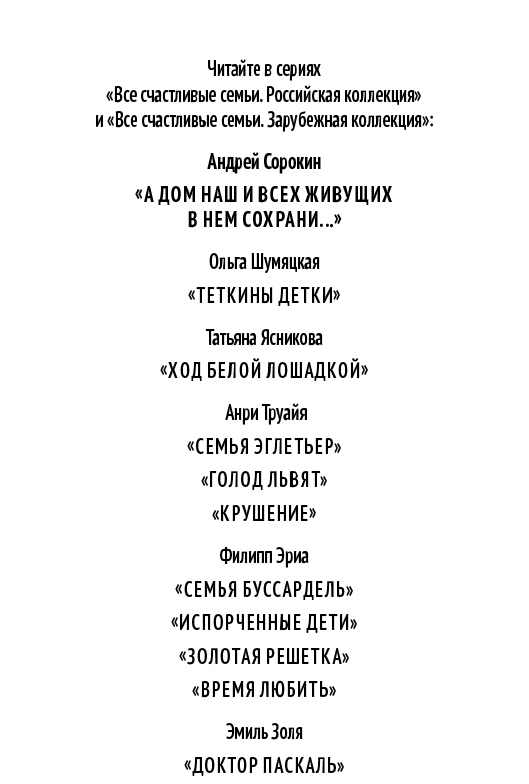

Иллюстрация на обложке Марины Ларченко
Сорокин А.
А дом наш и всех живущих в нем сохрани... : роман / Андрей Сорокин. — М. : Издательство АЗБУКА, 2025. — (Все счастливые семьи. Российская коллекция).
ISBN 978-5-389-31773-4
16+
«А дом наш и всех живущих в нем сохрани…» — удивительная семейная сага, протянувшаяся сквозь века и континенты, о потомках казака Платона Пантелеева, о непримиримой братской вражде, а еще о силе кровных уз и, несомненно, о любви — всепрощающей, жертвенной.
Жизнь казака Платона Пантелеева дала трещину в 1918 году — два сына разошлись по разные стороны революции: Василий ратовал за новый мировой порядок, а Петр оказался в отступающей белой армии. Устав от братской вражды и непримиримости, Платон в сердцах разрывает семейную реликвию — икону-складень со Спасом и Богородицей — и вручает ее части сыновьям.
Спустя сто лет московский студент Флинт приезжает в село Вознесенское, чтобы узнать о прошлом своей семьи, которое давно обросло легендами. Китай и Южная Африка, Аргентина и Америка — где только не пришлось пожить его предкам. Так рассказывал ему отец. Жаль, что уже не спросишь у него, где тут сказка, а где правда.
Флинт, а точнее Платон Пантелеев, еще не знает, что в этом старинном селе суждено соединиться семейному образу и двум ветвям одной разрозненной семьи, к которой он и принадлежит.
© Сорокин А., 2025
© Оформление. ООО «Издательство Азбука», 2025
АЗБУКА®
Глава 1
Россия, с. Вознесенское, 2018 год
Ночи этой осенью были особенно черные. Темнело резко, как будто кто-то задергивал шторы. Ни угасающих красных закатов, ни медленно всплывающих звезд на небе. Раз — и наступала ночь. Еще полчаса назад ты бодро шагал по проезжей дороге, заросшей сухой степной травой, а теперь пробираешься на ощупь, подсвечивая мобильником тропинку между двумя колеями. Когда вдруг показались слепые огни деревушки и редкие фары проезжающих по трассе машин, от сердца отлегло. Глухая тоска сменилась надеждой непонятно на что. По крайней мере, горячего чаю нальют да расскажут, как отсюда выбраться. Кто бы сказал, что в наше время можно заблудиться в полях и лесах? А что делать, если ни одной души в этих краях не встречается, связь не работает, а из дорожных указателей только ржавая вывеска «Совхоз „Светлый путь“», да и та, как будто в насмешку, годах в 90-х загнута вниз и указывает ржавой стрелкой в бурьян. Начал накрапывать мелкий противный осенний дождь. Придорожная «Закусочная» показалась подарком судьбы. Странно, что людей в избе оказалось немало. В сумраке лиц разглядеть нельзя. Табачный дым и гул голосов. Где-то в углу бормочет радио. Небольшой столик в углу у окна оказался свободным. Немного согреться, осмотреться и понять, с кем здесь можно завести разговор.
— А ты думал, что бога за бороду поймал? — Над тарелкой Флинта навис здоровый белобрысый парень в толстовке с надписью «Невада». — Черта лысого ты поймал, братуха!
Флинт старательно жевал кусок непроваренного мяса, он знал, реагировать не надо. Без эмоций, без волнения. Один взгляд за спину, в сторону, на секунду потеряешь бдительность — и тебя растопчут, разотрут в прах. У него был небольшой опыт в дворовых драках, понятно, что здесь в неизвестной обстановке нужно быть в два раза внимательнее.
— Оставь его, дай поесть человеку, — раздался хриплый голос из темноты. Жилистая рука опустилась на стол, Флинт увидел знакомые, расплывчатые от времени синие буквы «Нина». Это был Митяй.
— А что ж ты, брат, в наших краях оказался, а в гости не зашел? — спросил Митяй, наигранно ухмыляясь. — Выпили бы, поговорили, как люди.
— Не успел, да и заблудился я, — сказал Флинт, дожевывая проклятый кусок мяса. — Митяй, ты своих дружков утихомирь. Я тебе плохого ничего не сделал.
— Ты, брат, не мне, ты Матери Божьей навредил, — сквозь зубы процедил Митяй. — За это боженька наш и наказать может. Пойдем на двор, поговорим.
Флинт поднялся с деревянной скамьи и только сейчас увидел пару здоровых мужиков, которые пристально наблюдали за ним из угла, надвинув на глаза потертые цигейковые шапки. Митяй прошел вперед и шагнул в проем двери. За ним — Флинт. Мужик в толстовке «Невада» кашлянул и что-то сказал двум амбалам. Те поднялись и протиснулись в дверь за Флинтом.
В придорожной закусочной он оказался не случайно, ибо все, что с нами происходит, имеет причину. А раз есть причина, будет и последование — Флинт был в этом уверен. Под дождем вся деревня казалась страшной. Хотя еще несколько часов назад это мог быть обычный среднерусский деревенский ландшафт. Несколько избушек, разбросанных вокруг большого оврага, сарайчики, покосившиеся от великой земной тяготы, и за хлипкими заборами из жердей криво протоптанные длинные грядки с чесноком «под зиму».
Село Вознесенское стояло вдалеке от больших дорог. Казалось, что и жизнь здесь идет по каким-то своим странным законам. Иногда время останавливалось, иногда стремилось вперед. Было и такое ощущение, что время ушло куда-то, будто подвисло в вечности, спряталось от тщетного обывательского быта.
С Митяем Флинт познакомился летом, когда решил в одиночку отправиться в приключение на пару дней. Это была одна из множества непонятных его друзьям странностей — на выходные уезжать на велосипеде или электричке по окрестностям. Но тут особый случай. Про Вознесенское говорили всякое. Здесь словно слились воедино все возможные легенды, которыми хвастаются путеводители малых городов. И злобные помещики, и разбойничьи клады, и чудеса, и «леший бродит...». У Флинта была и особая причина добраться в эти края: по семейной легенде, здесь жил прадед. Или прапрадед: зачастую не разберешься, сколько «пра-» нужно вставлять, чтобы четко обозначить родство между поколениями. Про деда мало что известно, события его жизни передавались из поколения в поколение, обрастая каждый раз новыми подробностями, которые то ли придумывались, то ли вспоминались на подсознательном уровне памяти в семье.
Добраться сюда было непросто: сначала электричкой два часа, потом на разбитом маршрутном ПАЗе по проселочным дорогам, а потом пару станций еще пришлось проехать «внутренней» электричкой. Когда-то в этих краях решили построить железную дорогу. Ветку между районами построили, даже депо соорудили. Но затем строительство заморозили, а потом и вовсе отменили за ненадобностью. Местные власти подсуетились и все же пустили по дороге локомотив с тремя вагонами. Пару раз в неделю ходит — всем хватает.
В деревне та встреча и случилась.
— Значит, приезжий, говоришь, — скрипнул мужичок зубами, когда Флинт зашел в сельпо купить хлеба да кусок колбасы для бродячего пса, который увязался за ним от самой станции. — А червонец Митяю на шкалик не добавишь?
Тракторист в замасленной ветровке агрессии не проявлял. Флинту даже интересно было познакомиться с местными. Он сюда затем и приехал, в общем-то, с этнографическими целями.
— Как звать тебя?
— Флинт, — не стесняясь, ответил.
Митяя это мудреное имя не удивило, он, может, и не догадался, что это прозвище. Флинт так Флинт.
— Ты, брат, заходи в гости. Нинка тебя щами накормит, вы, городские, своей худобой всех баб распугаете. И так уж никого не осталось.
Разговорились с Митяем легко. Флинта в обычной жизни с незнакомцами разговаривать не заставишь, а тут будто дал себе волю. Что да как, Митяй? Правду говорят, что в деревне вашей золотишко спрятано? Да про нас, брат, чего только не говорят! У нас тут место силы, чтоб ты понимал. А какая же такая сила у вас, Митяй? А пойдем, покажу!
Так и познакомились.
От магазина до Митяева дома двадцать минут ходу. Сначала по дороге до окраины деревушки, там по тропинке мимо родника, через заросли крапивы. Тропинка ведет сразу к задней калитке. Открыть ее — пара пустяков: поддел засов палкой через щель между досок — и готово. Через огород к дому и придешь. Там еще одна калитка — для двора.
Тогда Флинт и с Нинкой познакомился. Дородная деревенская девка, платок набекрень, а под платком тугая русая коса вокруг головы. Щеки румяные, глаза большие. Родинка на правой щеке. И все время хохочет. Над городским студентом подшутить — милое дело. Худой, хилый, да еще и очкарик. Это вам не брутальный деревенский мужик.
— Пойдем, покажу тебе кое-что, как обещал, — сказал Митяй уже после того, как Нинка устроила ему скандал по поводу шкалика. Поскандалила, успокоилась и посадила гостя за стол. Разговор по-настоящему пошел после того, как выпили «за щи» с Митяем по стакану ядреного деревенского самогона. Шкалик, купленный в магазине, так и остался непочатым, потому что Нинка достала из своих запасов бутыль первача, которую специально для гостей и хранила. Митяй тащил его за руку, а Нинка то и дело спрашивала о всякой ерунде. «А почем у вас это, а за сколько отдадут то?» «А правда, говорят, что у него жена есть? Или врут?» «А она себе операцию сделала или правда такая молодая?» Флинт по части светских новостей был совсем не специалист, поэтому больше улыбался и отвечал невпопад. Так бы и хохотали они с Нинкой под ее первач, если бы Митяй не вскрикнул грубо: «Прекрати, баба!» Нинка обиделась и ушла мыть посуду. А Митяй шатающейся походкой повел Флинта к сараю «показывать силу».
В сарае было темно. В воздухе разносился запах сухих трав, смешанный с чуть слышным запахом навоза.
— Ты не думай, у нас здесь скотины нет, чисто все, — сказал Митяй, заметив, как Флинт прищурился от непривычной обстановки.
— Да не, я это, — не нашелся сразу Флинт. — Травой пахнет. Как на лугу.
— А это я, брат, с травой колдую. От деда научился. Потом покажу, на притолоке у меня целая аптека сушится. А пока — вот.
Митяй смахнул охапку сена в углу, под ней обнаружилась дверца в погреб. Со скрипом хозяин поднял дверцу, присел, пошарил рукой в темноте. Кряхтя, достал сверток. В большом куске серой мешковины лежало что-то тяжелое. Митяй ловко поддел сверток и аккуратно положил перед Флинтом.
— Вот! Силушка наша. Дед говорит, что всю деревню бережет.
— Это что? — спросил Флинт и попытался развернуть хламиду.
— Не трожь! — вскрикнул Митяй. — Я сам.
В хламиду завернуто что-то увесистое, но небольшое, размером с книжку. Флинт даже подумал сначала, что это книга и есть. Но хранить библиотеку в погребе, в хлеву было странно. Митяй аккуратно разворачивал тряпку. Из-под серой хламиды показалась темная доска. На доске едва заметно в темноте проступило лицо.
— Картина, что ли? — осторожно спросил Флинт.
— Сам ты картина, — сказал Митяй шепотом. — Святой образ это.
Флинта тогда будто молния прошибла. Непонятно отчего он такие чувства испытал. Видно, тронулись в горнем мире какие-то сферы, хотя сам он всегда к этому был равнодушен. Голова от тяжелого хмеля начала проясняться. Почти такую же икону на черной доске он видел в квартире бабушки, Марии Петровны, а отец однажды про ту икону сказал «наш образ». Бабушка в церковь ходила редко, а иконы стояли на полке в углу «по традиции». По крайней мере, она так сама говорила. А чтобы не привлекать внимания, закрывала их кремовыми занавесками в тон обоев ее старенькой квартиры. Флинт не помнил, чтобы в ней когда-то делали ремонт, однако квартира всегда выглядела опрятной и чистой. Теперь по воле обстоятельств он в ней хозяйничал.
— Ты чего застыл, как идол забугорный? — ткнул его в бок Митяй.
— Кто? — спросил Флинт, очнувшись, как ото сна.
— Да у нас, за селом, бугор есть в лесу. Там это чудище и стоит! — заржал Митяй. — Ты сейчас на него очень смахиваешь! Ну что, студент? Посмотрел? Давай теперь назад уберем нашу силушку! А то на нее тут много охотников, ходят чуть не каждый день.
— А чего это ты, Митяй, силой ее называешь? — спросил Флинт, окончательно вернувшись с небес на землю.
— Да я тут одну легенду для зевак придумал. Так, сказка... Но старики ее любят. Дескать, образ этот был найден перехожим монахом на запруде. Да был он не один, как сейчас, а двойной. Мол, Спас и Богородица с ним. И силу эта штука давала всем, какую хочешь. — Митяй начал заворачивать икону обратно в хламиду. — Монах, тот понятно, чего хотел: на небо скорее вознестись.
— Он же монах, — решил поддержать разговор Флинт.
— Так в том-то и дело. Монах на небо захотел — и вознесся, как только молитву сотворил. Наше село поэтому Вознесенским и называют. Хотя какое там село, деревня деревней! Ни храма, ни библиотеки!
— Уж больно тебе нужна библиотека-то! — попытался засмеяться Флинт.
— Была бы, так и была бы нужна! — обиженно сказал Митяй. — Не ты один ученый!
Хмель первача действовал на всех по-разному, видимо, по пьяному делу Митяй становился серьезным, порассуждать — для русского мужика святое.
— Так, значит, иконы-то было две, а у тебя одна? — спросил Флинт, возвращая Митяя к рассказу.
— В том-то и дело, что монах в молитве забылся, а Спаса в руках держал крепко. С ним и вознесся, говорят. Теперь он там со Спасом, на небесах, а Божья Матерь с нами. Понял, студент?
— Я-то понял, — сказал Флинт, когда они с Митяем снова сели за стол и Нинка выставила перед ними блюдо с капустными пирогами.
Потом была вечная история с «ты меня уважаешь» и «ты че, краев не видишь». Для Флинта эта внезапная попойка стала первым таким опытом. Он, конечно, бывало, выпивал с друзьями в общаге. Но чтобы заливать каждые пять минут, такого с ним еще не было. Митяй, заметив его колебания, успокоил:
— Не дрейфь, студент, у нас самогонка отличная! Берет крепко, но и отпускает быстро! Будешь как огурчик наутро!
Оставаться до утра в деревне Флинт не планировал. Но в подпитии каких только решений не примешь.
Пока Нинка шуровала с закуской, которая быстро заканчивалась на столе, Митяй рассказал все что мог. Что Степаныч опять задрал с ночными выходами на работу, что совхоз могли бы восстановить, если бы руководство с мозгами было, что кузницу забросили, а ведь эта кузница — самая крутая во всей округе, что сейчас и округи-то никакой нет, потому что все разъехались. И он бы, Митяй, уехал, если бы не хозяйство. Да и на хозяйство ему плевать: Нинка, баба-дура, сама бы со всем справилась...
— Мне другое мешает, понимаешь ты меня или нет?! — спрашивал Митяй Флинта, поднимая на него уже до краев налитые глаза. — Я ж человек от земли! От земли, понимаешь! Мне эти ваши городские выкрутасы не к душе. Вот здесь, — бил он себя в грудь, — вот здесь, студент, земля у меня лежит. В самом сердце!
Флинт, в отличие от Митяя, за дозой следил до поры до времени, старался закусывать жирным салом и горячей картошкой. Но в какой-то момент голова начала гудеть, перед глазами пошли синие круги, язык уже слушался плохо и замутило так сильно, что он на ватных ногах еле-еле доплелся до двери, бросив через плечо: «Я воздухом подышу...»
Выворачивало Флинта долго. Деревенский первач в таких количествах никому на пользу не идет. Мучительно думал о том, как возвращаться домой. Сам себя уговаривал: сейчас отдышусь, продышусь, все будет нормально. После очередного выворота дошел до колодца, благо был недалеко, и стал пить прямо из ржавого ведра, которое одиноко моталось, прикрученное проволокой к вороту. Колодезная вода сначала обожгла, но потом тепло разлилось где-то внутри. Флинт опустился на траву и задремал. Очнулся оттого, что кто-то теребил за плечо. На улице уже стемнело и стало прохладно. Он почувствовал холод, зубы начали стучать. Флинта трясло. Он открыл глаза, перед ним стояла Нинка. Она улыбалась и протягивала стеганую куртку огромного размера.
— Пойдем, студент, чего разлегся здесь? Замерзнешь, а мне отвечать. Слабые вы, городские.
Флинту стало стыдно, картина попойки с трактористом встала перед глазами.
— Я это, если что... Поеду, наверное... Который час сейчас?
— Куда ты поедешь? Из нашей глухомани сейчас только пешком. Куда ты в ночь-то? Пошли, уложу тебя куда-нибудь.
В доме Флинт окончательно пришел в себя только после кружки горячего чая. Они сидели с Нинкой в небольшой кухне, но храп хозяина отчетливо доносился из соседней комнаты.
— Нин, я здорово напился, да? — робко спросил Флинт.
— Бывает и поздоровей. Я тут за два года такого насмотрелась, словами не расскажешь — кино снимать надо. Ты случайно кино не снимаешь?
— Не снимаю. — Флинт поймал себя на мысли, что уже не стесняется хозяйки. Теперь ему как будто уже не нужно было оправдываться, все стало ясно. — А почему за два года?
— Потому что живу с этим боровом уже два года, — Нинка посмотрела в сторону, потом вздохнула. — Зачем, блин, с ним живу, сама не понимаю. Правду, что ли, говорят, что судьба такая.
— Ну не знаю, — сказал Флинт. Он не знал, как поддерживать разговор о нелегкой Нинкиной доле. Да и не хотелось развивать эту тему. — А Митяй того? Спит? — зачем-то спросил он.
— Того. Спит, — ответила Нинка с усмешкой. — Теперь вся эта катавасия продлится дня три. Запойный он.
Богатая закуска со стола исчезла, только кусок ржаного каравая лежал под льняной салфеткой. Флинт оторвал ломоть хлеба и запил горячим чаем.
— А ты откуда здесь вообще взялся? Что тебе в нашей деревне понадобилось?
Флинт начал объяснять свои странности сначала медленно, подбирая слова, потом разошелся, как будто они были знакомы сто лет. Потом рассказал про прадеда, потом они уже вместе начали хохотать над семейными легендами. Нинка налила себе чаю, в комнате потеплело. Со стороны могло показаться, что они старые приятели, давно не виделись и встретились поболтать за жизнь.
Нинка поднялась, включила настольную лампу и погасила верхний свет.
— Так лучше? — спросила, как будто Флинт о чем-то ее просил.
— Ага. — Глаза у него слипались, голову тянуло вниз. Ситуация была неловкая: не мог же он попросить ее уложить его спать. А Нинка будто проверяла его на прочность, пристально смотрела и задавала вопросы.
— А Флинт — это чего такое?
— Ну так, навроде прозвища. Мне пацаны его в универе дали. Я привык уже, кажется, что настоящее имя.
— Мудрено. У нас так собаку бы назвали.
В этот момент, словно почувствовав, что речь зашла о собаках, залаял цепной дворовый пес.
— Пришел, что ли, кто? — спросил Флинт.
Нинка посмотрела в окно:
— Сборщики опять пришли, на ночь глядя. Ой, как надоели они! Повадились, будто им медом здесь намазано.
— Какие еще сборщики? — не понял Флинт.
— Ну барахольщики. Ездят по деревням, собирают всякий хлам. Старые вещи, книги, иконы. — Нинка накинула платок на голову. — Пойду их провожу вон. Митька им на прошлой неделе старую материну машинку продал и пообещал с три короба, вот и ходят теперь. Надоели.
Нинка вышла в сени, Флинт облегченно откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Дело шло к тому, что он просидит с неутомимой хозяйкой до утра. Надо вздремнуть хотя бы минут пять, пока она разбирается с заезжими старьевщиками.
Проснувшись, он сначала не мог понять, где находится. Нинка спала рядом, обняв его мягкой рукой. В окне едва занимался рассвет, но еще светила луна, Флинт увидел, как Нинка улыбается во сне. Она была в ночной рубашке, а ее полная грудь упиралась ему в плечо. Он осторожно поднялся на руках. Джинсы и майка были аккуратно сложены тут же, на стуле. «Сколько же сейчас времени? — подумал Флинт. — Часа четыре уже есть?» Оделся, прошел в кухню, где-то здесь должен быть рюкзачок с вещами. Вот он, вроде все на месте. Бесшумно на цыпочках пошел в прихожую, но тут за спиной раздался Нинкин голос:
— Там, на столе, я пирожки с утра разогрела. Возьми, в дороге съешь, студент. Пса я со двора увела, не боись, — а потом как-то мягче, даже с улыбкой: — Хороший ты какой!
— Спасибо, — растерянно сказал Флинт. Взял со стола теплый сверток и хлопнул дверью.
Та летняя поездка в Вознесенское ему запомнилась хорошо. Флинт потом полдня медитировал, чтобы восстановить ее по минутам. Сельпо, Митяй, ночь с Нинкой. Что же между ними было? Этот вопрос ему покоя не давал, ну не помнил он ничегошеньки, что было с момента, когда он заснул за столом, а проснулся в постели с хозяйкой. Словно вырубили у него память именно на этом месте. «И стыдиться вроде нечего, не было повода», — уговаривал себя Флинт.
Зато старика он запомнил хорошо. В планах-то было дойти до станции и на первой же «внутренней» электричке уехать из Вознесенского поскорее. Но случилась встреча со странным стариком. Тот караулил Флинта на станции, в маленьком зале ожидания. В ранний час там не должно быть ни души. Ну кому приспичит в пять утра ехать из Вознесенского в город? Флинт сначала подумал, что и станция-то закрыта. А когда подошел, увидел, что дверь настежь, а в зале, на одном из стоявших в ряд казенных стульев, обитых вытертым дерматином, сидит старик с длинной седой бородой. Старый серый пиджак с заплатами на рукавах. Белая рубашка, видно, что стиранная миллион раз, потрепанная, но чистая. Черные брюки заправлены в сапоги. Старик опирался на суковатую, отполированную ладонями крепкую палку. Рядом стояла небольшая сумка, из нее выглядывал газетный сверток. На коленях старик держал помятую шляпу.
— Здрасьте, — сказал Флинт только потому, что нужно было что-то сказать. Старик смотрел пристально и даже кивнул головой, когда Флинт подошел ближе.
— Добре, — сказал старик тихо.
— А электричка будет сегодня? — спросил Флинт, подчиняясь скорее желанию не что-то узнать, а как-то заполнить глухую тишину станции.
— Будет, — старик вздохнул, но глаз с Флинта не спускал.
Тишина оглушала Флинта. Теперь началась его битва с этой тягостной атмосферой. В горле начало першить. Он откашлялся и спросил:
— А мы с вами одни поедем? Что-то больше нет никого...
— А никого и нет, — опять коротко сказал старик, четко отбивая его словесную подачу.
— Гм... — Флинт чувствовал, что диалог вязнет. Старик явно чего-то ждал, а Флинт не понимал, что он должен сделать. — У меня вот пирожки, угощайтесь!
— Чей будешь? — спросил старик, словно не услышал приглашения к трапезе.
— В смысле чей? — не понял Флинт и развернул сверток с пирожками. — Угощайтесь!
— Пантелеевых вроде. Видно породу, — пробормотал старик, как будто про себя.
— А во сколько электричка, вы не знаете? — Флинт решил, что надо быть смелее. — А то, может, полдня просидим здесь.
— Без тебя не уедет, — усмехнулся старик в бороду. — Время еще есть, прогуляйся вон. Воздухом подыши. На погост зайди, поклонись, чего попросту сидеть здесь. — Старик кивнул в окно.
Флинт только сейчас заметил, что неподалеку от станции разрушенный храм. Ни вчера, ни сегодня он его увидеть не мог — шел с другой стороны. Церковь была кладбищенской, из-за поваленной ограды торчали старые кресты.
— А пожалуй, и прогуляюсь, — сказал Флинт старику. — Как электричка подойдет, я же ее услышу?
То была странная прогулка по развалинам, прежде Флинту по кладбищам гулять не приходилось. Эмоций масса: от ощущения полнейшей жути до священного преклонения перед несколькими поколениями села, которые нашли здесь приют. Некоторые надгробия были каменными, но прочитать, что на них написано, оказалось невозможно. Надписи поросли мхом или стерлись от времени, дождя и ветра. В развалинах храма жили вороны, время от времени карканье нарушало гармонию. На стенах едва-едва проступали изображения. В храме было тихо, но это была другая тишина, не та, что глушила его на железнодорожной станции. Эту тишину нарушать не хотелось. Ее хотелось слушать, как будто в ней закодировано все то древнее время, которое постичь невозможно никакими органами чувств. Только каким-то особым внутренним слухом сердца. Казалось, что он здесь не один. Ощущение это было физическим. Он молчал, боясь спугнуть происходившее вокруг него действие. Действие невидимое и непонятное, но в том, что оно было, сомневаться не приходилось. Хотелось принять участие в происходящем, но как? Никаких молитв он не знал, да и вообще был далек от непонятной церковной жизни, казавшейся ему нелепой суетой. Сейчас он думал не об этом: сопричастность действу, времени и предкам, которые когда-то стояли здесь, на этом самом месте (а где им еще стоять?), окутывала его тайной.
На станцию вернулся, услышав гудок электрички. Старика в сером пиджаке в зале ожидания уже не было. Там вообще не было никого. Сонная тетка в оранжевом жилете продала ему билет, махнула флажком, и электричка запыхтела. В зале ожидания он забыл сверток с пирожками. «Забыл — значит, придется вернуться», — пошутил Флинт сам с собой.
Вернулся он в Вознесенское уже осенью.
Погода была дрянь. Дрянное дело обещала ему и теперешняя встреча с Митяем и его компанией в придорожной закусочной. Взгляды пары амбалов исподлобья из темного угла и жесткий тон белобрысого в толстовке «Невада» ясно говорили о том, что ничего хорошего не светит. Делая шаг в проем двери за Митяем, Флинт ясно понимал, что его единственное спасение — бегство. На улице лил дождь. Митяй зашел под навес на заднем дворе и обернулся.
— Рассказывай, студент... — процедил он, не вынимая сигарету изо рта.
Флинт быстро оценил обстановку. Если бежать, то только вон в ту щель, между сараем и забором. Там — он заметил, когда сюда шел, — овраг. Нырнуть туда, потом будет видно, куда дальше.
— Да нечего мне рассказывать, Митяй, — сказал он, отслеживая каждое движение противника. Так учил друг Леха. Не расслабляйся. Дыши ровно. Будь внимательнее.
Удар он не пропустил. Митяй, хоть и был на полголовы выше, дрался по-деревенски, с широким размахом. Флинт успел пригнуться и коротким движением ударить в «солнышко». Митяй согнулся пополам, потому что дыхалку ему явно перехватило. Пока амбалы сзади опомнились, разобрались, что к чему, Флинт уже протискивался в щель у стены сарая. В темень, в дождь за ним, конечно, никто не побежал.
Через час, мокрый и грязный, он уже ехал на попутном дальнобое до города, рассказывая анекдоты водителю Коляну. Колян сказал: «Пацан, вижу, что денег с тебя не взять, но за это будешь рассказывать мне анекдоты, чтоб не уснуть! Да повеселей выбирай!» Флинт удивил сам себя: два с половиной часа рассказывал Коляну веселые истории из студенческой жизни. Все, которые знал.
Глава 2
ЮАР, Капстад, 1938 год
Закат был таким же красным, как борщ у бабушки Матрены. В Капстаде такие закаты каждый день. Странно, что Юджин начал замечать их только теперь, когда ему исполнилось восемнадцать и отец торжественно заявил на трапезе после службы, что пора ему узнать историю предков. Как будто он чего-то не знал.
Знать — знал, но исторической родины своей не видел. Он родился в Капстаде, в тот самый год, когда родители, навьюченные узлами, бежали из страны. Впрочем, к тому времени они бежали уже давно. Сначала в Шанхай, потому что в стране побеждающей революции отца, белогвардейского офицера, неминуемо ждала какая-нибудь статья по контрреволюционному заговору и расстрел в ближайшем яре. Иногда он слушал разговоры старших: выходило, что тех, кто всем своим существованием мешал становлению молодой советской республики, в какой-то момент даже перестали далеко отвозить. На окраине города, в лесу отправляли к праотцам. Хорошо, если давали перед смертью покурить и помолиться, а то второпях могли и без молитвы порешить.
С точки зрения Советов, расстрелять было за что. Отец и его офицерское собрание ну никак не могли примириться с новой властью, разрушившей до основанья не только барские усадьбы, но и все веками складывающиеся устои. Они ненавидели Советы, Советы ненавидели их. Кто-то кого-то должен убрать, таков закон. Юджин даже здесь, в Капстаде, познал это на себе. Когда они, «общинные шкеты», регулярно дрались с местными, черными. Негры боялись белых еще со времен бурской войны, но иногда выходили на открытые стычки. Это голландцы здесь укрепили свои права, а русские эмигранты еще не успели обосноваться. Родители были людьми по большей части интеллигентными, берегли свою хваленую интеллигентность как могли. Поклоны, этикет, реверансы. Детям приходилось отстаивать свои права с кулаками. Священник, отец Арсений, конечно, ругал мальчишек, регулярно собирал и внушал, что так нельзя, что у Бога нет ни иудея, ни эллина, а все они в Африке гости и наступит тот час, когда Божья справедливость восстановится, Суд свершится и они уедут домой, на родину предков. В Россию. Но пока заканчивался 1938 год, после переворота прошло двадцать лет, а в Советской России их никто не ждал.
С точки зрения отца, советская власть была настоящим отражением геенны огненной. Теперь уже известно, что сначала где-то на Урале расстреляли царя. Захватили дворянские гнезда. Разрушили армию и флот. Потомки полоумных пьяных матросов, солдат и крестьян теперь вершат суд и порядок. Интеллигенцию провозгласили дармоедами, крестьян сгоняют в колхозы, заставляя работать на чужой земле. Пообещали народу манну небесную. Только откуда она посыплется, не сказали.
У Юджина было три желания.
Первое — когда-нибудь все-таки посмотреть на Россию. Говорят, что на Рождество там снег. Чудно! Снег на Рождество! В Капстаде снег выпадал, но это все не то, что он видел на русских картинах в книгах у отца Арсения. Так, чтобы все вокруг было белым-бело! Это даже представить странно — все белое в черной стране! Юджин закрыл глаза и на минутку перенесся в необыкновенное видение. Вот потеха! Да здесь люди — и те черные! Солнце жарит так, что порой кажется, расплавятся камни. Если бы не океанские ветры со стороны мыса, здесь была бы выжженная земля. Кажется, Блока — про снег — отец любил цитировать:
Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всем божьем свете!
Завивает ветер
Белый снежок.
Под снежком — ледок.
Скользко, тяжко,
Всякий ходок
Скользит — ах, бедняжка!
Это Блок написал в восемнадцатом году. Наверное, то был последний год, когда отец взял в руки скрипку. Иногда он рассказывал о том времени в России. По большей части рассказы были грустными. Глаза его наполнялись слезами, голос начинал хрипеть. За все восемнадцать лет жизни Юджин ни разу не слышал какого-либо внятного финала его рассказов. Скрипку отец едва не продал еще в Шанхае, когда, чтобы не сойти с ума и заработать на хлеб, попробовал поиграть в ресторане. В тот вечер он пил очень много. Молодой русский офицер — изгнанник на чужбине — играет черт знает для кого! Поначалу признаться в том, что это нужно для выживания, он не мог. Сам себе не мог этого сказать, язык не поворачивался, мозг отказывался понимать происходящее. В вечерних ресторанах русских кварталов офицерское собрание клеймило Советы и поднимало тосты за скорейший крах большевиков. Крах не пришел. Даже наоборот, судя по редко приходившим новостям с севера, большевики процветали. А белая кость, благородные аристократы были вынуждены вместо изящных галстуков завязывать узлы, собирая скарб. Вместо лихих шашек сжимать от злости кулаки. Отец же сжимал деку скрипки, и вечерами она плакала душистыми гроздьями белых акаций. Когда родители перебирались из Шанхая в Кейптаун, Юджин перебирался вместе с ними. Очевидно, он в животе матери уже смирился с тяготами изгнания, приправленными солеными океанскими волнами. России он не видел никогда, но всегда ее чувствовал. В разговорах взрослых, когда те собирались по вечерам в их просторном доме. В молитвенных песнопениях отца Арсения. В иконах, которые скитальцы везли с собой из того самого заснеженного блоковского Петрограда. В русском языке, который для Юджина звучал таинственно и витиевато. Русский был для него родным по родителям, хотя в своей обычной жизни он легко говорил и на английском, и на французском, и даже на африкаанс. В его голове жила такая мешанина из слов, что он даже не задумывался, на каком языке говорил. Когда общаешься с людьми, главное — объясниться, и слова приходят сами собой. И только дома говорили исключительно на языке России.
Скрипку отец тоже сохранил. Удивительно, что за все эти годы скитаний она уцелела. Царапина на обечайке за повреждение не считалась. На пароходе подвыпивший матрос прижал тюк с вещами, уплотняя пассажирский багаж. Отец тогда вспылил: «Просил же поаккуратней!» — но матрос грубо дал отпор: «Не вы одни, Ваше Благородие, из России бежите! Всем уместиться нужно!» В прежние времена матросы с офицерами таким тоном не разговаривали. Отец смолчал, хотя мог бы отправить хама на перевоспитание на гауптвахту. Но правда была на стороне матроса.
В Капстаде русским пришлось держаться вместе. Голландцы, потомки буров, странным образом еще помнили заслуги русских авантюристов в их незавершенных войнах с британцами, поэтому русских изгнанников приютили, помогли как смогли. Осваиваться было трудно. Особенно Юджину с отцом. И с этими трудностями связано его второе желание. Увы, неосуществимое.
Ему было два года, когда мать умерла. Переезды, болезни, климат — чего-то из этого набора вынужденных переселенцев не выдержала ее душа. Она ушла тихо, взяв маленького Юджина за руку и произнеся его русское имя — Евгений. Он, конечно, не помнил, как это было. Что остается в памяти двухлетнего малыша? Где прячутся все эти яркие беззаботные воспоминания? В какой момент жизни они высветятся яркой вспышкой перед глазами, этого не знает никто. Няня Матрена рассказывала Юджину о тех, первых, нелегких годах их жизни в Капстаде. И как уходила мать, и как отец всю ночь в забытьи проплакал перед иконой Спаса, и как похоронили ее под православным крестом на протестантском кладбище.
Пожилая нянька стала ему матерью на оставшиеся годы. Кем она приходилась отцу, состояла ли с ним в родстве или заменила хозяйку дома, Юджин не задумывался до этого момента. А теперь стало интересно: кто она? Случайных людей в общине не было, это точно. Каждый приезжий прижимался к своим, как камни в стене. Если и были какие-то несогласия и трения, общими усилиями их быстро гасили. На чужбине не до конфликтов. Тем более что среди черных есть те, кто только и ждет раздоров среди колонистов.
Чем старше Юджин становился, тем чаще накатывала на него необъяснимая тоска по матери, которой не помнил. Не помнил, но знал. В этом сомневаться не приходилось. Он чувствовал связь с ней на уровне невидимых токов. Когда рассматривал пару уцелевших, пожелтевших от времени фотографий. На одной из них отец, бравый офицер, картинно стоит, преклонив одно колено перед прекрасной точеной барышней. Ему ведь было почти столько же лет, сколько Юджину сейчас. С букетом наперевес, он предлагает матери руку и сердце. В глазах — огонь, усы лихо подкручены. Сколько же времени ему пришлось так стоять в фотоателье, чтобы фотограф с магниевой вспышкой смог навсегда запечатлеть эту широкую улыбку безмятежного времени!
В этом было его невыполнимое желание: увидеть мать, поговорить с ней, опустить голову на плечо и посоветоваться о самом главном.
Самое главное умещалось в его третьем желании. О том, что это главное, сказал отец Арсений, только с ним Юджин смог поделиться. Старый священник посоветовал еще хорошенько подумать. Но любовь оказалась сильнее разума...
Лет до двенадцати он почти не выходил за пределы общины. Круг русских эмигрантов замкнут в любой стране. А здесь, под солнцем Южной Африки, тем более. На краю Капстада жилось ему неплохо, всего хватало. Иногда они делали вылазки с друзьями в большой город, и каждый раз такие прогулки не обходились без драк с черными. Особенно нагло вел себя долговязый Чака. Как его звали на самом деле, никто не знал. Он называл себя так, чтобы быть похожим на легендарного зулусского вождя. Чаку почитали даже те, кто был мало знаком с африканской историей. Для местных Чака был непререкаемым авторитетом, захватывал земли, обучал воинов, третировал всех, кто попадался под руку, правда, кончил плохо: убил тирана его сводный брат.
В Южной Африке всегда жило много племен, но зулусы считались основными. Ни племена ба́нту, ни свати, ни ндебе́ле не претендовали на этот титул. Возможно, еще националисты рода ко́са [1] могли бы заявить о своем верховенстве. Ведь именно воины коса были отважными защитниками южной оконечности Африки, когда в начале XIX века не побоялись воевать с англичанами. История была захватывающая.
В войске коса, которое притеснялось британцами, явился очередной пророк — Нкселе, что на местном диалекте означало «левша». Лихач стал убеждать соплеменников, что в него вселился Великий дух и он приказывает собраться парням и отомстить за все их обиды. Дескать, Великий дух посылает их в бой с белыми, а в помощь дает им духов умерших предков. Приказано гнать захватчиков обратно в море, а затем разрешается сесть на землю и не торопясь вкушать мед. В русской общине этих африканских коса сразу прозвали «косарями». Так лучше на язык ложилось, да и вообще было что-то общее у них с русскими и в безудержной храбрости, и в вечном противостоянии с англичанами. «Косарям» в тот год не повезло. Разве могли они со своими копьями и луками противостоять английским пристрелянным ружьям? Так и шли, несчастные, голой грудью на смерть под ритмы своих барабанов.
В русскую общину часто приходил старый голландец, школьный учитель господин Янсен. Он-то и рассказывал мальчишкам про африканскую историю. Больше всего их, конечно, поразил Чака, хоть и был он деспотом и тираном. Даже жаль было, что черный задира назвался этим именем. Чака для всех черных африканцев стал символом борьбы. А для зулусов слыл настоящей иконой. Им всегда не везло на своей земле. Сначала пришли голландцы и захватили себе самые «вкусные» земли с алмазами. Мореходы из Амстердама назвали себя бурами и стали жить, претендуя на статус отдельной трудолюбивой нации. После них пришли англичане: этим всегда казалось, что они хозяева мира. Буры решили посопротивляться. Войны были страшные, а местные африканцы смотрели со стороны и удивлялись: к ним пришли белые, чтобы воевать на чужой земле друг с другом.
Истории господина Янсена слушать было забавно. Он даже про самые кровопролитные сражения рассказывал, как про события в богатырских сказках. Только богатырями в его сказках становились буры, англичане — страшным драконом, а черные — той самой принцессой, которой все равно к кому идти, только бы перестали мечами махать. Размахивать мечами и меряться пушками быстро перестали в пользу англичан. Но буры никогда не признавали поражения. Русские общинники научили Янсена своей знаменитой песне «Трансвааль, ты весь в огне!» [2]. Иногда во время занятий он ходил между рядами и вполголоса по-русски напевал:
Настал, настал тяжелый час
Для родины моей,
Молитесь, женщины, за нас,
За наших сыновей.
Получалось с акцентом, очень смешно. Женщины у него были «женжчины», и каждый раз мальчишки передразнивали его, рекомендуя писать стихи на близкие рифмы «женжчины — мужчины». Общинный священник отец Арсений взялся обучать голландца русскому языку, и вечерами они часами обсуждали англо-бурские войны. Учитель Янсен водил их на кладбище, где вместе с бурами были похоронены русские добровольцы [3]. Юджин, чувствуя эфемерную связь с Россией, нисколько не удивлялся, что здесь, на краю земли, покоились русские кости. Как же еще могли поступить смельчаки в далеком Петербурге, если не сорваться на помощь братьям-бурам? Он бы тоже так поступил, ясно же: где нужна помощь, туда Господь и ведет.
Юджин с друзьями быстро сошелся с бурскими сверстниками, они играли в бабки и салки, дразнили друг друга и коверкали языки. Иногда ходили на берега драться с черными, но это дело Юджину быстро надоело. Тем более что уловки самозваного Чаки он давно изучил. Тот, поняв, что русских ни прогнать, ни победить не удается, тихо исчез, но, по слухам, ненависть к «захватчикам» унять не смог.
Через господина Янсена «русские шкеты» попали в деревню к гриква. Там у Юджина и родилось третье желание. Гриквасами в Капстаде называли потомков белых буров и черных готтентотов. Видимо, сам воздух в Африке был таков, что едва ли не каждая ветвь человечества норовила здесь обратиться в самостоятельный независимый народ. Позабыв об общих предках — вольнолюбивых бурах и бесправных черных рабах, — гриква жили отдельными деревнями. Юджин потом не раз ловил себя на мысли, как на этой з
