Посвящается Дженни Аглоу
автордың кітабын онлайн тегін оқу Детская книга
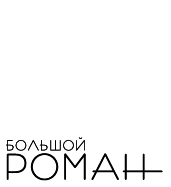
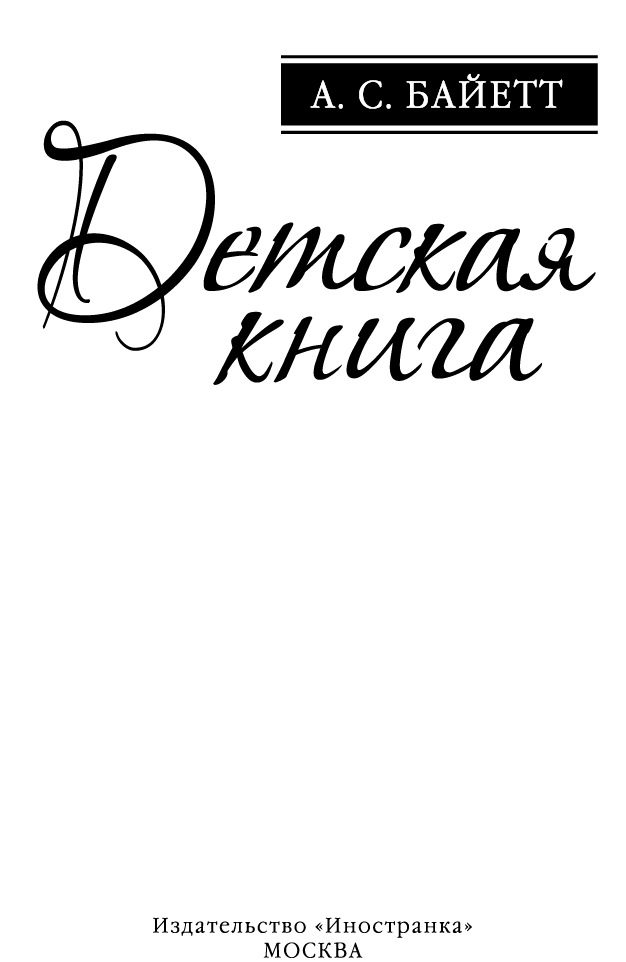
A. S. Byatt
THE CHILDREN’S BOOK
Copyright © 2009 by A. S. Byatt
All rights reserved
Перевод с английского Татьяны Боровиковой
Оформление обложки Ильи Кучмы
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
Байетт А. С.
Детская книга : роман / А. С. Байетт ; пер. с англ. Т. Боровиковой. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2016. (Большой роман).
ISBN 978-5-389-12091-4
16+
От автора удостоенного Букеровской премии романа «Обладать» и кавалерственной дамы ордена Британской империи — столь же масштабный труд, хроника жизни нескольких семей на рубеже веков. В этом многослойном произведении с невероятным тщанием воспроизводится жизнь, которую перечеркнет Первая мировая война. Подобно Прусту в его эпопее «В поисках утраченного времени» или Голсуорси в «Саге о Форсайтах», Байетт удивительно подробно описывает время, утраченное уже навсегда: и костюмированный праздник в усадьбе, и всемирную выставку в Париже, и секреты прикладного искусства, и сложные повороты любовных отношений…
© Т. Боровикова, перевод, примечания, 2016
© Д. Никонова, перевод стихов, 2016
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2016
Издательство ИНОСТРАНКА®
I.
Начала
1
На Галерее принца-консорта стояли два мальчика и смотрели вниз на третьего. Было 19 июня 1895 года. Принц-консорт умер в 1861 году. Он успел увидеть лишь начало задуманного им огромного проекта по созданию группы музеев, в которых британские мастера могли бы изучать лучшие образцы декоративно-прикладного искусства. Мозаичный портрет принца — скромного, увешанного медалями — красовался на тимпане декоративной арки в одном конце узкой галереи, висящей над Южным двориком. В самом Южном дворике было еще больше мозаик — портреты художников, скульпторов, гончаров, «Кенсингтонская Валгалла». Третий мальчик сидел на корточках у одной из внушительных стеклянных витрин с золотыми и серебряными сокровищами. Том, младший из двух наблюдателей, подумал про Спящую красавицу в стеклянном гробу. Он поднял взгляд на портрет Альберта и подумал, что сосуды, ложки, ларцы, сверкающие в жидком свете под стеклом, — словно клад, найденный в царской гробнице. (Действительно, некоторые из них оттуда и взялись.) Третьего мальчика было нелегко разглядеть, потому что он был по другую сторону витрины. Кажется, он рисовал ее содержимое.
Джулиан Кейн чувствовал себя в Южно-Кенсингтонском музее как дома. Отец Джулиана, майор Проспер Кейн, занимал в музее должность особого хранителя драгоценных металлов. Джулиану только что исполнилось пятнадцать лет. Он, пансионер школы Марло, сейчас жил дома, оправляясь после тяжелой болезни: он только что переболел желтухой. Он был среднего роста, хрупкого сложения, с резкими чертами лица и желтоватой (даже до болезни) кожей. Прямые черные волосы он разделял на прямой пробор. Одет он был в школьный форменный костюм. Том Уэллвуд, двумя годами моложе Джулиана, в куртке с поясом и в бриджах смотрелся совсем мальчиком. У него были большие темные глаза, мягкий рот и гладкие темно-золотые волосы. Мальчики только что познакомились. Мать Тома приехала с визитом к отцу Джулиана — ей нужна была помощь, кое-какие сведения для ее работы: она писала сказки, которые пользовались успехом у читателей. Джулиана отрядили показать Тому сокровища. Но, кажется, Джулиану гораздо сильнее хотелось продемонстрировать сидящего на корточках мальчика.
— Я же говорил, что покажу тебе загадку.
— А я думал, ты имел в виду что-то из сокровищ.
— Нет, я про него говорил. С ним что-то нечисто. Я за ним давно приглядываю. Он что-то затевает.
Том подумал, не фантазии ли это, сродни тем, какими увлекались и в его семье, — его родные иногда принимались следить за совершенно незнакомыми людьми и сочинять про них всякие истории. Он подумал: может, Джулиан решил, если можно так выразиться, поиграть в зорких стражей.
— А что он делает?
— Фокус индийского факира. Он исчезает. Вот он есть, а вот его нет. Он появляется каждый день. Сам по себе. Но куда и когда он исчезает — увидеть невозможно.
Они крались по галерее, увешанной бордовыми бархатными занавесями. Здесь были выставлены разные вещи из кованого железа. Третий мальчик не двигался с места и продолжал упорно рисовать. Потом немного передвинулся, чтобы смотреть под другим углом. Мальчик был оборванный и грязный, с копной соломенных волос, в брюках, словно снятых с заводского рабочего, на подтяжках, с обрезанными штанинами и во фланелевой рубашке цвета дыма, покрытой пятнами сажи. Джулиан сказал:
— Давай пойдем туда и выследим его. С ним точно что-то нечисто. Он с виду совсем из простых. И еще он, кажется, никуда отсюда не уходит. Я ждал у выхода, чтобы пойти за ним следом и посмотреть, куда он пойдет, но он как будто и не уходил вовсе. Можно подумать, он тут живет.
Мальчик на миг поднял чумазое, наморщенное хмурое лицо.
— Он сосредотачивается, — сказал Том.
— Я никогда не видел, чтоб он с кем-нибудь говорил. Студентки из Школы искусств иногда с ним заговаривают, но я ни разу не видел, чтобы он с ними болтал. Он только прячется по углам. Что-то в нем есть такое зловещее.
— Вас часто обкрадывают?
— Отец все время говорит, что смотрители музея преступно неосторожны с ключами. А ведь тут всюду кучи, горы вещей лежат просто так — ждут, когда их занесут в каталоги или отправят в Бетнал-Грин. Ничего не стоит сунуть что-нибудь в карман и улизнуть. Я даже не знаю, заметит ли кто-нибудь. Смотря что взять, конечно, — если кто-нибудь стащит Глостерский канделябр, думаю, это быстро заметят.
— Канделябр?
— Да, Глостерский канделябр. То, что этот мальчишка все время рисует. Вон та здоровая золотая штуковина посреди витрины. Он древний, и другого такого нет. Я тебе покажу. Мы можем спуститься, подойти в тот зал и пугнуть мальчишку.
Тома мучили сомнения. В третьем мальчике было какое-то напряжение, непонятная упрямая энергия, готовность ко всему — Том даже не отдавал себе отчета, что он это почувствовал. Но он согласился. Он обычно на все соглашался. Они двинулись в путь, крадучись, подобно сыщикам, короткими перебежками под прикрытием бордовых бархатных занавесей. Мальчики прошли под портретом Альберта, по лестнице, сворачивающей под углом, вниз, в Южный дворик. Но когда они дошли до Глостерского канделябра, чумазого мальчишки там уже не было.
— Он не проходил по лестнице, — произнес Джулиан, охваченный азартом.
Том остановился, не в силах оторвать глаз от подсвечника. Подсвечник был тускло-золотой, тяжелый с виду. Он стоял на трех ногах, каждая в виде длинноухого дракона, зажавшего свирепыми когтями кость и грызущего ее острыми зубами. Край шипастой чаши, куда вставлялась свеча, тоже поддерживали драконы с разверстой пастью, с крыльями, со змеящимися хвостами. Толстый центральный стержень образовали сплетенные фантастические листья и ветви, в которых люди и монстры, кентавры и мартышки извивались, ухмылялись, гримасничали, хватали и разили друг друга. Гномообразное существо в шлеме, с огромными глазами, цеплялось за извилистый хвост рептилии. Были тут и другие люди или кобольды, особенно выделялся один, с длинными вислыми волосами и скорбным взглядом. Том немедленно решил, что нужно показать подсвечник матери. Он попытался запомнить фигуры, но не преуспел. Джулиан принялся читать лекцию. Он сказал, что у подсвечника интересная история. Никто не знает точно, из чего он. Какой-то золотой сплав. Вероятно, место изготовления — Кентербери, там сделали форму из воска, а потом отливку, но за исключением символов евангелистов на центральном утолщении, по-видимому, подсвечник не задумывался как религиозная утварь. Потом он оказался в Ле-Манском соборе, откуда пропал во время французской революции. Французский антиквар продал его русскому — князю Салтыкову. Из коллекции Салтыкова подсвечник и попал в Музей Южного Кенсингтона. Он уникальный, других таких не существует.
Том не знал, что такое символы евангелистов. Но он видел, что эта вещь — целый мир тайных сказок. Том сказал, что надо показать подсвечник его матери. Может быть, это именно то, что она ищет. Ему хотелось потрогать головы драконов.
Джулиан беспокойно озирался. За алебастровым рыцарем-часовым, стоящим на мраморной плите, была скрытая дверь. Сейчас она стояла слегка приотворенной, чего Джулиан никогда раньше не видел. Он частенько дергал ручку, но дверь всегда была заперта — этого и следовало ожидать, так как она вела вниз, в подвальные хранилища и мастерские.
— Бьюсь об заклад, он пошел туда, вниз.
— А что там внизу?
— Много миль коридоров, стеллажей, подвалов... разные вещи, с которых снимают слепки, или чистят, или просто так хранят. Давай его выследим.
В проходе было темно — единственный луч света падал на верхние ступеньки из приоткрытой двери. Том не любил темноты. Не любил нарушать правила. Он сказал:
— Мы там ничего не увидим в темноте.
— Оставим дверь приоткрытой.
— Кто-нибудь придет и запрет ее. Нам влетит.
— Не влетит. Я здесь живу.
Они на цыпочках спустились по неровным каменным ступеням, держась за тонкие железные перила. У подножия лестницы путь преградила железная решетка, за которой простирался длинный коридор, смутно видный, словно на другом конце его был источник света. Потолки были готические, сводчатые, как в подземельях церкви, но облицованные белым глазурованным кирпичом фабричного производства. Джулиан раздраженно тряхнул решетку, и она распахнулась. Он подумал, что и решетку тоже напрасно оставили незапертой. Кого-то ждут неприятности.
Коридор привел в пыльный запасник, заполоненный толпой белых истуканов — мужчин, женщин, детей — с невидящими глазами. Тому показалось, что это — пленники подземного мира, а может, и погибшие души. Статуи стояли очень тесно; мальчикам пришлось протискиваться меж них. За этим склепом коридор разветвлялся. В левом проходе было светлее, так что они пошли туда, проникли за очередную незапертую решетку и оказались в сокровищнице, полной больших золотых и серебряных сосудов, епископских посохов, аналоев с орлиными крыльями, чаш для святой воды, реющих ангелов и ухмыляющихся херувимов. «Гальванические копии», — шепнул образованный Джулиан. Металл слабо, но отчетливо переливался в свете, проникавшем через небольшие круглые застекленные окошки в кирпичных стенах. Джулиан прижал палец к губам и зашипел на Тома, чтобы тот не шумел. Том, чтобы сохранить равновесие, оперся о серебряный галеон. Галеон звякнул. Том чихнул.
— Тихо ты!
— Я не виноват. Это все пыль.
Они крадучись пошли дальше, повернули налево, потом направо, потом им пришлось пробиваться сквозь завалы каких-то штук, которые Том счел могильными оградками. Они были усажены бюстами улыбающихся женоподобных ангелов с крыльями и остроконечными грудями. Джулиан сказал, что это чугунные решетки батарей отопления, заказанные у литейщика в Шеффилде.
— Стоили кучу денег, а потом оказались тут — кто-то решил, что они «слишком броские», — шепнул он. — Куда теперь?
Том сказал, что понятия не имеет. Джулиан сказал, что они заблудились, их никто не найдет и крысы обглодают их косточки. Послышалось чихание.
— Я же сказал, тихо.
— Это не я. Должно быть, это он.
Тома беспокоило, что они выслеживают, вероятно, невинного и безвредного мальчика. В то же время он боялся наткнуться на дикого и опасного мальчишку.
— Мы знаем, что ты тут! — закричал Джулиан. — Выходи, сдавайся!
Том видел, что Джулиан весь собран и улыбается, как победитель — загонщик или ловец в игре, где положено гнать и преследовать.
Воцарилась тишина. Потом кто-то снова чихнул. Послышалась легкая возня. Джулиан и Том повернулись и посмотрели в другой проход, загроможденный лесом колонн из фальшивого мрамора — постаментов для бюстов и ваз. На уровне коленей, между фальшивым базальтом и фальшивым обсидианом, возникло дикое лицо, увенчанное копной волос.
— Ну-ка выходи и рассказывай, — веско приказал Джулиан. — Сюда нельзя посторонним. По-хорошему я бы должен полицию вызвать.
Мальчик вылез на четвереньках, встряхнулся, как зверь, и встал, мимоходом опершись о колонны. Он был примерно одного роста с Джулианом. Он дрожал — Том не знал, от гнева или от страха. Мальчик провел грязной рукой по лицу, потирая глаза, — даже в темноте видно было, что они покраснели. Он опустил голову и напрягся. Том понял, что у мальчика в голове пронеслась мысль: броситься на этих двоих, сбить их с ног и скрыться в глубине коридоров. Мальчик не двигался и ничего не отвечал.
— Что ты тут делаешь? — не отставал Джулиан.
— Я ныкался.
— Почему? От кого ты прятался?
— Просто ныкался. Я ничё не делал. Я очень осторожно хожу. Ничё не трогаю.
— Как тебя зовут? Где ты живешь?
— Меня звать Филип. Филип Уоррен. Живу я, стал быть, тут. Пока что.
Он говорил с явным северным акцентом. Том заметил акцент, но не смог бы сказать, откуда мальчик родом. Тот смотрел на них двоих почти так же, как они смотрели на него, — словно не мог взять в толк, что они и вправду настоящие. Он хлопнул глазами и вздрогнул всем телом. Том спросил:
— Ты рисовал подсвечник. Ты для этого пришел?
— Угу.
Мальчик прижимал к груди холщовую сумку, в которой, видимо, хранились его рисовальные принадлежности. Том сказал:
— Это удивительная вещь, правда? Я его никогда раньше не видел.
Мальчик посмотрел ему в глаза и отозвался с едва заметной тенью улыбки:
— Угу. Удивительная, верно.
— Ты должен пойти и объясниться с моим отцом, — сурово сказал Джулиан.
— С твоим отцо-ом? А он кто такой?
— Он — особый хранитель драгоценных металлов.
— А. Понятно.
— Ты должен идти с нами.
— Да уж, видать, должен. Можно я вещи заберу?
— Вещи? — Джулиан впервые заколебался. — Ты хочешь сказать, что ты тут живешь?
— Я ж так и сказал сразу. Мне ж больш’ некуда пойти. Неохота ночевать на улице. Я пришел сюда рисовать. Я знаю, Музей — для рабочего люда, чтоб глядеть на хорошо сделанные вещи. Я собирался искать работу, по правде, и мне ж нужны рисунки, чтоб показывать... Мне ж эти штуки по душе.
— А можно посмотреть твои рисунки? — спросил Том.
— Токо не тут, темно слишком. Наверху, коли хотите. Я токо заберу вещи, как сказал.
Он скрючился и полез обратно, ловко лавируя среди колонн. Тому представились гномы в копях, а затем, поскольку родители воспитывали в нем сочувствие к беднякам, — дети в шахтах, как они ползут на четвереньках и тянут за собой вагонетки. Джулиан не отставал, следуя за Филипом по пятам. Том отправился за ними.
— Заходите, — сказал грязный мальчик у входа в небольшую комнату и сделал приглашающий жест рукой, возможно в насмешку.
В комнатке стояло некое подобие каменного домика, покрытое резным орнаментом — херувимами, серафимами, орлами и голубками, аканфом и виноградными лозами. У домика были собственные небольшие железные воротца — на ржавчине кое-где виднелись следы позолоты.
— Удобно, — сказал Филип. — Там унутри каменная кровать. Я взял взаймы пару мешков. Я, ясное дело, верну их на место, где нашел.
— Это гробница или склеп, — сказал Джулиан. — Судя по виду, из России. На этом столе, видно, лежал святой в стеклянной раке или реликварии. Может быть, он до сих пор там, то есть его кости, если он не оказался нетленным.
— Я его не видал, — кратко ответил Филип. — Он меня не трогал.
— Ты голодный? — спросил Том. — Что ты тут ешь?
— Раза два я помогал в кафе, собирал и мыл посуду. Люди кучу всего оставляют на тарелках, даже удивительно. А девушки из Школы искусств смотрят на мои рисунки и иногда дают мне сэндвичи. Я не клянчу. Однажды, один раз токо, я украл сэндвич, када совсем изголодался. С яйцом и кресс-салатом. Я знал, та девушка его есть не будет.
Он помолчал.
— Не сказать, чтоб этого хватало. Да, я голодный.
Он порылся за ракой и вылез оттуда еще с одной холщовой сумкой, альбомом для рисования, огарком свечи и каким-то свертком, перевязанным веревкой, — видимо, одежда.
— Как ты сюда попал? — не отставал Джулиан.
— Зашел за лошадьми и телегами. Ну знаешь, они въезжают вниз по скату в подвал. И разгружаются и нагружаются, и там всегда такая толкотня, ничё не стоит затесаться в толпу, меж конюхов и грузчиков, и пробраться вовнутрь.
— А дверь наверху? — спросил Джулиан. — Она должна быть все время заперта.
— Я нашел махонький ключик.
— Нашел?
— Угу. Нашел. Я его верну. Вот, возьмите.
Том сказал:
— Должно быть, по ночам тут очень страшно в одиночку.
— Не так страшно, как на улицах в Ист-Энде. И близко нет.
— А теперь идем, — вмешался Джулиан. — Ты должен все рассказать моему отцу. Он сейчас разговаривает с матерью Тома. Это — Том. Том Уэллвуд. А меня зовут Джулиан Кейн.
Майор инженерных войск Проспер Кейн, сотрудник Управления науки и искусства, владел елизаветинской усадьбой в Кенте под названием Айуэйд-хауз. Кроме этого, майор занимал небольшой жилой домик из тех, что выросли в Южном Кенсингтоне вокруг чудовищных «паровых котлов» из стекла и стали. (Утилитарное здание из чугуна, спроектированное военным инженером, было увенчано тремя непоправимо безобразными длинными округлыми крышами, за что и получило насмешливое прозвище «Бромптонских паровых котлов».) Эти жилые домики населяли в основном потомки саперов, строивших когда-то «Бромптонские котлы» после Всемирной выставки 1851 года. Майор Кейн занимал жилье, которое трудно было назвать официальной резиденцией, — подчиненные майора жили в таких же, разве что чуть поменьше. Уже давно выдвигались амбициозные проекты расширения музейных площадей, а кое-кто роптал против засилья военных в музее. Был проведен конкурс. Точные видения дворцов, атриумов, башен, фонтанов и декора подверглись скрупулезному рассмотрению и сравнению. Победителем был провозглашен проект Астона Уэбба, но работы не начались. Новый директор музея Джон Генри Миддлтон, назначенный на этот пост в 1894 году, был не военным, а замкнутым, аскетичным ученым, ранее работавшим в Кингз-колледже и музее Фитцуильяма в Кембридже. Миддлтон не ладил с генерал-майором сэром Джоном Доннелли, секретарем Управления науки и искусства. Хранители музея и ученые-исследователи подавали петиции о сносе жилых домиков по причине пожарной опасности и неисправных дымоходов. По подсчетам обнаружилось двадцать семь открытых очагов с дымовыми трубами. Студентки Школы искусств жаловались на то, что к ним в студии проникает сажа и дым. Военные в ответ указывали на тот факт, что пожарная команда Музея состоит из саперов, населяющих эти самые дома. Споры длились, и никто ничего не делал.
Узкий домик Проспера Кейна — комнаты первого этажа и гостиную на втором — украшали элегантные камины. Камины были отделаны роскошной плиткой работы Уильяма де Моргана. Майор предложил Олив Уэллвуд позолоченный французский стул, покрытый затейливой резьбой в стиле, равно ненавистном как представителям Движения искусств и ремесел, так и хранителям Музея. У майора был эклектический вкус и слабость, если это можно назвать слабостью, к экстравагантному. Майору было приятно смотреть на гостью, одетую в грогроновое платье темного грифельного цвета, отделанное тесьмой, с высоким кружевным воротником и рукавами, которые над локтем клубились модными «фонариками». Шляпа была отделана черными перьями, а на полях теснились алые шелковые маки. У гостьи было приятное, уверенное лицо, энергичное, румяное, с твердой линией рта и широко расставленными огромными темными глазами, похожими на сердцевинки маков. Майор решил, что ей лет тридцать пять — возможно, чуть больше. Он заключил, что она не привыкла к тугим корсетам, лайковым ботинкам и перчаткам. Она двигалась чуть-чуть слишком свободно, чересчур импульсивно. У нее было хорошее тело, тонкие щиколотки. Дома она, видимо, ходила в платьях фасона «либерти» или в чем-то другом столь же удобном. Майор сидел напротив — собранный, с четкими чертами лица, как и у его сына. Волосы все еще такие же темные, как у Джулиана, аккуратные усики — серебряные. Жена майора, итальянка, умерла в 1883 году во Флоренции — в городе, который они оба любили, где родилась их дочь и была крещена Флоренцией, прежде чем пришла болезнь и город стал местом трагедии.
Олив Уэллвуд была замужем за Хамфри Уэллвудом, служащим Английского банка и активным членом Фабианского общества. Олив написала множество сказок для детей и взрослых и слыла специалистом по британским народным сказкам. Она пришла повидаться с Кейном, потому что задумала написать сказку о чудесном древнем сокровище. Проспер Кейн галантно выразил восторг по поводу того, что гостья подумала о нем. Она улыбнулась и сказала: скромный успех ее книг больше всего радует ее тем, что позволяет беспокоить таких важных и занятых людей, как майор. Она никогда и не ожидала подобного. Она сказала, что его комната похожа на пещеру из арабских сказок и что ей безумно хочется встать с места и полюбоваться всеми-всеми собранными им удивительными сокровищами.
— На самом деле, — сказал Проспер, — тут не так уж много арабского. Это не моя область. Я служил на Востоке, но меня больше интересует европейское искусство. Боюсь, вы не найдете научного порядка в моих личных вещах. Я не думаю, что при украшении комнаты нужно рабски следовать определенному стилю, особенно если эта комната, так сказать, стоит в ряду разнообразнейших зал музея, как крохотное яичко может оказаться в гнезде Фаберже. Можно прекрасно поставить изникский кувшин рядом с венецианским кубком и покрытой люстром вазой работы де Моргана — все три от такого соседства только выиграют. На стенах у меня средневековые фламандские вышивки соседствуют с небольшим гобеленом, который мой друг Моррис соткал для меня в Мертон-Эбби, — птицы-обжоры и алые ягоды. Посмотрите, какая мощь в изгибах листьев. Моррис всегда полон энергии.
— А эти? — спросила миссис Уэллвуд.
Она порывисто встала и провела пальцем, затянутым в серую лайку, вдоль полки с разнородными предметами, которые никак не складывались в целое ни с эстетической, ни с исторической точки зрения.
— А это, дорогая, моя коллекция гениальных подделок. Эти ложки — не средневековые, хотя их пытались продать мне за таковые. Этот кубок-наутилус вовсе не работы Челлини, хотя Уильяма Бекфорда убедили в противном и он заплатил за него небольшое состояние. Эти безделушки — вовсе не драгоценности британской короны, а искусно сделанные стеклянные копии, которые выставлялись в Хрустальном дворце в пятьдесят первом году.
— А это?
Миссис Уэллвуд, едва касаясь, провела пальцем по керамическому блюду с изображениями, которые казались живыми, — небольшая жаба, свивающаяся кольцами змея, несколько жуков, мох, папоротники, черный рак.
— Я никогда не видела такого точного подобия. Каждая бородавочка, каждая морщинка.
— Как вам известно — а может быть, и неизвестно, — Музей попал в неприятную историю, приобретя чрезвычайно дорогое блюдо — не это — работы Бернара Палисси. Который увековечен мозаичным портретом в «Кенсингтонской Валгалле». Впоследствии, к нашему посрамлению, оказалось, что и то блюдо, и это тоже — честные современные фабричные копии. Они продаются как сувениры. Это факт, что при отсутствии неоспоримой метки художника невероятно трудно отличить фальшивого Палисси — или копию, следует сказать, — от подлинника семнадцатого века.
— И все же, — произнесла наблюдательная миссис Уэллвуд, — какая точность деталей! Кажется, что такая работа требует необыкновенных усилий.
— Говорят, и я этому верю, что керамические твари сделаны на основе настоящих жаб, угрей, жуков.
— Надеюсь, мертвых?
— Хотелось бы верить, что мумифицированных. Но мы точно не знаем. Может быть, в этом кроется сказка?
— Принца превратили в жабу и заточили в блюдо? О, как ему ненавистно было бы наблюдать за пирующими. В «Тысяча и одной ночи» есть история про принца, который окаменел до пояса. Эта сказка всегда меня тревожила. Мне нужно подумать.
Она улыбнулась довольной кошачьей улыбкой.
— Но вы хотели узнать про серебряные и золотые клады?
Хамфри Уэллвуд сказал ей: «Поезжай и спроси Старого пирата. Он точно знает. Он все знает про тайники и тайные сделки. Он прочесывает рынки и лавки древностей и за гроши, так мне рассказывали, скупает родовые сокровища, попавшие на лотки уличных торговцев после всех революций».
— Мне нужно что-то такое, что всегда числилось пропавшим — конечно, с соответствующей историей — и чтобы я могла приписать этой вещи магические свойства: какой-нибудь талисман, зеркало, которое показывает прошлое и будущее, что-то в этом роде. Как видите, мое воображение порождает только банальности. Мне нужны ваши точные познания.
— Как ни странно, — сказал Проспер Кейн, — очень древних золотых и серебряных сокровищ не так много, и тому есть веская причина. Представьте себе, что вы — ярл викингов, или вождь татарского племени, или даже император Священной Римской империи. Серебряные и золотые вещи составляют часть вашей казны, и им постоянно — с точки зрения художника и рассказчика — грозит опасность попасть в переплавку для мены, на жалованье солдатам или чтоб можно было быстро увезти и спрятать. У церкви есть священные сосуды...
— Нет, я не хочу ни граалей, ни дароносиц, ничего такого.
— Нет, вы ищете что-то обладающее неповторимой маной. Я понимаю, что вам нужно.
— Только не кольцо. Про кольца уже столько сказок!
Проспер Кейн засмеялся громким лающим смехом:
— Вы требовательны. А как насчет клада из Стоук-Прайор? Это серебряные сосуды, их закопали для сохранности во время гражданской войны, а нашел уже в наши дни какой-то мальчишка во время охоты на кроликов. А еще была романтическая история с эльтенбергским реликварием, который приобрел для Музея Джон Чарльз Робинсон в шестьдесят первом году. Реликварий происходит из коллекции князя Салтыкова, который купил его и еще тысячи четыре средневековых предметов у одного француза после революции сорок восьмого года. После вторжения Наполеона реликварий спрятала в печной трубе канониса Эльтенбергская, княгиня Сальм-Райфенштадтская. Из трубы реликварий каким-то образом попал к канонику в Эммерихе, который продал его в Аахене торговцу, некоему Якобу Коэну из Ангальта. Этот Якоб в один прекрасный день явился к князю Флорентину Сальм-Сальмскому и предложил ему одну фигурку из моржовой кости. Когда князь Флорентин ее купил, Коэн вернулся с другой фигуркой, потом еще и еще и наконец принес сам ларец-реликварий, закопченный и пропахший табаком. Затем сын князя Флорентина, князь Феликс, уговорил отца продать фигурки кёльнскому торговцу — и вот тут, как мы полагаем, некоторые были подменены искусными современными подделками: путешествие волхвов, Дева и Младенец со святым Иосифом, некоторые из пророков. Очень умелые подделки. Они у нас есть. Это реальная история, и мы убеждены, что подлинники фигурок где-то до сих пор спрятаны. Разве из этого не выйдет замечательный сюжет? Поиски пропавших частей клада, восстановление его целостности? Ваши герои могли бы отправиться по следу ремесленника, изготовившего подделки...
Олив Уэллвуд ощутила то, что часто чувствуют писатели, которым предлагают для сюжета замечательные истории: тут слишком много фактов, слишком мало простора для вставки необходимого вымысла, который на этом фоне будет казаться ложью.
— Мне придется очень многое поменять.
На лице ученого специалиста по подделкам отразилось мимолетное недовольство.
— Это и так уже очень сильная история, — объяснила Олив. — Она не нуждается в моем воображении.
— Я бы сказал, что она всех нас заставляет напрячь воображение, чтобы восстановить судьбу пропавших произведений искусства...
— Меня заинтриговали ваши жабы и змеи.
— Для сказки о колдовстве? В качестве фамильяров?
Тут открылась дверь и Джулиан ввел Филипа Уоррена. Шествие замыкал Том, он же и закрыл дверь.
— Извини, отец. Мы решили, что тебя следует поставить в известность. Мы нашли вот его — он прятался в запасниках Музея. В гробнице. Я за ним давно следил, а сегодня мы его поймали. Он там внизу жил.
Все посмотрели на грязного мальчишку так (подумала Олив), словно он восстал из-под земли. От его башмаков остались следы на ковре.
— Что ты делал? — спросил Проспер Кейн.
Мальчик не ответил. Том подошел к матери, она взъерошила ему волосы. Он преподнес ей историю:
— Он рисует вещи, выставленные в витринах. А ночью спит совсем один в гробнице древнего святого, где раньше были кости. Среди горгулий и ангелов. В темноте.
— Это очень храбро, — сказала Олив, обращая взгляд темных глаз на Филипа. — Ты, наверное, боялся.
— Нисколечко, — бесстрастно ответил Филип.
Он не собирался говорить, что думал на самом деле. Если ты спал с пятью другими детьми бок о бок на одном матрасе, и, более того, на матрасе, где умерли еще двое братьев и сестра, не безболезненно и не мирно, и тела даже некуда было убрать, — горстка старых костей тебя не испугает. Всю жизнь Филипа не покидала жажда уединения — он бы даже не смог назвать это чувство, но оно никогда не ослабевало. Он понятия не имел, бывает ли такое у других людей. Похоже, что нет. В музейной гробнице, в темноте и прахе, это желание на краткий миг осуществилось. Филип был на взводе — опасный, готовый в любую минуту взорваться.
— Откуда ты, парень? — спросил Проспер Кейн. — Ну-ка, выкладывай все как есть. Почему ты здесь и как попал туда, где заперто?
— Я из Берслема. Там работал на гончарной фабрике. — Длинная пауза. — Я сбежал оттуда, вот чего, убежал.
Лицо его было непроницаемо.
— Твои родители работают там, на фабрике?
— Папка помер. Он капсели делал. Мамка расписчица в мастерской. Мы все там работали, кто кем. Я загружал печи для обжига.
— Ты был несчастен, — сказала Олив.
Филип обдумал свои ощущения. Он сказал:
— Угу.
— С тобой плохо обращались.
— Им по-другому нельзя было. Дело не в том. Я хотел... Я хотел чего-нибудь делать...
— Ты хотел что-то изменить в своей жизни, чего-то добиться, — подсказала Олив. — Это естественно.
Может, это и было естественно, но Филип совсем не то имел в виду.
— Я хотел чего-нибудь сделать...
Его внутреннему взору предстала бесформенная масса разжижающейся глины. Он огляделся, как затравленный медведь, и увидел пылающую люстром чашу де Моргана на каминной полке. Он открыл рот, чтобы сказать что-нибудь про эту глазурь, но передумал.
— Может, ты нам покажешь свои рисунки? — спросил Том. Он обратился к матери: — Он показывал свои рисунки студенткам из Школы искусств, и они им понравились, они давали ему хлеб...
Филип развязал сумку и вытащил альбом с рисунками. Там был Глостерский канделябр с извивающимися драконами и горделивыми круглоглазыми человечками. Наброски за набросками — извивающиеся, кусающие, разящие существа в тончайших деталях.
Том сказал:
— Вот этот человечек мне понравился, старичок с редкими волосами и печальным взглядом.
Проспер Кейн переворачивал страницы. Каменные ангелы, корейские золотые украшения для короны, блюдо Палисси во всей своей грубости — один из двух неоспоримо подлинных экземпляров.
— А это что? — спросил он, листая дальше.
— Это я уже сам придумал.
— Для чего?
— Ну, я думал, соляная глазурь. А мож, обливная керамика, вот на этой странице. Я рисовал металл, чтоб его почувствовать. Я металла совсем не знаю. Я знаю глину. Кое-что знаю про нее.
— У тебя хороший глаз, — сказал Проспер Кейн. — Очень хороший глаз. Ты использовал коллекцию Музея по назначению — чтобы изучать лучшие образцы ремесла.
Том перевел дух. Все-таки у этой сказки будет хороший конец.
— Ты бы хотел учиться в Школе искусств?
— Не знаю. Я хочу чего-нибудь делать...
Тут у него совсем кончились силы, и он пошатнулся. Проспер Кейн, не поднимая глаз от рисунков, сказал:
— Ты, должно быть, голоден. Джулиан, вызови Рози, вели ей принести свежего чаю.
— Я всегда голодный, — сказал вдруг Филип неожиданно громко, вдвое громче прежнего.
Он не собирался никого смешить, но, поскольку его действительно хотели накормить, все остальные восприняли это как шутку и весело засмеялись.
— Садись, мальчик. Ты не на допросе.
Филип нерешительно глянул на шелковые подушки с павлинами и языками пламени.
— Они отчистятся. Ты совсем без сил. Садись.
Рози, горничная, несколько раз поднималась по узкой лестнице, таская подносы с фарфоровыми чашками и блюдцами, солидный кусок фруктового кекса на подставке, блюдо с сэндвичами, хитроумно рассчитанными так, чтобы угодить дамскому вкусу и при этом накормить растущих мальчиков (в одних сэндвичах — ломтики огурцов, в других — треугольники холодного тушеного мяса). Потом Рози принесла блюдо пирожных-корзиночек, заварочный чайник, чайник с кипятком, кувшинчик со сливками. Рози была маленькая, поджарая, в накрахмаленном чепце и фартуке, примерно ровесница Филипа и Джулиана. Она расставила припасы по первым попавшимся столикам, водрузила чайник на огонь, нырнула в реверансе перед майором Кейном и снова побежала вниз. Проспер Кейн попросил миссис Уэллвуд разливать чай. Филип позабавил майора тем, что поднял чашку на уровень глаз, разглядывая резвящихся пастушек на цветущем лугу.
— Минтонский фарфор, стилизация под севрский, — сказал Проспер. — Для Уильяма Морриса — страшное кощунство, но у меня слабость к орнаментам...
Филип поставил чашку на стол рядом с собой и ничего не ответил. Рот у него был набит сэндвичем. Филип пытался есть деликатно, но был страшно голоден и потому набрасывался на еду. Он пытался жевать медленно. Он глотал огромные куски. Все благосклонно наблюдали за ним. Он жевал и краснел под слоем грязи. Он был готов расплакаться. Его окружили чужаки. Его мать раскрашивала каемки таких же чашек тонкими кисточками день за днем и гордилась неизменной безупречностью своей работы. Олив Уэллвуд, пахнущая розами, стояла над Филипом, накладывая ему ломти кекса. Он съел два, хоть и подумал, что это, наверное, неприлично. Но сладкое и мучное сделали свое дело. Неестественная напряженность, настороженность сменились чистой усталостью.
— А что теперь? — спросил Проспер Кейн. — Что нам делать с этим юношей? Где он будет спать сегодня ночью и куда пойдет после этого?
Тому вспомнилась сцена прибытия Дэвида Копперфильда в дом Бетси Тротвуд. Вот мальчик. Он жил в грязи и опасности, а теперь попал в настоящий дом. Том собирался воскликнуть словами мистера Дика: «Я вымыл бы его!» — но удержался. Это было бы оскорбительно.
Олив Уэллвуд обратила вопрос к Филипу:
— Что ты хочешь делать?
— Работать, — ответил Филип.
Этот ответ был проще всего и в общих чертах близок к истине.
— А вернуться обратно — не хочешь?
— Нет.
— Я думаю, — если майор Кейн согласится, — ты можешь поехать домой с нами, со мной и с Томом, на выходные. Я полагаю, майор не собирается заявлять на тебя в полицию. В эти выходные — день летнего солнцестояния, и мы устраиваем праздник у себя дома, за городом. У нас большая семья, очень гостеприимная, один лишний человек нас не стеснит.
Она посмотрела на Проспера Кейна:
— Я надеюсь, что и вы приедете в Андреден из Айуэйда ради магии Летней ночи. Возьмите с собой Джулиана и Флоренцию, они пообщаются с молодежью.
Проспер Кейн склонился над ее рукой, мысленно отменил назначенную карточную игру и сказал, что он, что все они будут счастливы приехать. Том посмотрел на пленника — радуется ли тот? Но тот смотрел себе на ноги. Том не знал, рад ли он сам, что Джулиан приедет к ним на праздник. Том побаивался Джулиана. Вот Филип — это хорошо, если он снизойдет до того, чтобы получать удовольствие от праздника. Том подумал, не присоединиться ли к уговорам матери, но застеснялся и промолчал.
2
Они доехали на поезде до станции Андреден в Кентском Уилде, а на станции сели в пролетку. Филип сидел напротив Тома с матерью, склонившихся друг к другу. У Филипа сами собой закрывались глаза, но Олив ему все время что-то рассказывала, и он знал, что нужно слушать. Андред — старое британское название леса. Слово «андреден» означает лесное пастбище для свиней. Усадьба Уэллвудов называется «Жабья просека». По правде сказать, они изменили это название — раньше она называлась «Квакшин прогал», но эта замена оправдана с этимологической точки зрения. Слово «прогал» в местном говоре означает расчищенное место в лесу, просеку. А квакша, надо полагать — это жаба.
— Так что, там водятся жабы? — невозмутимо спросил Филип.
— О, кучи, — ответил Том. — Большие, жирные. Они мечут икру в утином пруду. И лягушки тоже есть, и тритоны, и колюшка.
Они ехали между живыми изгородями из боярышника и лещины, по извилистым проселочным дорогам, через лес под нависающими ветвями вязов, берез, тиса. Филип почувствовал, как изменился воздух, когда поезд вырвался из-под траурной завесы лондонского неба. Можно было увидеть, где она кончается. Впрочем, густой темный воздух Берслема, полный горячей колючей пыли и расплавленных химикалий, извергаемых высокими трубами и сужающимися кверху печами для обжига, был гораздо хуже. Филип дышал с опаской — ему казалось, что его легкие слишком сильно расширяются. Олив и Том отнюдь не принимали свежий воздух как должное. Они, словно повинуясь ритуалу, восклицали, как хорошо наконец выбраться из городской грязи. Филипу казалось, что грязь въелась в него навсегда.
Усадьба «Жабья просека» представляла собой старый дом кентского фермера, построенный из дерева и камня. Перед домом расстилались луга и текла река, за домом по склону холма поднимался лес. Архитектор Летаби со вкусом расширил дом и перестроил его в стиле Движения искусств и ремесел, старательно сохраняя (а также создавая) окошки и стрехи причудливой формы, изогнутые лестницы, уголки, закоулки и оголенные балки потолка. Парадная дверь из цельного дуба открывалась в современное подобие главного зала средневекового замка — с деревянными диванами-ларями, альковами, большим обеденным столом ручной работы и длинным буфетом, в котором сверкала люстром посуда. Дальше шла отделанная деревянными панелями библиотека (небольшая), по совместительству служившая Олив рабочим кабинетом, и бильярдная, где воцарялся Хамфри, когда бывал дома. В усадьбе было множество подсобных помещений: кухни, буфетные, домики для гостей, конюшни с сеновалами, где рылись куры и вили гнезда ласточки. Широкая лестница с поворотами вела из зала на верхние этажи.
Встречать Олив и Тома сбежалась куча народу — детей и взрослых. Филип принялся их разглядывать. Невысокая темноволосая женщина, в просторном платье цвета шелковицы с рисунком из ослепительно-ярких настурций, держала младенца, примерно годовалого, которого и вручила Олив для объятий и поцелуев, не успела та даже пальто снять. Две служанки — матрона и юная девушка — стояли рядом, готовые принять на руки хозяйские пальто. Две юные леди в одинаковых темно-синих фартуках, с длинными, спадающими на плечи волосами, у одной темными, у другой рыжеватыми, — моложе Филипа, моложе и Тома, но ненамного. Маленькая девочка в фартуке, ярком, как грудка снегиря, пролезла у всех под ногами и вцепилась в юбки Олив. Маленький мальчик со светлыми кудряшками, в кружевном воротничке фасона «лорд Фаунтлерой», не отходил от дамы в платье цвета шелковицы, пряча лицо в ее юбку. Олив зарылась носом в шейку младенца Робина, который тянулся к макам на ее шляпке.
— Я как дерево, на котором гнездятся птицы. Это Филип, он у нас погостит немного. Филип, эти две большие девочки — Дороти и Филлис. Это моя сестра Виолетта Гримуит, на ней держится весь дом — все, что в этом доме хоть как-то держится. Этот чертенок — моя умница Гедда, она не умеет стоять смирно. Стеснительный — Флориан, ему три года. Флориан, выгляни, поздоровайся с Филипом.
Флориан, не отпуская Виолетту Гримуит, отчетливо сказал прямо в ее юбки, что от Филипа плохо пахнет. Виолетта подняла малыша на руки, потрясла и поцеловала. Он лягался, пиная ее по бедрам. Олив сказала:
— Филип ушел из дома и много скитался. Ему нужна ванна и чистая одежда, и постелите ему в Березовом коттедже. Кейти, приготовь там все, что нужно. Ада, наполни ему ванну, пожалуйста. Филип, иди с Адой, начнем с главного, а когда ты освежишься, мы разберемся с ужином и будем строить дальнейшие планы.
Виолетта Гримуит сказала, что поищет Филипу какую-нибудь подходящую одежду. Похоже, он слишком большой, и вещи Тома ему будут малы. Но в ящике с воскресной одеждой Хамфри, наверное, найдется подходящая рубашка, а может быть, даже и штаны...
Филип безропотно пошел за Адой, кухаркой, через ту часть дома, где жили слуги, в заднюю дверь, через конный двор и наискосок в домик для гостей, состоявший из комнаты внизу, с краном, насосом для воды и раковиной, и чердака наверху, куда можно было попасть по лестнице, — слышно было, как там возится Кейти, перетряхивая постель. Филип стоял столбом. Ада притащила жестяную ванну, два кувшина горячей воды, кувшин холодной, мыло и полотенце. Затем она ушла. Филип снял верхнюю одежду, робко налил в ванну немного холодной воды и добавил горячей. Затем он снял последнюю защиту — подштанники и нательную фуфайку. Ванна была для него в диковинку. Он привык быстренько ополаскиваться холодной водой у общественной колонки. Он занес ногу, чтобы встать в ванну. Без стука вошла Виолетта Гримуит. Филип схватил полотенце, чтобы прикрыться, и плюхнулся в воду, ободрав щиколотку о край ванны. Он сдавленно крикнул — почти взвыл.
— Нечего меня стесняться, — сказала мисс Гримуит. — Дай-ка посмотрю на твою ссадину. Ничего нового я у тебя не увижу. Я всех их нянчила, лечила их ранки с самого рождения, это ко мне они бегут, когда им что-то нужно, и я надеюсь, что и ты, молодой человек, будешь делать то же самое.
Она приступила к перепуганному Филипу с мылом и кружкой теплой воды, которую без предупреждения вылила на его шевелюру, так что струи потекли в глаза и по плечам.
— Закрой глаза, — велела она. — И не открывай, я до корней доберусь, уж я доберусь.
С этими словами она принялась за работу, добавляя мыла и воды, меся и крутя волосы, потом стала массировать кожу головы, трогая тонкими пальцами напряженные мускулы плеч и шеи.
— Не сжимайся, — сказала эта удивительная женщина. — Сейчас мы тебя отмоем на славу, каждая щелочка заиграет, вот увидишь.
Она с ним говорила так, словно он несмышленый младенец — или взрослый мужчина, сознающий, что с ним делают, и согласный на это. Филип решил, что будет держать глаза закрытыми — во всех смыслах. Он скрючился как мог, закрывая чувствительные места, прижал подбородок к груди и отдался рукам, что безжалостно терли и трепали его. Руки нырнули под воду и на краткий миг нашли ту часть тела, которую Филип мысленно называл «свистком».
— Грязь веков, — сказал пронзительный голос. — Удивительно, как она, грязь, накапливается. Вот теперь ты хорошенький розовенький поросеночек, а не серый слон с загрубелой шкурой. У тебя густые красивые волосы теперь, когда я из них вымыла пыль и все прочее. Можешь открыть глаза. Я стерла мыло, щипать не будет.
Глаза открывать не хотелось.
Виолетта приказала ему вытираться, а сама стала прикладывать к нему разные одежды для примерки. Он, еще мокрый, неловко влез в какие-то заплатанные кальсоны и выбрал из трех предложенных рубашек однотонную темно-синюю саржевую. Штаны Тома оказались малы.
— Я так и знала, — сказала Виолетта.
Другие штаны, видимо принадлежавшие хозяину дома, были великоваты, но Виолетта сказала, что с ремнем они будут хорошо держаться. Она извлекла откуда-то целую гору игл и катушек с нитками, велела Филипу стоять неподвижно и ушила брюки с двух сторон на бедрах. Она шила быстро и точно.
— Я знаю молодых людей, они всегда стесняются, если что-то с виду не так, и терпеть не могут, когда одежда плохо сидит. Я тут зашила на скорую руку, но пока подержится. Так тебе не придется беспокоиться, что они велики. Одной заботой меньше.
Она положила руки ему на бедра и повернула его, как манекен. Она дала ему пару крепких новых носков, но из принесенной ею обуви ни одна пара не подошла, и ему пришлось надеть свои старые ботинки, после того как Виолетта их почистила. Твидовая куртка с кожаной отделкой завершила его туалет. Филип получил даже чистый носовой платок. И карманную расческу из белой кости: Виолетта сначала долго дергала этой расческой волосы Филипа, а потом положила ее в карман его куртки. Зеркала в Березовом коттедже не было, так что Филип не мог полюбоваться на плоды ее трудов. Он поеживался: в этом нижнем белье ему было неудобно. Виолетта провела пальцами по поясу брюк изнутри и расправила Филипу плечи. Она скатала его старую одежду в сверток:
— Я не украду твои тряпки, юноша, они к тебе вернутся стираными и штопаными.
— Благодарю вас, мэм, — ответил Филип.
— Если тебе что-нибудь понадобится, что угодно, иди ко мне. Смотри не забудь. Ночная рубашка у тебя на кровати, горшок под кроватью, зубная щетка лежит у раковины. Когда пойдешь обратно, я дам тебе спички и свечу. Ты будешь сладко спать, в Кенте воздух хороший.
В обеденной зале уже накрыли ужин. На столе стояли хорошенькие обливные тарелки и кружки, покрытые желтой глазурью, с каймой из «черноглазых сюзанн». Робина и Флориана уже уложили в постель, но пятилетняя Гедда была за столом вместе со всеми, так как семья ужинала рано. Олив пригласила Филипа сесть рядом с ней и сказала, что он красавец. Хамфри Уэллвуд кивнул Филипу с другого конца стола. Хамфри оказался высоким худым мужчиной с рыжей, лисьего цвета, аккуратно подстриженной бородой, с бледно-голубыми глазами. Он был одет в темно-коричневую бархатную куртку.
На ужин подали суп из цветной капусты, затем рагу из баранины и пирог с тыквой и овощами для тех, кто не ел мяса (для Олив, Виолетты, Филлис и Гедды). Филип съел две тарелки супа. Он думал, что мистер Уэллвуд, раз он работает в Английском банке, будет как владельцы гончарной фабрики — такой же чопорный, напыщенный, высокомерный. Но Хамфри принялся рассказывать детям, судя по всему, очередную серию историй про тайные шалости банковских служащих: они держали в банке бультерьеров, привязывая их к ножкам своих столов, и делили между собой мясные полутуши со Смитфилдского рынка, прежде чем отправиться домой на выходные. Филлис и Гедда картинно поежились. Хамфри поведал им, как один юнец подшутил над другим: привязал его шнурки к ножкам высокого табурета, на котором тот сидел за конторкой. Дороти сказала, что это совсем не смешно, и Хамфри немедленно согласился, сказав с полушутовской печалью, что бедные молодые люди заточены в полумраке и их животная энергия не может найти выхода. Они словно нибелунги, сказал Хамфри: отправляются в подвальные хранилища, чтобы поглазеть на машины, взвешивающие золотые соверены, — почти очеловеченные создания, которые глотают полновесные золотые монеты и выплевывают фальшивые в медные сосуды. Том сказал, что они сегодня видели совершенно удивительный подсвечник, а майор Кейн говорит, что, может быть, его сделали из переплавленных золотых монет. С драконами, и человечками, и обезьянами. Филип совершенно замечательно нарисовал этот подсвечник. Все посмотрели на Филипа, который упорно пялился себе в тарелку. Хамфри сказал, что хотел бы посмотреть эти рисунки, — таким тоном, словно на самом деле хотел. «Не смущай бедного мальчика», — сказала Виолетта, отчего бедный мальчик немедленно засмущался.
На протяжении всего ужина Олив время от времени грациозно, порывисто поворачивалась к Филипу и просила его рассказать о себе. Она мало-помалу вытянула из него, что его папка погиб от несчастного случая с печью для обжига, а мамка расписывает фарфор. Сам Филип тоже работал — подносил загруженные капсели к печам. Да, у него есть сестры, четыре штуки. Филлис спросила о братьях. Двое, ответил Филип, оба умерли. И еще одна сестра тоже умерла.
— И тебе хотелось оттуда уйти? — спросила Олив. — Должно быть, ты был несчастен. Работа была тяжелая, и, наверное, с тобой плохо обращались...
Филипу вспомнилась мать, и, к своему ужасу, он почувствовал, что глазам стало горячо и мокро.
Олив сказала, что не надо ничего говорить, они всё понимают. Все уставились на него с любовью и сочувствием.
— Не то чтобы... — сказал он. — Не то чтобы...
Голос дрожал.
— Мы найдем тебе и жилье, и работу, — сказала Олив. В голосе ее звенело золото.
Дороти неожиданно спросила, умеет ли Филип ездить на велосипеде.
Он сказал, что нет, но он видел велосипеды, думает, что на них кататься здорово, и хочет попробовать.
— Мы тебя завтра научим, — сказала Дороти. — У нас новые велосипеды. Мы успеем тебя научить до начала праздника, времени хватит. У нас можно кататься в лесу.
Ее личико нельзя было назвать хорошеньким. Оно было почти постоянно сердитым, если не свирепым. Филип не стал раздумывать почему. Его одолевала усталость. Олив задала еще пару вопросов о жестоком обращении, которое, как она была уверена, ему пришлось пережить. Он отвечал односложно, полными ложками отправляя в рот бланманже. На этот раз его спасла Виолетта, которая сказала, что мальчик умирает от усталости, вызвалась найти ему свечу и проводить в постель.
— Моя сестра такая, не бери в голову, — сказала Виолетта. — Она рассказчица. Она для каждого сочиняет истории. Не врет, а сочиняет. Такая уж у нее манера. Встраивает в окружающий мир.
Филип сказал:
— Она... она очень добра ко мне. Вы все очень добрые.
— У всякого свои взгляды, — сказала Виолетта. — На то, как должен быть устроен мир. А некоторые прошли... вот как ты... через то, чего в мире не должно быть.
Луна запуталась в ветвях дерева, обнимающего коттедж. Филип принялся изучать узор, в который сплетались прутья, — размеренный и хаотичный одновременно, — и его это утешило. Он не стал говорить об этом Виолетте, но поблагодарил ее еще раз, взял свечу и вошел в домик. Филип боялся, что Виолетта зайдет поцеловать его на ночь — с этих людей станется, — но она лишь посмотрела снизу, как он со свечой поднимается по лестнице.
— Спокойной ночи, — окликнула она.
— Спасибо, — еще раз повторил он.
И вот он остался один в домике, с храброй свечой, бросающей вызов тьме. Исполнились его желания, по крайней мере одно. На временно принадлежащей ему деревянной кровати, застланной чистым бельем, лежала ночная рубашка. Филип выглянул из окна и увидел все те же ветви, залитые лунным светом на фоне темно-синего безоблачного неба. Листья в форме рыбок, перекрывающие друг друга, едва трепетали. Филип перевел этот узор на горшечную глазурь и ненадолго задумался над ним. Всего было слишком много. Филипу хотелось закричать, или зарыдать, или (он только что понял) потрогать свое тело — чисто отмытое, — как раньше он мог делать только украдкой, в грязных местах. Но нельзя оставлять следов, это будет позор. В конце концов Филип соорудил подобие защиты из носового платка, подаренного или одолженного. Потом можно будет выполоскать его под краном.
Он откинулся на подушку, взял себя рукой и нашел сладостный ритм, приводящий к мокрому, возносящему ввысь экстазу.
И замер, прислушиваясь к звукам в тишине. Крикнула сова. Ей ответила другая. Скрипнул сук. Что-то шелестело. Из крана внизу капала вода в каменную раковину. Разве можно спать в такой оглушительной тишине, разве можно пренебречь хоть секундой осознания блаженного одиночества? Он раскинул в стороны руки и ноги и почти мгновенно уснул. Он просыпался и засыпал, просыпался и засыпал, раз за разом, до самого рассвета, каждый раз заново вступая во владение тьмой и тишиной.
На следующий день они стали готовиться к празднику. На завтрак Виолетта дала Филипу яичницу, тосты и чай и сообщила, что его отрядили делать фонарики. Весь сад будет увешан фонариками. Филипу следует явиться в классную комнату, где их будут делать.
Поднимаясь по внушительной лестнице, Филип обнаружил кое-что интересное. В нише лестничной площадки на резном табурете стоял кувшин. Он был большой, из обливной керамики, внизу круглился толстым животом, а кверху сужался в высокое горло и снова расширялся, заканчиваясь тонким краем. Глазурь была серебряно-золотая с аквамариновым вуалированием. Свет плыл по бокам кувшина, словно облака отражались в воде. Кувшин был водный, водяной. В нем был вертикальный ритм вздымающихся стеблей, водорослей, и прерывистый горизонтальный ритм неравномерно разбросанных облаков из черно-бурых извивающихся запятых, которые при ближайшем рассмотрении оказались очень реалистично изображенными головастиками с полупрозрачными хвостами. У кувшина было несколько асимметричных ручек, которые, казалось, росли из него, как растут корни в воде, но потом оказывалось, что у этих корней хитрые морды и быстро мелькающие хвосты водяных змей, зеленые в золотую крапинку. Кувшин опирался на четыре темно-зеленые ноги — четырех свившихся кольцами чешуйчатых ящериц. Или крохотных драконов. Они лежали с закрытыми глазами, положив морды на плоскость.
Именно это и искал Филип. Пальцы задвигались внутри кувшина, повторяя его контуры, словно тот вращался на воображаемом гончарном круге. Филип воспринимал форму кувшина через формы собственного тела. Он замер, созерцая кувшин.
Сзади подошла Олив Уэллвуд и положила руку на плечо Филипа. От нее пахло розами. Филип удержался от того, чтобы дернуть плечом. Он не любил, чтобы его трогали. Особенно в интимные моменты.
— Этот кувшин просто удивительный, правда? Мы его выбрали из-за хорошеньких головастиков — они подходят к названию усадьбы, «Жабья просека». Малыши обожают их гладить.
Филип утратил дар речи.
— Его сделал Бенедикт Фладд. У него мастерская в Дандженессе. Мы его пригласили на праздник, но он, наверное, не придет. Его жена придет. Ее зовут Серафита, хотя от рождения она Сара-Джейн. Ее сына зовут Герант, а девочек — Имогена, она примерно твоего возраста, и Помона. Помона — ровесница Тома, и ей повезло, она такая же хорошенькая, как ее имя. Правда, это очень опасно — давать детям романтические имена, малыши ведь могут вырасти и стать некрасивыми. Помона не очень похожа на яблоко, вот увидишь, скорее на бледный нарцисс.
Филипа интересовал только горшечник. Мальчик кое-как выговорил, что кувшин просто невероятный.
— Мне рассказывали, что у него бывают религиозные припадки. Тогда домашним приходится прятать горшки, чтобы он их не разбил. И антирелигиозные припадки у него тоже бывают.
Филип издал приглушенный, ничего не значащий звук. Олив взъерошила ему волосы. Он не отстранился. Она отвела его в классную комнату.
Для Филипа слова «классная комната» означали полутемный придел часовни, где над длинными скамьями висит тяжелая атмосфера немытых тел, мучительных попыток думать и щекочущего страха перед розгой. Здесь, в этой комнате, полной света, с алым чинцем на окнах, каждый работал отдельно, в своем отдельном пространстве. Девочки в ярких фартуках походили на разноцветных бабочек: Дороти в кубово-синем, Филлис — в темно-розовом, Гедда — в алом. На Флориане был халат цвета болотных калужниц. На длинном, чисто выскобленном столе громоздились цветная бумага, склянки клея, кисти, коробки красок, банки с водой. Корзины для бумаг были переполнены скомканными забракованными творениями. Над столом царила Виолетта — там помогала вырезать ножницами по нужному контуру, здесь держала узел, пока его затягивают.
Том подвинулся, освобождая место для Филипа.
— Нет, — воскликнула Филлис. — Садись со мной!
У Филлис были волосы цвета сливочного масла, гладкие и блестящие. Филип сел рядом с ней. Она погладила его по руке, как гладят совсем маленького ребенка. Или собаку, несправедливо подумал Филип. Он вспомнил свою сестру Элси — у той никогда не было своего места ни в одной комнате на свете, и ей постоянно приходилось травить гнид, которые то и дело заводились в светлых волосах.
Дети показали ему свои фонарики. У Тома на огненном фоне сидели нахохленные вороны. У Филлис — простые цветы, маргаритки и колокольчики, на травянисто-зеленом. Дороти сделала узор из костяных рук, как у скелетов (это не человеческие руки, подумал Филип, — может, кроличьи лапки), на фиолетовом. Гедда медленно вырезала силуэт ведьмы на метле. Филлис сказала:
— Мы ей говорили, что ведьмы — это для Хеллоуина, а не для Летней ночи. Но хеллоуинские ведьмы у нее хорошо получаются, она навострилась вырезать шляпу и лохмы...
— Ведьмы же и летом никуда не деваются, — сказала Гедда. — Я люблю ведьм.
— Филип, бери бумагу и ножницы, — сказала Виолетта, — и клейстер, и краску. Нам всем охота посмотреть, что ты сделаешь.
Дорвавшись до материалов, Филип сразу почувствовал себя лучше. Он взял большой лист бумаги и покрыл его узором из головастиков, подсмотренным на большом кувшине, который ему нужно было запомнить. Потом пустил по другому листу извилистую, большую, хитрую змею, травянисто-зеленую и золотую, на синем фоне. Виолетта забрала оба листа, чтобы сделать из них фонарики. Тут у Филипа возникла еще одна идея. Он нарисовал тускло-красный горизонт, над которым высоко вздымались серые призрачные фигуры. Приплюснутые цилиндрические, и высокие, сужающиеся кверху, в форме ульев и в форме касок. С верхушек фигур срывались фестоны пламени и свинцовые языки дыма — небо Берслема, превращенное в элегантный фонарь для праздника.
— Что это, что это? — громко спросила Гедда.
— Это место, где я жил. Трубы и печи для обжига, и огонь из печей, и дым.
— Очень красиво, — сказала Гедда.
— На фонарике — да, — ответил Филип. — В каком-то смысле оно и в жизни красиво. Но и ужасно. Там нельзя дышать по-человечески.
Дороти забрала фонарики и положила их вместе с другими, уже законченными. Филлис попросила:
— Расскажи нам про это место. Расскажи про своих сестер. Как их зовут?
Она примостилась поближе к нему, так что он чувствовал тепло и тяжесть ее тела: она почти что облокотилась на него, почти обняла.
— Их звать Элси, Нелли, Амелия и Хоуп, — неохотно ответил Филип.
— А покойники? Наши — Питер, он умер как раз перед тем, как Том родился, так что ему пятнадцать лет, и Рози, она была такая милая малютка.
— Хватит, Филлис, — сказал Том. — Его это совершенно не интересует.
Филлис не уступала и придвинулась к Филипу еще ближе:
— А твои покойники? Как их зовут?
— Нед, — кратко сказал Филип. — И Роберт Оуэн. И Рози. Ну, Мэри-Роз.
Он изо всех сил старался не вспоминать их лиц и тел.
— После обеда мы возьмем Филипа с собой и будем учить его кататься на безопасном велосипеде, — сказала Дороти. — У нас у каждого свой велосипед, — сообщила она Филипу. — У них есть имена, как у пони. Мой называется Старый ворчун, потому что он все время скрипит. У Тома — просто Конь.
— А мой — На-Цыпочках, — сказала Филлис. — Потому что я едва достаю ногами до педалей.
— Это совершенно замечательное ощущение, — сказала Дороти. — Особенно когда едешь вниз, под горку. Возьми еще бумаги, сделай еще один фонарик, нам нужно развесить их на деревьях и кустах по всему саду.
«В Южном Кенсингтоне я выпрашивал обрывки бумаги, — подумал Филип. — А здесь выкидывают целые листы, если в одном углу птица не очень хорошо вышла».
Он поднял взгляд, и у него появилось неприятное ощущение, что Дороти читает его мысли.
Дороти в самом деле приблизительно отгадала его мысли. Она не знала, как ей это удалось. Она была умная, внимательная девочка, и ей нравилось думать, что она несчастна. Но она воспитывалась в фабианской атмосфере рациональной социальной справедливости и потому, столкнувшись с Филипом, его голодом, его умолчаниями, была вынуждена признать, что «не имеет права» быть несчастной, ведь она занимает чрезвычайно привилегированное положение по сравнению с другими людьми. Она сказала себе, что считает себя несчастной по совершенно несерьезным причинам. Потому что ее, как старшую из девочек, используют в качестве бесплатной помощницы няньки. Потому что она не мальчик, и к ней не приглашают учителя математики и языков, как к Тому. Потому что Филлис, хорошенькую и балованную, любят больше, чем ее. Потому что Тома любят намного больше. Потому что она чего-то хочет и сама не знает чего.
Ей только что исполнилось одиннадцать лет — она родилась в 1884 году, «ровесница Фабианского общества», как заметила Виолетта. В те дни они называли себя Братством новой жизни, а Дороти и была новой жизнью, впитывала в себя социалистические идеи с молоком матери. Взрослые часто шутили про нее, даже более пикантно и рискованно, и это ее раздражало. Она не любила, когда о ней говорили. В равной степени она не любила, когда о ней не говорили, когда взрослые болтали на свои возвышенные темы, как будто ее тут и не было. В общем, на нее невозможно было угодить. Даже в одиннадцать лет ей хватало ума понять, что на нее невозможно угодить. Она много думала о чувствах других людей и анализировала их, и только недавно начала понимать, что другие люди, как правило, этого не делают и не отвечают ей тем же.
Сейчас она была занята мыслями о Филипе. «Он думает, что мы к нему добры из снисходительности, но это на самом деле не так, мы просто дружелюбны, мы всегда такие, но ему это кажется подозрительным. Он не хочет, чтобы мы знали по правде, откуда он взялся. Мама думает, что он был несчастен дома и у него злые родители, это один из ее любимых сюжетов. Она должна была бы понимать, как я понимаю, что ему это не нравится. Я думаю, он чувствует себя виноватым, потому что его родные не знают, где он и что с ним. И теперь, когда мы подняли вокруг него такую суматоху, чувство вины у него стало сильней, чем раньше, когда он прятался в подвалах Музея».
«Интересно, чего ему хочется?» — спросила она себя и не нашла ответа, потому что Филип об этом молчал, как и почти обо всем остальном.
Урок езды на безопасном велосипеде состоялся во второй половине дня, как и было обещано. Филипу одолжили велосипед Виолетты Гримуит, солидную машину синего цвета. Виолетта прозвала свой велосипед Колокольчиком. В лесу на склоне холма было полно колокольчиков. Но Том и Дороти считали, что это название какое-то слюнявое.
Том на своем Коне ездил кругами по травянистой поляне между задней дверью дома и лесом, показывая, как надо держать равновесие. Дороти придержала седло, помогая Филипу забраться на велосипед, а Филип изо всех сил пытался не упасть.
— Это гораздо проще, когда едешь, — сказала она. — На стоящем велосипеде никто не удержится.
Филип поехал и упал, и снова поехал, и снова упал, и опять поехал, и, крутя педали, доехал до середины поляны, опять упал и опять поехал и объехал, хоть и слегка виляя, вокруг всей поляны. Впервые со своего приезда в «Жабью просеку» он громко засмеялся. Том выписывал восьмерки. Появилась Филлис и сделала несколько аккуратных кругов. Том сказал, что Филип уже достаточно научился, можно ехать по дороге, и они поехали, Том впереди, потом Филип, потом Дороти, за ней Филлис. Они поехали по Френчес-лейн, ровной, зажатой меж двух изгородей из боярышника, а потом свернули вверх по лесистому склону, по Скарп-лейн, под нависающими ветвями деревьев, под которыми лежали колодцы густой тени, перемежаясь ослепительными пятнами солнца. Филипу пришла в голову идея темного-темного горшка, вроде ведьмина котла, с блестящими потеками на матовой поверхности. Стоило ему подумать о воображаемом горшке, а не о металлической конструкции, на которой он сидел, он стал лучше держать равновесие и прибавил скорости.
Дороти, ехавшая за ним, тоже прибавила ходу. У нее было пристрастие к скорости, которое сильнее всего в девочках одиннадцати-двенадцати лет. Во снах она неслась на скаковой лошади по берегу моря, меж песком и водой. С тех пор как у нее появился велосипед, ей часто снилось, что она летает, совсем низко, у самой земли, задевая цветы на клумбах, сидя, как факир, на невидимом ковре.
Они въехали вверх по склону и помчались по ровной поляне. Том спросил:
— Может, рванем вниз по склону Боск-Хилл?
— Он довольно крутой, — ответила Дороти. — Думаешь, Филип справится?
— Справлюсь, — ухмыльнулся Филип.
И они свернули на Боск-Хилл-лейн, которая действительно шла круто вниз и местами резко поворачивала. Теперь Дороти ехала перед Филипом и позади Тома, который прибавил скорости и удалялся от них. Дороти ощутила знакомое упоительное стеснение в груди. Она оглянулась, чтобы посмотреть, как там Филип. Он был ближе, чем она думала, велосипед вильнул, и она оказалась у Филипа на дороге. Он дрогнул, перевернулся и пролетел по воздуху, почти прямо над Дороти. Она свалилась на дорогу, ободрав себе щиколотки. Колеса и педали велосипеда продолжали крутиться. Мимо проплыла Филлис, крепко держась за руль и чопорно выпрямив спину.
Дороти подняла Старого ворчуна и пошла смотреть на Филипа. Он распростерся на спине под дубом, утопая в зарослях дикого чеснока, смятых при падении и оттого невероятно резко пахнущих. Филип лежал неподвижно, глядя в небо сквозь крону дерева.
— Это я виновата, — сказала Дороти. — Я во всем виновата. Тебе больно?
— Нет, кажется, ничего. Только дух отшибло.
Он расхохотался.
— Что такого смешного?
— Оказывается, за городом есть вещи, которые воняют не хуже городских. Только травяной вонью, а не дымной. Я в жизни ничего подобного не нюхал.
— Это дикий чеснок. Да, он не очень приятно пахнет.
Филип все смеялся и никак не мог перестать.
— Ужасно разит. Но это для меня новое, понимаешь.
Дороти села на корточках рядом с ним:
— Ты можешь встать?
— Да, встану через минутку. Дай чуток полежать. У меня дух отшибло, как говорится. Велосипед поломался?
Дороти проверила велосипед. Он был невредим.
Филип лежал в омерзительном и притягательном запахе, расслабляя мышцы, одну за другой, так что земля удерживала его обмякшее тело, а он чувствовал все неровности, раздавленные стебли, узловатые корни деревьев, камушки, холодную плесень в самом низу. Он закрыл глаза и задремал на секунду.
Он очнулся оттого, что его трясла Дороти.
— С тобой точно все в порядке? Я тебя чуть не убила. У тебя нет сотрясения мозга или чего-нибудь вроде?
— Нет, я совершенно счастлив, — сказал Филип. — Здесь.
Дороти медленно произнесла, обдумывая каждое слово:
— Я тебя чуть не убила.
— Но ведь не убила же.
— Если хочешь, — предложила Дороти, выпуская на волю мысль, которая крутилась у нее в голове уже несколько часов, — можешь послать открытку своей маме, просто написать, что с тобой все в порядке и чтобы она не беспокоилась, понимаешь... Я могу достать тебе открытку и потом ее отправить.
Филип молчал. Мысли шевелились у него в уме. Он нахмурился.
— Извини, — сказала Дороти. — Я не хотела тебя расстроить. Я хотела помочь.
Она сгорбилась, обхватив руками колени.
— Да нет. Ты меня не расстроила. И ты права. Надо написать мамке. Если ты мне достанешь открытку, я напишу. Спасибо.
Назад они доехали в более серьезном настроении. Дороти достала из письменного стола Олив почтовую открытку и марку. Филип неловко взял в руку перо и уставился на пустой прямоугольник. Дороти, не желая стоять у него над душой, отошла к окну. Раз или два Филип вроде бы принимался писать, но так и не начал. Дороти решила, что у него получится, если она уйдет. Стоило ей положить руку на дверную задвижку, Филип вдруг сказал:
— Дай слово, что ты не станешь это читать.
— Обещаю. Письма — это частное дело. Даже открытки. Я могу дать тебе конверт, тогда то, что ты напишешь, будет твоей личной тайной. Хочешь?
— Угу, — ответил Филип. И добавил: — Это еще и потому, что я пишу с ошибками.
Он написал:
Дарагия Мама и фсе
Я фпорядке и скора апять напешу. Надеюс вы здаровы. Филип.
Дороти принесла конверт, и Филип надписал адрес. Он был благодарен Дороти за то, что она поняла его желание и его долг, и в то же время сердился на нее за это.
3
Уэллвуды устраивали праздник Летней ночи уже в третий раз. Они приглашали социалистов, анархистов, квакеров, фабианцев, художников, издателей, свободных мыслителей и писателей, которые жили, все время или на выходных, в перестроенных коттеджах и фермерских усадьбах, домах в стиле Движения искусств и ремесел, таунхаусах, построенных когда-то для рабочих, в деревнях, лесах и на полях Кентского Уилда, Северного и Южного Даунса. Все эти люди сбежали от городского дыма и чаяли наступления утопии, в которой никакого дыма больше не будет. Праздники Уэллвудов не были замороженными фабианскими чаепитиями с практичными чашками и блюдцами, без малейшего оттенка веселья. Не были они и политическими митингами с дебатами по поводу Совета Лондонского графства, «Свободной России» и голода в Российской империи. Это были веселые, несерьезные сборища при свете фонариков, карнавалы с костюмами из шелка и бархата, маскарады, танцы под флейту и скрипку.
Дети смешивались со взрослыми, заговаривали с ними первые, и взрослые тоже говорили с детьми. Дети в этих семьях конца девятнадцатого века отличались от детей предшествующих и последующих поколений. Они не были ни куклами, ни миниатюрными взрослыми. Их не упрятывали с глаз долой в детские, их допускали на семейные трапезы, их зарождающиеся характеры воспринимались всерьез и обсуждались с рациональной точки зрения за столом или во время долгих прогулок по окрестностям. И в то же время дети этого мира жили своей отдельной, во многом независимой детской жизнью. Они носились по лесам и полям, строили укрытия, лазили по деревьям, охотились, ловили рыбу, катались на пони и на велосипедах в обществе только других детей. А других детей было много. Семьи были большие, и по мере того, как члены семьи рождались — или умирали, — баланс семейных отношений едва заметно смещался. Еще в этих семьях ребенок принадлежал к какой-либо группе: он был «один из старших» или «один из младших». Старшие часто игнорировали или порабощали младших, и младшие вечно бунтовали. Старшие же были недовольны, что их заставляют всюду таскать с собой младших братьев и сестер, которые только мешают устраивать опасные вылазки.
Родителям — Уэллвудам в том числе — было трудно придерживаться на практике того, во что они верили в теории: любить всех детей одинаково. Когда у мужчины и женщины восемь, десять, двенадцать детей, любовь распределяется совершенно по-другому, чем в семьях с одним-двумя детьми. Любовь зависела и от интервала между детьми, и от здоровья родителей, и от смертей, и от случайности, по которой один ребенок выживал в эпидемии или после несчастного случая, а другой погибал. В некоторых семьях самый любимый ребенок умирал и по-прежнему оставался самым любимым. В других семьях покойники, судя по всему, исчезали без следа и больше не упоминались в разговорах, словно никогда не существовали. В иных семьях очередного рождения страшились и всячески избегали, только для того, чтобы позднее, явившись на свет среди крови и опасности, этот ребенок стал самым любимым.
Родителям этих лелеемых детей в большинстве далеко не так повезло. Если они и пользовались в детстве свободой, то лишь потому, что о них вообще не заботились или хотели закалить трудностями, а не потому, что свобода была им полезна.
Свобода как этих детей, так и этих родителей во многом зависела от самоотверженного труда слуг и преданных тетушек, которые в дни более строгого воспитания были старомодными сестрами.
Уэллвуды казались одной из типичных открытых и приятно многочисленных семей. Хамфри Уэллвуд был вторым сыном квакера — торговца шерстью, который, в свою очередь, приходился младшим братом квакеру-банкиру. Семья происходила с севера Англии, из мест, где Йоркшир встречается с Ланкаширом, к югу от Кумбрии. Хамфри родился в 1856 году, а его брат Бэзил — двумя годами раньше. В 1873 году Бэзила отдали в дядин брокерский бизнес, работать клерком у биржевого брокера. Он преуспел в Сити, перешел на работу в английско-немецкий банк «Вильдфогель и Квик» и в 1879 году женился на дочери Вильдфогеля Катарине. Ему в это время было двадцать пять лет, а ей двадцать семь.
Хамфри проявил большие способности во время обучения в школе, и его квакерские учителя уговорили Джорджа Уэллвуда послать сына в Оксфорд. В 1874 году он начал учебу в колледже Бэллиол, где попал под влияние Бенджамина Джоуэтта и Т. Х. Грина, которые верили, что обучают будущих вождей человечества, но также в значительной степени ощущали то, что Беатриса Уэбб в молодости описывала как растущее «классовое сознание греха» или чувство вины. Движимое этим сознанием греха, поколение молодежи, о котором идет речь, решило лично идти к беднякам и творить добро. Эти юноши и девушки переселялись в Ист-Энд и управляли многоквартирными домами для бедных. Они проводили занятия по университетской программе для рабочих. Г. М. Хиндман, основавший в 1882 году Социал-демократическую федерацию, скептически смотрел на мотивы этих прекраснодушных людей. Они плывут по течению модного сочувствия, говорил он; они открыли, что за стеной Английского банка стоят кирпичные дома, в которых живут два или три миллиона человек, многие — в прискорбной нищете. Хиндман был циник. Он как-то сказал, что «множество браков среди высших классов стало результатом этих будоражащих экскурсий в неизведанные места обитания бедняков».
Хамфри закончил университет в 1877 году, двумя годами позже христианского деятеля Арнольда Тойнби, чью преданность беднякам и раннюю смерть каноник Барнетт увековечил основанием Тойнби-холла. Тойнби-холл был задуман как сообщество выпускников университета, желающих жить среди бедняков и просвещать их. Хамфри, пылающий энтузиазмом, вполне предсказуемо переехал в Ист-Энд и снял две комнатушки в Колледж-Билдингс, образцовом многоквартирном доме для бедных. Хамфри читал лекции в самых разных местах и на любые темы: английский язык, идеалы демократии, санитария и гигиена, Генрих V, золотой стандарт, английская литература. В Оксфорде он, как все, изучал древние языки и математику. Литература приводила его в восторг. Он рассказывал ученикам про Шекспира и Раскина, Чосера и Джонатана Свифта, Уордсуорта, Кольриджа и Китса. У него хорошо получалось; он обзавелся свитой преданных учеников самого разного возраста. Он читал им вслух: с жаром, точно выражая мысли, охотно разъясняя непонятные места увлеченным слушательницам после окончания лекции.
В 1879 году он ставил «Сон в летнюю ночь» в зале при церкви в Уайтчепеле. Труппа была эпатажной смесью настоящих рабочих и захожих идеалистов. И столь же эпатажной смесью мужчин и женщин. О чем бы ни думал Хамфри, он почти постоянно думал о женщинах. Ему грезились талии и щиколотки, распущенные волосы и ляжки, ходящие ходуном под скромными юбками. В пьесе «Сон в летнюю ночь» много хороших женских ролей, но Хамфри знал, что этот проект полностью держится на двух молодых женщинах, которые посещали все его лекции, садились на первом ряду и задавали умные вопросы. Эти девушки бросались в глаза среди кокни, ирландцев, поляков и немецких евреев. Они говорили на протяжном йоркширском диалекте. Хамфри и сам говорил как образованный, но йоркширец, укорачивая гласные. Девушки носили простые, хорошо скроенные темные платья и очень хорошенькие шляпки, украшенные веселенькими шелковыми цветочками — анемонами, анютиными глазками, маками, фиалками. Старшая была поразительно красива — огромные карие глаза и узел волос цвета красного дерева. У младшей глаза тоже были карие, но не такие большие, обычно опущенные долу, и каштановые волосы затянуты в узел чуть потуже. Девушки были явно не из породы захожих дам-благотворительниц. Нет, они были из достойных бедняков — перчатки изношены до дыр, ботинки состарились и потрескались, — но все же в этих девушках под слоем респектабельности было что-то дикое, свободное, импонирующее вольной жилке в натуре Хамфри.
Он подружился с молодым кембриджцем Тоби Юлгривом, который писал диссертацию по Овидию в надежде получить место в Питерхаузе и читал жителям Ист-Энда лекции о британских волшебных сказках и мифах, — это было его истинное и страстное увлечение. Христианские убеждения Тоби мало-помалу испарялись, но он верил, что и в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится большинству людей. Однажды за пивом он серьезно сказал Хамфри, что видит непостижимых тварей не только в лесах вокруг Кембриджа: они шныряют меж ларьков на рынке и выглядывают из окон на Майл-Энд-роуд. «Наш мир взаимопроникаем, — сказал он. — Раньше мы это знали. Но утратили знание». Он был широкоплечий, среднего роста, с мускулистыми ягодицами и икрами, с густой кудрявой шевелюрой львиной масти. Глаза у него были голубые, как у гаммельнского Крысолова, или как пламя свечи, если сыпануть на него соль. Люди ходили на лекции Тоби по разным причинам. Ювелиры и скульпторы — за идеями для брошек и сюжетами резных поделок с «маленьким народцем» или призраками. Верующие, неудовлетворенные своей религией, приходили в попытках восполнить утраченную духовную жизнь. Матери — за сказками, чтобы потом рассказывать их детям. Учителя — за знаниями. А потом люди стали приходить, потому что прошел слух: никогда заранее не знаешь, что скажет мистер Юлгрив или на какое сокровенное знание заявит права.
Друзья с некоторым опозданием заметили, что две барышни Гримуит сидят в первом ряду и на литературе, и на британском фольклоре. И еще поняли, что оба влюблены в старшую мисс Гримуит.
— Ты ей больше нравишься, — сказал Тоби. — У тебя есть gravitas [1]. Ты производишь на нее впечатление. А я просто клоун.
Хамфри не стал спорить; он и сам так думал. Он сказал:
— Мы можем поставить «Сон в летнюю ночь», а она будет Титанией. Я уверен, она справится. Задействуем обе группы, мою и твою.
Разумеется, режиссером стал Хамфри. В конце концов он понял, что и роль Оберона не в силах никому отдать. Он предложил Тоби роль Пэка, но Тоби сказал, что всегда хотел сыграть Основу, — к тому же это хотя бы дает шанс полежать в объятиях мисс Гримуит. Они выпросили право использовать зал при церкви в Уайтчепеле и попробовали мисс Гримуит на роль — ее звучный, легкий голос подошел идеально. Мисс Виолетте Гримуит предложили играть Гермию или Ипполиту, но она сказала, что не хочет выступать, а лучше займется костюмами, так как она портниха. На роль Пэка нашли идеальную кандидатуру — жилистого мальчика-кокни, уличного торговца, а на роль Елены взяли высокую светловолосую библиотекаршу. Афиняне представляли собой приятную для глаза пеструю смесь гостей-джентльменов и туземцев-рабочих. Все единодушно сочли костюмы гениальными. Олив Гримуит была в невесомом платье цвета лунного серебра с павлиньими перьями и шелковыми цветами и босиком. Хамфри хотелось пасть ниц и целовать эти ступни. Он истязал себя, подробно перечисляя в уме прочие деяния, которые хотел бы совершить. В конце волшебной пляски, завершающей пьесу, он закружил Олив, увлек ее за кулисы и заключил в объятия.
В 1880 году они расписались в уайтчепельском регистрационном бюро. Свидетелями были Виолетта и Тоби Юлгрив.
Хамфри не сразу сообщил родителям, что он теперь женат. Отец присылал ему из Йоркшира содержание, так как верил, что Хамфри готовится к карьере университетского преподавателя, и не возражал против его благотворительных трудов, а даже одобрял их. Сын Питер родился через два месяца после свадьбы. Через несколько месяцев Хамфри представил молодую жену с младенцем своему старшему брату. Катарина Уэллвуд в то время тоже ожидала ребенка (Чарльза, который родился в 1881 году). Младенец Питер был неотразим, как раз в возрасте уверенности в себе и улыбок, Олив — элегантна и держалась как истинная леди. Бэзил прочитал Хамфри лекцию о непредусмотрительности, об ответственности и нашел ему постоянную работу — клерком в Английском банке. Не о такой работе мечтал Хамфри, но эта давала постоянный, хотя и скромный, доход. Хамфри, Олив, Виолетта и Питер въехали в небольшой домик в Бетнал-Грин. Хамфри обратил свой острый ум на банковское дело. Денежная система должна базироваться на серебре и золоте, на обоих металлах, к очевидной выгоде для нашей Империи и торговли с Индией. Бэзил, как и большая часть Сити, поддерживал золотой стандарт. Бэзил почувствовал, но вслух не сказал, что Хамфри не только безответственный человек, но еще и неблагодарный перебежчик.
1881 год был годом начинаний. Он положил начало нескольким идеалистическим проектам и группам, основатели которых верили, что мир скоро перевернется к лучшему. Демократическая федерация, Общество изучения паранормальных явлений, Теософское общество, движение против вивисекции. Все они ставили своей целью изменение, полную перестройку человеческой природы. Молодые Уэллвуды ознакомились с этими обществами и вступили в кое-какие из них. Тоби Юлгрив, ставший почти членом маленькой семьи, немедленно присоединился к теософам и друзей увлек за собой. Все трое также посещали первые собрания Демократической федерации, куда ходили по большей части немецкие и австрийские социалисты и анархисты, несколько недовольных рабочих-англичан и горстка университетских идеалистов. Уильям Моррис защищал австрийского диссидента Иоганна Моста, написавшего «торжествующий гимн» (по выражению Морриса) в честь убийства царя Александра II. Моста отправили в британскую тюрьму, и Хиндман устроил публичную демонстрацию. Бэзил умолял Хамфри ни во что не ввязываться.
В октябре 1882 года Эдвард Пиз основал «Братство новой жизни», и молодые Уэллвуды стали ходить на встречи. И там, и в Демократической федерации они обсуждали организацию безработных, питание детей в пансионах, национализацию шахт и железных дорог, государственное строительство домов, пригодных для народа.
Зимой 1882 года, на рождественской неделе, Питер заболел крупом и умер. В ту же неделю родился Томас Уэллвуд.
В 1883 году Олив Уэллвуд сильно болела. Ведение хозяйства в домике взяла на себя Виолетта. Умер Карл Маркс. Террористы предприняли попытки взорвать местные отделения государственных служб, редакцию газеты «Таймс», битком набитые поезда метро, в которых люди возвращались с выставок в Южном Кенсингтоне. Бэзил повел Хамфри к себе в клуб и там очень твердо заявил ему, что анархизм — это никуда не годится. Не пристало служащему Английского банка открыто якшаться с анархистами.
Хамфри в ответ повез жену — чтобы сменить ей обстановку, как он сказал Катарине, — в Мюнхен, где они несколько раз тайно встречались с вольнодумцами и социалистами. Они ходили в Старую пинакотеку и присутствовали на открытии пивного погребка «Левенбройкеллер», где все было как положено — салфетки, скатерти, четыре военных оркестра. Олив оправилась настолько, что плясала на Фашинге. Том остался дома с Виолеттой — в первый раз, но не в последний.
В 1884 году от «Братства новой жизни» отпочковалось Фабианское общество. Хамфри и Олив, к которой вернулась бледная красота, вступили в него. Вступил и Тоби, хотя посещал собрания нерегулярно. Олив на всех собраниях вязала, не подымая головы, щелкая спицами.
Поздней осенью 1884 года родилась Дороти. Весной 1886 — Филлис. В 1888 — мертвая девочка.
В 1887 году Олив написала несколько рассказов для детей и продала в разные журналы. Сюжеты были самые обычные, о детях в трудном положении — богач подбирает сиротку, дети шахтеров пытаются спасти семью от голода, больного ребенка возвращает к жизни говорящий попугай.
В 1890 году родилась Гедда, в 1892 — Флориан.
В 1889 году вышла в свет «Синяя книга фей» Эндрю Ланга. В детские сказки вдруг ворвалась настоящая магия, мифы, выдуманные создания и миры. Ранние рассказы Олив были мрачно-сентиментальными и непритязательными. Приход — или возвращение — волшебной сказки словно открыл потайную дверь в воображении Олив. Она стала писать неудержимо, ясно и смело. Идеи она брала из книжек Тоби о фольклоре. Она изобретала свирепые, прячущиеся от людей эльфийские и гномьи племена. Она написала «Эльфинию и лесных зверей», «Сандалии саламандры», «Королеву ледяных пещер», «Потаенный народец из пенала», «Скучную скважину» и «Историю пропавшего мальчика, или Кустарник». Они создали ей имя и принесли неплохие деньги. Сейчас Олив, кроме журнальных рассказов, писала небольшие книжки и книги побольше.
Молодая семья Уэллвуд решила переехать за город, купила пришедшую в упадок усадьбу «Жабья просека», восстановила ее и устроилась там ко времени рождения Флориана (в середине лета 1882 года). В 1893 году родилась еще одна девочка и прожила неделю.
В том году и Хамфри Уэллвуд начал писать для журналов и газет. Он написал несколько статей для «Экономиста» под собственным именем. А еще он начал публиковать в сатирическом еженедельнике «Мидас» серию анонимных репортажей о сомнительных финансовых сделках. Хамфри писал под псевдонимом Мартовский Заяц. Он писал о «кафрском цирке» и о деятельности «лордов Рэнда», торговавших южноафриканским золотом. Он интересовался новыми вестралийскими шахтами (иные из них были столь же вымышленными, как «Скучная скважина» из сказки Олив). Дети Уэллвудов играли в охоту на гномов и гигантских червей — погоня шла через «Шахту прыгунов», «Норвежскую», «Гленов рудник», «Розовый рудник», «Деревенский», «Рудник Гольденхюйз» или через «Награду Бейли», «Синицу в руке», «Императрицу Кулгарди», «Веру», «Пан или пропал», «Вовремя», «Копи царя Соломона», «Nil Desperandum» [2] и «Сокровища мира». Многие из них Том представлял себе очень ясно. «Розовый рудник» был цепью сверкающих пещер из розового кварца, из которой по склонам гор струились извилистые реки. В «Nil Desperandum» было черно и скользко, мрачные огни пылали в потайных трещинах, воронки открывались к небу. Том знал, что из глубины шахты даже днем видны звезды, и пытался вообразить, как это выглядит на деле. Небо, на котором виднеются звезды, — оно синее или черное? А почему?
Бэзил Уэллвуд делал деньги на «кафрском цирке». Он и Хамфри давал советы по вложениям небольших сумм, но Хамфри вместо этого почти сразу вложил деньги из принципа в акции велосипедной фабрики. Дела компании по производству велосипедных шин «Данлоп» пошли в гору, и Хамфри вдруг обнаружил, что его финансовые дела более чем хороши. Хамфри нанял учителя математики с дальним прицелом — подготовить Тома в Итон. Тоби помогал с изучением классиков.
На празднике Летней ночи 1895 года пили шампанское.
[1] Серьезность (лат.).
[2] «Не отчаиваться» (лат.).
[1] Серьезность (лат.).
[2] «Не отчаиваться» (лат.).
4
Дата праздника Летней ночи могла слегка меняться. Хамфри объяснил Филипу, что день летнего солнцестояния, то есть самый длинный день солнечного года, на самом деле выпадает на 21 июня. Но европейский праздник святого Иоанна справляют вечером 23 июня, предшествующим Иванову дню 24 июня, который также называется «Серединой лета».
— На практике, — сказал Хамфри, который считал, что с молодежью надо говорить как с равными, — на практике мы со своим праздником поступали то так, то этак — выбирали то истинный день солнцестояния, то Иванов день, смотря по тому, на какой день недели они выпадали, чтобы удобнее было праздновать. Сегодня пятница, двадцать первое — истинная середина лета, хотя канун середины лета был вчера, и с рассвета субботы дни начнут убывать, несколько раньше европейской даты праздника... В субботу полнолуние, так что мы будем праздновать, если повезет с погодой, при свете растущей выпуклой луны. Выпуклый — хорошее слово.
Хамфри любил смаковать слова. Филипа встревожил поток речи, летевший с той стороны стола. Обычно слова не обрушивались на Филипа в таких количествах. Но теперь он смог представить себе растущий выпуклый диск, и его неуемное воображение принялось расписывать большую чашу убывающими выпуклыми, растущими выпуклыми и истинно круглыми лунными дисками. Может получиться интересно. Серебро и золото на темном кобальте.
— Пятница — удобный день для наших друзей, — сказала Олив. — Они все соберутся здесь на выходные, подальше от города. Филип, мы тебя совсем загоняем приготовлениями.
— Это хорошо, — сказал Филип.
Все семейство, чада, домочадцы, прислуга и Филип самозабвенно трудились. Олив и Хамфри оба закончили свою писанину — уже почти на рассвете, до завтрака. Кухня полнилась запахами готовки, и на обед всем дали только хлеб и сыр, потому что печь и большая часть посуды были уже заняты. Филипа отрядили украшать сады — декоративный и плодовый. Он помогал расставлять складные столы на газоне возле дома, а потом в особо живописных местах разместил стулья небольшими уютными группами, словно для заговорщиков. В ход пошли все стулья — плетеные, конторские, школьные, кресло-качалка из детской, железные садовые. Их расставляли под увитыми зеленью сводами беседок, на прогалине посреди кустарника, даже в саду под яблонями. Потом фонарики — их развесили на ветках, скрыли в купах густой травы и декоративного чертополоха цветочных бордюров. Филипа вместе с Филлис послали вешать фонарики в плодовый сад. Это было запущенное, унылое место. С искривленных ветвей старых плодовых деревьев свисали мох и лишайники, с воли в сад проникли колючие плети ежевики и местами задушили все остальное. На некоторых деревьях были какие-то странные надстройки из досок, с кусками свисающих веревок. Филлис сказала, что они хорошо подойдут для иллюминации. Она привязала фонарики к веревкам и велела Филипу залезать наверх.
— Это старые дома на деревьях, — сказала Филлис. — С тех пор, когда мы были еще маленькие. В эти даже Гедда может залезть. У нас теперь есть другой дом на дереве, гораздо лучше — далеко в лесу. Но это секрет, — неуверенно добавила она.
Филип в это время подбирал жесткую падалицу. Филлис предупредила, чтобы он остерегался ос.
— В яблочках бывают всякие червячки — вдруг возьмет да и высунет черненькую головку. Ужасно противно, только подумать — вонзаешь зубы, а там что-то извивается...
Они побрели вглубь сада. Филлис показала пальцем:
— Эти два дерева — волшебные, из сказки. Золотая яблоня и серебряная груша. Золото и серебро можно увидеть только при определенном свете, а так приходится верить. Эти два дерева — в самой середине. Их ветви касаются земли, а вершины — неба. А все это... переступень, шиповник... растет вокруг, чтобы их украсить.
Деревья были старые, запущенные, прекрасные. Филип смотрел на сплетения узловатых ветвей и жалел, что у него нет карандаша. Филлис взяла его за руку и потянула вперед:
— А вот тут лежит Рози. Видишь, вон круг из белых камушков. Она под ними и под яблоней и под грушей.
Котенок? Птичка?
— На день ее рождения мы приносим ей цветы. И делаем возлияния яблочного сока. Мы ее не забываем. Мы ее никогда не забудем.
Голос у нее был торжественный и густой от избытка чувств.
— Она прожила на свете неделю, всего одну недельку, и ее не стало. У нее были совершенно дивные, изумительные пальчики на ручках и ножках. А теперь она спит здесь.
Филлис почтительно склонила голову. Филип почуял актерскую игру, но не облек свою мысль в слова. Он немилосердно спросил себя, задумывалась ли Филлис хоть раз, что там лежит на самом деле — под белыми камнями, меж корней. Он сказал туманно и фальшиво:
— Это хорошо.
Он швырнул горсть жестких мелких яблочек в заросли ежевики. Повесил фонарь с полумесяцем и темной тенью птицы на ветви груши, над белыми камнями.
Филлис взяла его за руку. Прижалась всем тельцем к его боку. Филип почувствовал, что ее плоть всегда была чистой и приятной, а его собственная, по контрасту, — никогда. Это снова было только ощущение, не облеченное в слова. Он отстранился.
Когда сад был украшен, а обед из хлеба с сыром съеден, все начали облачаться в костюмы. Виолетта одевала детей, в том числе Филипа, в классной комнате, а Хамфри и Олив пошли надевать собственные наряды, напоминавшие об «их» пьесе — «Сне в летнюю ночь», не строго елизаветинские и не афинские, но летящие шелка и льны в духе Движения искусств и ремесел, серебристые и золотистые, цветастые и струящиеся.
В классной комнате стоял большой раскрашенный сундук, имитация ренессансного сундука для приданого. На нем были нарисованы лесные пейзажи, темные поляны, бледные дамы, гончие и белый олень. Это был костюмерный сундук. В нем хранилась необычайно богатая коллекция шелковых сорочек, рубашек с оборочками, вышитых шалей, обручей с вуалями и корон для принцев.
— Очень удобно, когда тетушка — портниха, — сказала Виолетта, обращаясь к Филипу. — Я могу превратить тогу в бальное платье или наоборот и сделать волшебные шелковые цветы из старого чулка. Я думаю, Гедду стоит одеть Душистым Горошком. Вот дивная розово-сиреневая сорочка.
Гедда рылась в ворохах шелка, запустив в сундук обе руки.
— Я хочу быть ведьмой, — сказала она.
— Милая, я же тебе сказала, — произнесла Виолетта. — Ведьмы бывают на Хеллоуин. А в Летнюю ночь должны быть феи. С хорошенькими крылышками из органзы. Вот погляди.
Пришла Олив со сверкающей пряжкой — попросить Виолетту пришить ее к шарфу. Олив взъерошила волосы Гедды.
— Ну пусть будет ведьмой, если хочет, — небрежно сказала она. — Мы же хотим, чтобы они были довольны, правда? Чтобы могли бегать и веселиться. Милая, ты нашла ведьминский костюм? Вот моя старая черная шаль с прекрасной бахромой. Видишь, на ней вышит огнедышащий дракон. А вот старая танцевальная туника Филлис — Ви, ты только прихвати в паре мест, чтобы она не распахивалась. А вот брошка, стеклянный жук, то, что надо. А Филип сделает тебе шляпу из черной бумаги. Филип, только не слишком большую, чтобы она не сваливалась.
— И метлу, — сказала Гедда.
— Тогда сходи на кухню и попроси там веник.
У Виолетты было такое лицо, словно она вот-вот взорвется, — похожее выражение бывало и у Гедды, — но она повиновалась, и скоро малышка уже кружилась в вихре черных крыльев летучих мышей и летящей по воздуху бахромы. Виолетта одела покорного Флориана в желтое и зеленое, в куртку с фестонами — он изображал Горчичное Зернышко. На голову ему водрузили остроконечную фетровую шапочку, которую он все время растерянно трогал. Филлис приняла отвергнутую роль Душистого Горошка, и ее любовно задрапировали маркизетом — сиреневым, розовым, цвета слоновой кости. Надели на нее серебристый плащ, напоминающий сложенные крылья стрекозы, а на голову — венок из шелковых цветов.
Дороти изображала Мотылька — в серой бархатной тунике, в плаще, на котором были нарисованы глаза. Виолетта пыталась уговорить ее надеть проволочные усики, но тщетно.
Тому выпала роль Пэка. Он был босиком, в обтягивающих коричневых лосинах и куртке цвета листьев. Он тоже отверг головной убор и сказал, что вплетет в волосы веточки. Филлис сказала, что Пэк не носил очков. «Этот носит, — ответил Том, — иначе свалится в пруд или запутается в колючках».
Возник вопрос: что делать с Филипом. Он сказал, что не наденет костюм, потому что будет чувствовать себя по-дурацки. Никто не хотел предложить ему должность рабочего сцены. Это было бы грубо. Том спросил:
— Может, ты наденешь тогу и будешь афинянином?
Филип не знал сюжета «Сна в летнюю ночь», и выбор костюмов привел его в полнейшее недоумение. Он сказал, что, наверное, не сможет ходить в тоге. По правде сказать, он не представлял себе, что это вообще такое.
— Я не люблю, чтоб на меня глядели, — сдавленно сказал он.
Все дети, даже те, что прыгали кругом, хвалясь нарядами, прекрасно понимали, что значит, когда человеку не хочется, чтобы на него смотрели. Тут Дороти осенило. Она сняла со стены кубово-синий халат, который Том надевал на уроки рисования:
— Ты можешь нарядиться художником. Кстати, ты и по правде мог бы в нем ходить, когда делаешь горшки и все такое.
У халата было высокое горло, широкие рукава, глубокие карманы. Он надевался сверху на одежду. Во многих отношениях это был меньший маскарад, чем теперешняя заемная одежда Филипа. Он посмотрел на свои ноги.
— Ты можешь пойти босиком, — сказала Дороти. — Мы ходим босиком.
— Ты можешь пойти как есть, — сказал Том.
Филип надел халат. Он был удобный. Филип позволил Виолетте переменить ему ботинки на сандалии. Все, кто не ходил босиком, были в сандалиях.
— Теперь ты можешь бегать и прыгать, — сказала Дороти.
Ноги Филипа под ремешками сандалий были бледные, но не белые. Мысль о том, что можно бегать и прыгать, доставила ему мимолетное удовольствие.
В середине дня начали прибывать гости. Не все сразу, а одни за другими, из близких и далеких краев, в экипажах, двуколках, запряженных пони, пролетках, взятых на железнодорожной станции, пешком, а в одном случае даже на трехколесном тандем-велосипеде.
Хамфри и Олив стояли на ступенях и встречали гостей. Супруги оделись Обероном и Титанией. На Хамфри была шелковая куртка, расшитая флорентийскими арабесками, черные бриджи и объемистый бархатный плащ, державшийся под невероятным углом на шелковом шнуре, перехватившем плечо. Хамфри выглядел нелепо и прекрасно. Эта роль его забавляла. На Олив был плиссированный оливковый шелк поверх плиссированного белого льна, а сверху батистовый плащ с прожилками — словно крылья стрекозы. Волосы увиты жимолостью и розами. Рядом стояла Виолетта в платье, расшитом ивовыми листьями по атласу, по-девичьи склонив голову, тяжелую от шелкового плюща и белых перьев. Вокруг носились дети. Их призовут к порядку, когда появятся другие дети.
Первыми — им надо было только перейти лужайку — явились из фермерского домика русские анархисты. Василий Татаринов бежал из Санкт-Петербурга в 1885 году. Он читал лекции о русском обществе и получал щедрое вспомоществование (в том числе право пользования тем самым домиком) от английских социалистов. У Василия было две смены одежды: рабочий халат и парадный костюм для лекций. Сегодня Василий пришел в костюме. Он бросался в глаза — необыкновенно высокий, тощий, с длинной остроконечной белой бородой, похожий на волшебника. Его жена Елена пришла в лучшем из своих двух платьев — коричневом поплиновом, отделанном черной тесьмой и черными пуговицами. Волосы гладко зачесаны назад. До карнавальных костюмов Татариновы не снизошли. Их дети, Андрей и Дмитрий, примерно ровесники Филлис, были в повседневных фартуках — красном и синем. Они по большей части притворялись, что не говорят по-английски.
На трехколесном велосипеде, крутя педали, прикатили Лесли и Этта Скиннер, собратья-фабианцы. Скиннер занимался антропологической статистикой и наследственностью в лондонском Юниверсити-колледже. У Лесли были прилизанные черные волосы, белая кожа и синие глаза. Этта была старше мужа. Они познакомились в 1880 году в Клубе мужчин и женщин при колледже. Там обсуждали женский вопрос, противозачаточные средства, животные страсти и сексуальные инстинкты. Скиннер был очень серьезный, с чарующим голосом. Он возбуждал немалые животные страсти в коллегах и студентках. Уэллвуды согласились между собой, что он женился на Этте, чтобы защитить себя от безумных менад. Этта была пламенной теософкой, посещала собрания на Албемарл-стрит, посвященные эзотерическим и астральным материям, читала лекции о вегетарианстве, а также учила грамоте и арифметике лондонских бедняков. У Этты было круглое лицо, плотно сжатый рот и волосы цвета перца с солью, пушащиеся посеченными концами. Казалось, она когда-то была жадной и нетерпеливой, но перевоспиталась. Она приходилась дальней родней Дарвинам, Веджвудам и Гальтонам; это не могло не заинтересовать специалиста по наследственности, как заметил Хамфри. Но Скиннеры, женатые уже десять лет, были бездетны. Странно, сказал Хамфри, что люди, изучающие наследственность, часто сами не имеют наследников. Олив ответила, что ей не нравится, как одевается Этта: она сама красит материю для своих платьев и все они похожи на мешки. Этта сняла велосипедную юбку и вуаль, и стало видно повседневное платье неровного сливового цвета.
Вслед за Скиннерами прибыл Тоби Юлгрив, тоже на велосипеде. Тоби владел крохотным коттеджем в лесу и приезжал туда на выходные. Тоби с Эттой тут же принялись обсуждать народные обычаи, связанные с Летней ночью.
Проспер Кейн приехал из Айуэйд-хауза в экипаже с Джулианом и дочерью Флоренцией. Они все были в костюмах. Проспер — в костюме Просперо: обширных одеждах черного бархата, расшитых знаками зодиака. В руке он держал длинный посох из бивня нарвала. Навершие посоха было усажено «лунными камнями» и оливинами. Джулиан оделся в театральный костюм принца Фердинанда, черный с серебром. Двенадцатилетняя Флоренция была в очень красивом костюме Миранды, в струящейся рубашке цвета морской волны, с развевающимися темными волосами, в жемчужном ожерелье. Джулиан и Том осторожно поглядывали друг на друга. Они пережили совместное приключение, но оба не были уверены, что хотят дружить. Подошла улыбающаяся Олив, и Проспер поцеловал ей руку. Он шепнул ей на ухо:
— Дорогая, я позаимствовал из музея одну совершенно фантастическую вещь, только не говорите никому.
— Даже не знаю, верить ли вам.
Он так и не выпустил ее руки:
— Никто мне никогда не верит. Я излучаю неопределенность.
Джулиан заметил Филипа в халате:
— А я тебя не узнал.
Филип переминался с ноги на ногу. Том сказал:
— Он сделал совершенно потрясные фонари. Пойдем посмотрим.
Они пошли прочь, и Флоренция последовала за ними.
Приехала бричка, а в ней компания из Дандженесса; дамы везли маскарадные наряды в плетеных корзинках, поскольку ехали издалека. Бенедикт Фладд, как и предсказывала Олив, не явился. Серафита в те дни, когда еще была Сарой-Джейн Стаббс, прерафаэлитской красавицей из Маргейта, служила моделью Берн-Джонсу и Россетти. Сейчас ей было уже за сорок; она сохранила все черты, запечатленные на картинах, — тонкую кость, узел черных волос, огромный лоб, широко расставленные зеленые глаза и спокойную линию рта, но тело ее отяжелело, и кроткой благости в лице поубавилось. Она путешествовала в свободном платье фасона «либерти», но привезла с собой другой наряд, более роскошный, с вуалью, которую собиралась набросить на голову и плечи. Детей звали Имогена — девочка шестнадцати лет, стесняющаяся своих грудей, Герант — чуть старше Тома, с глазами и волосами как у матери, и Помона — ровесница Тома, с волной каштановых кудрей. Обе девочки привезли вышитые бисерные «шапочки Джульетты», а Помона еще и домотканое платье, расшитое крокусами, нарциссами и колокольчиками. Герант был одет в какой-то домотканый халат, очень похожий на халат Филипа.
Фладдов сопровождал серьезный юноша по имени Артур Доббин. Он считал себя подмастерьем Бенедикта Фладда. Доббин надеялся основать в соляных болотах вокруг реки Рай коммуну художников. Он был низенький, пухлый, с зализанными волосами и настойчивым, рыскающим взглядом. Он хотел бы явиться на праздник в костюме Оберона или сэра Галахада, но знал, что это не пойдет. На нем были шерстяные вязаные егеревские одежды, разрекламированные Бернардом Шоу. Для жаркого июня он оделся чересчур тепло.
Дороти ждала следующего экипажа. Хамфри тоже ждал — он судорожно вдохнул, когда к дому подкатила элегантная коляска. Это были другие Уэллвуды. Они приехали из «Повилики», своей загородной усадьбы. На них были скромные дорожные костюмы, а в руках — коробки от модисток. Бэзил и Катарина смотрели по направлению движения; дети, Чарльз и Гризельда, сидели за спиной кучера, глядя назад.
Дороти ждала кузину Гризельду. Именно кузина Гризельда приходила на ум Дороти, когда та мысленно произносила слово «любовь» (которым обычно не разбрасывалась). Гризельда была одного возраста с Дороти и ближе ей, чем родная сестра Филлис. Дороти была реалисткой и понимала, что не любит Филлис, хоть и знала, что должна любить. Может быть, именно поэтому Дороти чуть более подчеркнуто любила Гризельду, которую видела не слишком часто. Дороти иногда опасалась, что от рождения обделена способностью любить по сравнению с другими людьми. Филлис любила всех и вся — маму, папу, тетю Виолетту, Гедду, Флориана и Робина, Аду и Кейти, пони, пушистого котенка, мертвенькую Рози в саду, живущих в «Жабьей просеке» жаб. Дороти ко всем ним питала различные чувства. Кое-кого она любила. Но Гризельду она любила на самом деле, она выбрала Гризельду, чтобы ее любить.
Фрида, горничная Катарины, сидела рядом с кучером. Она слезла, чтобы руководить разгрузкой шляпных и одежных коробок.
Бэзил Уэллвуд был ниже и мускулистее младшего брата. Он носил хорошо скроенный светло-серый костюм, который не собирался менять на маскарадный, кольцо с бриллиантом и сложную часовую цепочку из множества переплетенных колец. Увидев яркие одежды Хамфри, Бэзил счел их нелепыми, нахмурился и не очень старательно скрыл это. Он поздравил Хамфри с солнечным днем, словно Хамфри кого-то нанял для получения нужной погоды, и Хамфри в свою очередь счел это нелепым.
Четырнадцатилетний Чарльз, который как раз готовился к экзаменам в Итон, был похож на обоих братьев — у него были рыжевато-золотистые волосы, песочного цвета ресницы и сильные черты лица. Он тоже был в костюме, с шейным платком, заколотым жемчужной булавкой для галстука.
Катарина была худа и бледна; голова на стройной шее казалась маленькой по сравнению со шляпой, украшенной крыльями голубки и плотно прилегающей вуалью с мушками. Волосы у Катарины были какого-то промежуточного цвета между выцветшим серым и мышиным блондинистым. Глаза — большие, тоже какого-то неопределенного цвета, в слегка пострадавших от времени, обведенных темными кругами орбитах, среди складок и тонких морщинок.
Гризельда была очень худая, с тонкими светло-серебристыми волосами, заплетенными в косу и уложенными короной вокруг головы (как у настоящей mädchen [3], подумал Хамфри). Одета она была в серо-бежевый дорожный костюм. Тонкий рот не улыбался. Гризельда была высокая и с виду не очень крепкая. Дороти побежала с ней здороваться.
Они пошли в дом переодеваться. Филлис, пристраиваясь хвостом за Дороти и Гризельдой, спросила:
— Кузина Гризель, а ты привезла красивый костюм?
— Вы все в маскарадных нарядах.
— Сегодня праздник Летней ночи, — сказала Дороти. — Мы его всегда справляем в костюмах. А ты?
— А я нет. Я привезла новое бальное платье. Увидите.
Одевание было делом не быстрым. Шнурки и пуговицы отняли целую вечность. Возникшие наконец из спальни Олив мать и дочь были совершенно очаровательны и абсолютно неуместны. На Катарине было платье из бело-сиреневого шанжана и валансьенского кружева с огромными буфами выше локтя. Туалет довершали лайковые перчатки и головной убор из кружев и свежих розовых бутонов, похожий на огромную подушечку для булавок. Гризельда была в платье светло-розового атласа с кружевной кокеткой. Платье украшали розовые бантики чуть более темного оттенка — на рукавах-буфах, по подолу. Филлис сказала, что платье очень красивое. Дороти воскликнула:
— Оно может запачкаться, если мы пойдем в сад.
— Оно тут совершенно не к месту, — ответила Гризельда. — Чарльз называет его «малютка Бо-Пип».
— Ты похожа на фарфоровую куклу, — заметила Дороти, — на куклу из сказки. Она стоит на полке, и в нее безнадежно влюблен оловянный солдатик или нахальный мышонок.
— На Портман-сквер это платье смотрелось бы абсолютно уместно, — безо всякого выражения произнесла Гризельда. — Думаю, мне придется потерпеть.
Явилась двуколка, запряженная пони. Сперва показалось, что в ней сидит труппа вампиров и привидений с белыми застывшими лицами. Двуколкой правил Август Штейнинг, обитатель коттеджа «Орешек», стоявшего на краю Даунса. Штейнинг слез с двуколки и встал на длинные-длинные ноги с элегантно развернутыми, как у танцора, носками. У него была серебристая бородка, элегантные усы, густые, хорошо подстриженные серебристые волосы. Он приехал в костюме для сельской местности, но, переодевшись, стал еще одним Просперо, так как привез с собой каббалистический плащ с капюшоном и узловатый посох из древесины грецкого ореха. Штейнинг был театральным режиссером, иногда и сам писал пьесы; больше всего прославились его постановки «Пера Гюнта» и «Бури», хотя, помимо этого, он написал еще историческую пьесу о Кромвеле и Карле I. У него были передовые идеи. Он интересовался новой немецкой драмой, немецкими сказками и фантазиями. (Коттедж «Орешек» назывался так не из-за ореховых деревьев, растущих в саду, а по зловещей сказке Гофмана про Щелкунчика и мышиного короля.) В повозке лежали кучей большие театральные маски.
— Дорогие, я привез вам ослиную голову, без нее Летняя ночь не обходится, а это не простая голова, ее носил сам Бирбом Три. Мы можем надевать ее по очереди и преображаться. А еще я привез восхитительные венецианские маски, вот Пьеро и Коломбина, вот гриф-стервятник — на самом деле он доктор-шарлатан, сторонящийся чумных бубонов... Вот черная колдунья, расшитая блестками. Вот Солнце в пылающей короне, вот Луна с облачными горами и серебряными слезами...
Он обратился к Олив:
— Я взял на себя вольность пригласить одного гостя. Он едет отдельно, так как ему нужно много места. Он следовал прямо за мной...
Тень раздражения пробежала по лицу Олив. Это ее праздник. Здесь она раздает дары. Тут прибыла еще одна двуколка с единственным человеком в неодушевленной компании, которая в данном случае была спрятана в черных коробках и сундуках с медными застежками.
— Кажется, вы давно знакомы, — сказал Август Штейнинг. (Он любил называть себя Августом в честь клоунов.) — Надеюсь, я не совершил оплошности.
Он заметил гримаску Олив.
Олив посмотрела на нового гостя, помедлила и бросилась к нему с распростертыми руками:
— Добро пожаловать. Какая неожиданная радость...
Незнакомец вылез из двуколки. Он был маленький, худой, темноволосый, в черных брюках в обтяжку, длинной черной куртке, черной фетровой шляпе, за ленту которой были заткнуты перья сойки. У него была остроконечная театральная бородка и ухоженные усы. Гравий не хрустел у него под ногами. Он на миг склонился над рукой Олив.
— Это и вправду наш старинный друг, мы встречались в Мюнхене. Майор Кейн, позвольте представить вам — герр Ансельм Штерн, человек искусства, весьма необычного. Герр Штерн, это мистер Уэллвуд, мой деверь, и Катарина Уэллвуд...
Детей она не представила.
Кейти получила приказ — помочь герру Штерну с коробками. Гедда потрогала коробки и спросила, что в них.
— Увидишь во благовремении, — сказал Август Штейнинг. — Мы надеемся, что твоя мама разрешит нам это показать.
Герр Штерн, наблюдая за разгрузкой коробок, вдруг обрел голос и, запинаясь, сказал по-английски:
— Я привез подарок для маленьких девочек.
Он неуверенно переводил взгляд с Дороти на разнаряженную Гризельду, на хорошенькую Филлис, на маленькую черную ведьму с жуком-брошкой.
— Коробка с красной лентой, — сказал герр Штерн, обращаясь к Кейти. — Пожалуйста.
— Что это может быть? — спросила Филлис.
— Откройте, пожалуйста, — сказал Ансельм Штерн.
Коробка была размером с обувную и завернута в бумагу, похожую на пергамент. Виолетта разрезала бечевку, Филлис развернула бумагу. Гедда выскочила вперед и сняла крышку с оказавшейся внутри коробки — очень похожей на обувную, а может, и вправду обувной. Гедда заглянула в коробку.
— Там башмак, — сказала она.
Виолетта вытащила то, что лежало в коробке.
Это был очень большой башмак из прошитой кожи, темной, красновато-коричневой, с большим языком и большой стальной пряжкой с острой булавкой в середине.
Дороти сперва показалось, что в башмаке мыши. Она отступила на шаг.
— Это дети, — неуверенно сказала Филлис.
Башмак был битком набит тряпичными куколками, круглоголовыми, с немигающими глазами-бусинками.
Куклы были одетые — кто в кожаных шортах, кто в фартуках, оборачивающих все тело. Филлис неловко засмеялась. Куклы смотрели не мигая. Гедда сказала:
— Это старушка, которая жила в башмаке. Только старушки нету, дети сами по себе.
Она схватила башмак и прижала его к сердцу. Другие девочки вздохнули с облегчением.
— Какая оригинальная игрушка, — произнесла Виолетта.
— Тебе нравится? — спросил герр Штерн у Гедды.
— Она немножко страшная. Я люблю все страшное.
Август Штейнинг объяснил, что Ансельм Штерн — кукольник. Он творит чудеса с перчаточными куклами и марионетками. Они надеются преподнести подарок королеве фей, сказал он, кланяясь в сторону Олив. Представить для гостей сказку о Золушке. Куклы для постановки были надежно запрятаны в тех самых черных лакированных ящичках, уже виденных присутствующими. И он надеется, что если пьеса понравится зрителям, то назавтра они посетят «Орешек», чтобы увидеть более искусную постановку.
— Я говорю «мы надеемся представить», — объяснил он, — потому что Ансельм учит меня тайнам марионеточного театра. Я буду учеником волшебника. Я буду управлять злыми сестрами Золушки.
Олив улыбнулась. Хамфри пригласил всех к столу:
— Сначала мы будем есть и пить. Потом — представление. Потом другая перемена блюд и танцы. У нас есть талантливые музыканты — Герант играет на флейте, Чарльз на скрипке, а Том управляется как может с жестяной дудочкой.
Они собрались на лужайке. Штейнинг только что вернулся из Лондона, где встречал Ансельма Штерна, и привез ошеломительные новости. Рутинное голосование по поводу ассигнований на армию — трат на стрелковое оружие — вдруг переросло в вотум недоверия. Лорд Розбери подал в отставку, и премьер-министром стал лорд Солсбери — временно, до осенних выборов.
Проспер Кейн сказал, что эти перемены могут пойти во вред Музею. Он все еще ждал осязаемого воплощения проектов сэра Астона Уэбба — нового фасада и внутреннего дворика.
— Музей превратился в склад стройматериалов, — пожаловался майор. — А все это в лучшем случае задержит работы.
Бэзил Уэллвуд не нашел среди собравшихся ни одного человека, с которым можно было бы обсудить влияние этих событий на фондовую биржу. Он подумал, что попал в необычное племя — сплошная мишура и фальшивая позолота.
Вполголоса заговорил Лесли Скиннер. Насколько он помнит, имя лорда Розбери упоминалось в связи с прискорбными событиями, вызвавшими недавний судебный процесс. Ведь правда, ходили слухи, что прискорбная кончина старшего сына лорда Куинсберри — не лорда Альфреда Дугласа, а лорда Друмланрига — была вовсе не несчастной случайностью, но актом самоуничтожения, направленным, как говорили, на защиту доброго имени лорда Розбери? И по этому поводу задавались вопросы во время рассмотрения проигранного дела мистера Уайльда против лорда Куинсберри — иска за клевету? Скиннер говорил с таким видом, словно его интерес был чисто научным. На серьезном лице не отражалось ничего, кроме стремления к точным знаниям.
Виолетта Гримуит неодобрительно цокнула языком, согнала в кучку детей, которые стояли поблизости и слушали, и повела их есть фруктовый салат. Джулиан и Том не пошли. Джулиан поманил Тома, и они встали так, чтобы все слышать, — по ту сторону складного стола, пробуя тарталетки по одной. Прошло меньше месяца с того дня, как Оскар Уайльд в третий раз предстал перед судом, — это был второй суд над ним за «нарушение общественных приличий», так как на первом судебном процессе присяжные не пришли к согласию. Все только об этом и говорили и никак не могли перестать. Джулиан, как и его товарищи по школе, читал газетные отчеты. Он хотел послушать. Лесли Скиннер спросил у Августа Штейнинга:
— Я не ошибаюсь, вы присутствовали в суде?
— Да, — ответил Штейнинг. — Действительно так. Бедняга нуждался в дружественно настроенных зрителях. Я не мог не выступить свидетелем. Это было поистине трагическое падение. Некоторые аспекты его необъяснимы. Вы слыхали о предсказаниях гадалки?
Все сказали, что нет, хотя по крайней мере Хамфри прекрасно знал эту историю.
Штейнинг рассказал, вытягивая вперед в качестве иллюстрации сначала одну, потом другую длинную, бледную, изящную ладонь:
— Это было за ужином у Бланш Рузвельт. Хиромантка пряталась за ширмой, и гости по очереди просовывали туда руки, оставаясь неизвестными. Оказывается, левая ладонь показывает судьбу, начертанную в звездах, а правая — то, что ее владелец сделает с этой судьбой. Левая рука Оскара — у него ладони гораздо пухлее моих — сулила ему огромные, невероятные достижения, успех. Правая предвещала гибель, причем в точно указанный срок. Левая — рука короля, правая — рука короля, который отправит себя в изгнание. Оскар спросил о точной дате, получил ответ и немедленно покинул собрание. По-видимому, пророчество сбылось.
Скиннер спросил Штейнинга о его впечатлениях от суда.
— Он держался с достоинством и стоял, как агнец, предназначенный на заклание. Он позволил загнать себя в положение, когда вынужден был острить. Он храбро говорил о любви, не смеющей назвать себя. Ему хлопали. Но это не было триумфом. А его теперешнее состояние ужасно. Его имя убрали с афиш театров, где идут его пьесы, — боюсь, недолго им еще идти. Говорят, тюрьма его убивает. Он хотел отнестись к ней как к монашескому затвору, келье Просперо, но он спит на досках, у него нет ни книг, ни чернил, ни перьев, его заставляют крутить ступальное колесо. Он исхудал, плоть висит складками. Он не может спать.
Хамфри, свой человек в мире газетных сплетен, небрежно заметил, что лорд Розбери был болен — очень болен — несколько месяцев и внезапно оправился в конце мая. Но по-видимому, лишь для того, чтобы дождаться падения своего правительства. Хамфри переглянулся со Штейнингом и вдруг заметил Тома c Джулианом:
— Нечего вам тут стоять и слушать про политику. Идите расставьте стулья для кукольного представления.
Том и Джулиан побрели прочь по траве.
— Вот всегда они говорят, что нечего слушать, как раз когда хочешь послушать, — заметил Джулиан.
— А ты хочешь? — спросил Том.
— Они думают, мы про это ничего не знаем. Они должны были бы понимать, что мы про все узнаем в школе, просто потому, что мы мальчики. Между уроками греческого и крикетом, греблей и рисованием. Хихиканье, тычки, записочки. Они должны бы знать, что мы знаем. Они ведь сами не могли не знать.
Том не знал. Он жил дома и учился дома, хотя Бэзил и Хамфри планировали следующей весной отправить его на приемные экзамены в школу Марло. Когда Хамфри заговорил о том, чтобы отправить Тома в новомодную, только что открытую школу Бедейлз, где мальчики купаются нагишом и выгребают навоз из-под скота, вмешался Бэзил. Он сказал, что поможет с платой за обучение. Том был очень способный, ему давались математика, языки. Латыни и греческому его учили анархисты, они любили учить и были рады лишнему источнику дохода. Математикой Том занимался с преподавателем. Осенью математики должно было прибавиться. Том ходил на уроки через поля и луга. Большую часть времени он жил привольно. Он не мог решить, хочется ли ему знать про то, о чем говорит Джулиан. Он не мог решить, хочется ли ему дружить с Джулианом. Том часто не мог понять, чего хочет, и при этом был общителен и дружелюбен; в результате у него было много приятелей и ни одного близкого друга. Ему было тринадцать, и он все еще был мальчиком, а Джулиану — пятнадцать, и он по временам мог быть серьезным молодым человеком.
Очки придавали Тому сходство с совой. Тонкие светлые волосы торчали во все стороны, словно напрашиваясь, чтобы их кто-нибудь взъерошил. Юную кожу, смугло-золотую от жизни на открытом воздухе, еще не испортили прыщи. У Тома были глаза матери и длинные ресницы. Высокие и широкие скулы, нежный рот. Именно таких мальчиков, красивых, но не сознающих своей красоты, много обсуждали и старались добиться их благосклонности, как в подготовительной школе, где Джулиан учился сейчас, так и в Марло. Джулиан спросил себя, хорошенький ли Том, может ли он быть объектом страсти, и понял, что теоретически — несомненно, да. В школе хорошенькие мальчики быстро становились настороженными и застенчивыми. Том держался небрежно, это создавало дистанцию и придавало ему шарм. Джулиан ждал наплыва любви и похоти, которые соответственно, как правило, не заставляли себя ждать. У него была неудобная привычка наблюдать за собой со стороны и задаваться вопросом — не фальшивые ли, не натужные ли его любовь и похоть. Он боялся стать изгоем-одиночкой и опасался, что именно это его и ждет. Сам он точно не был объектом влечения других мальчиков, насколько он знал, а он разбирался в таких вещах. Кроме того, ему докучали гнойные прыщи и оставленные ими кратеры. Он не знал — может быть, Том, кроме того, что хорошенький, еще и слишком простой, а потому скучный.
Том же оценивал Джулиана по своим привычным критериям. Можно ли его пригласить в «дом на дереве»? Станет ли он когда-нибудь человеком, которого можно туда пригласить? Пока еще трудно было сказать с уверенностью, но Том склонялся к тому мнению, что нельзя. Он произнес дружелюбную бессмыслицу:
— Взрослые всегда думают, что мы не знаем того, что они на нашем месте знали. Я думаю, им просто нужно помнить неправильно.
Зрители, словно куры, сбежались на кукольное представление. Они расселись полумесяцем в голубом дневном свете — на стульях, табуретах, на траве. Гризельда и Дороти сели рядом на вышитые табуреточки, охраняя Гризельдину юбку. Обе думали, что уже слишком взрослые для кукольных спектаклей.
Август Штейнинг выступил из-за будки, которую воздвигли они с герром Штерном. Будка была завешена занавесками цвета полночного неба в звездах-блестках. Он низко поклонился и провозгласил:
— Добро пожаловать на представление пьесы «Aschenputtel», или «Золушка»!
Он снова ушел за темную будку.
Прозвучала труба, забил барабан. Занавес распахнулся.
Сцену под медленный бой барабана пересекал траурный кортеж: одетые в черное плакальщики, несущие гроб, скорбный вдовец, чинная дочь в черном плаще, с затененным лицом. Гроб под мрачный барабанный бой опустили в яму. Из земли поднялся зеленый холмик, на нем воздвиглось надгробие. Отец и дочь обнялись.
Следующая сцена была в доме. Под торжественные звуки скрипки появились мачеха и сестры. Марионетки были тонкой работы, с изящными фарфоровыми лицами, с настоящими человеческими волосами, затейливо убранными — заплетенными или скрученными, в шуршащих юбках тонкой работы — алых, сиреневых, янтарных. Сестры были не уродки, а модные красавицы — в жемчужных ожерельях, с высокомерными личиками, презрительно искривленными ртами, нарисованными выщипанными бровями. Мать и дочери были похожи, как горошины в стручке, — сделаны по одной и той же форме. Золушка с длинными золотыми косами была одета в простое небесно-голубое платье. Мачеха и сестры повелительно указывали ей на стулья, которые следовало протереть и переставить, на серебряные супницы, которые надо было отнести на кухню, на очаг, который нужно было подмести, на огонь, за которым она должна была следить. Она двигалась, повинуясь их командам. Из камина вылетел клуб настоящего дыма.
Золушка вздрогнула, села на табурет, закрыла милое фарфоровое личико тонкими фарфоровыми руками. Дрожь была совсем человеческая и пугала; маленькие ручки качались в такт и складывались вместе.
Пришел отец в дорожных сапогах и плаще. Он поцеловал руки дочерям и спросил, что им привезти в подарок.
Куклы в спектакле почти не говорили, но этот ритуальный вопрос был произнесен голосом Августа Штейнинга — высоким, легким, тонким, словно тростинка. Голос казался соразмерным миниатюрному артисту. Тон голоса поднялся, переходя в контртенор. «Шелку и бархату», — сказала алая сестра. «Рубинов и жемчугу», — сказала сиреневая. «Веточку, что зацепит твою шляпу», — ответила Золушка.
Вслед за этим зрители увидели ее на коленях у зеленого холмика и серого камня — она разглаживала траву и сажала веточку. Медленно, чудесно из-за сцены стало подниматься дерево, гибкий ствол распустился ветвями, завесился дымкой листьев. Прилетели две белые голубки, порхающие, пикирующие, сшитые из перьев и шелка, с черными бисеринками вместо глаз, розовыми лапками и перламутровыми шейками. Защебетала скрипка. Голубки слетели на руки Золушке. Она легла и обняла могильный холмик, а голубки стали прихорашиваться и ворковать у нее в волосах.
Дороти захлопала глазами. Крохотные создания странно и страшно ожили. Дороти крепилась, стараясь не поддаваться иллюзии. Рядом Гризельда, завороженная, смотрела не отрываясь.
Мачеха велела Золушке выбирать чечевицу из золы. Голубки просеяли золу и ловко побросали зерна в кастрюлю — послышался дробный мелкий стук.
Сестры наряжались на бал — им помогала новая марионетка, послушная портниха с нарисованным ртом, полным булавок. У одной сестры были пюсовые банты. У другой — фиолетовые помпоны. Золушка сидела у очага, уронив голову на руки.
Рыдающая дочь стояла у могильного холмика — распущенные волосы падали массой золотых нитей — под танцующим деревом, которое замахало ветвями и, словно сходящий с небес ангел, снабдило Золушку роскошным золотым платьем, диадемой и парой золотых туфелек.
Бал происходил за кисейной занавеской — вихрем кружились фигуры, танцевальная музыка слышалась из музыкальной шкатулки: бренчащие вальсы, скачущие польки. У принца были сверкающие белые волосы, связанные лентой, длинный темный фрак и панталоны до колен. Он танцевал с золотой девушкой. Пробили часы. Она бежала. Дерево и птицы соткали из воздуха другое платье, серебряное, как луна. И третье — словно звездное небо, запутавшееся в острых ветках. Контртенор пропел:
Ты качнись, отряхнись, деревцо,
Одень меня в злато-серебро.
Явился принц с горшком смолы и коварно намазал ступени дворца. Он танцевал с Золушкой, пробили часы, она бежала, и золотой башмачок остался блестеть на смоле.
Финальные сцены были отвратительно кровавы. Одна высокомерная сестра, все с тем же гордым лицом, по наущению матери взяла кухонный тесак и — хрясь! — отрубила себе большой палец на ноге. «Когда станешь королевой, все равно пешком ходить тебе не придется», — сказала мать фальцетом. Жених и невеста поехали верхом — на лошади, сделанной из настоящей кожи, в красивой сбруе. Золотой башмачок переполнялся кровью. Многие дети потом долгие годы будут вспоминать, как капало красное из башмачка.
Дороти хлопнула глазами и запретила себе что-либо воображать.
Кружащиеся голубки воззвали к принцу:
Погляди-ка, посмотри,
А башмак-то весь в крови,
Башмачок, как видно, тесный,
Плохо выбрал ты невесту!
Пришлось им поворачивать назад. Но мачеху это ничему не научило: она снова взяла тесак, хрясь! — и отлетела пятка у второй сестры, и та принялась всовывать фарфоровые пальчики в золотую скорлупку.
— Какой ужас, — сказала Гедда вслух. — И так уже все в крови.
Пропели голубки, и принц повернул обратно.
Отец вызвал Золушку, которая в это время сидела в лохмотьях на золе. Золушка явилась, вдела тонкую ступню в башмачок, и принц схватил ее в объятия. Она выбежала и вбежала снова в сияющем звездном платье. Кукольные отец и дочь обнялись посреди сцены, ее фарфоровая щека лежала у него на плече, он гладил ее золотые волосы.
Задник сцены превратился в освещенный свечами хор. Свадебная процессия шла от алтаря. Голубки слетели на паперть, воркуя, и напали на злых сестер, колотя их белыми крылышками по головам, — головные уборы слетели, лица исчезли за мельтешением крыльев и вновь появились уже с кровавыми ямами вместо глаз.
Гризельда сжала губы. Дороти сердито вздрогнула. Филлис заявила, что сказка совсем неправильная — ни феи-крестной, ни тыквы, ни стеклянной кареты. «И ни крыс и мышей, ни ящерицы!» — закричала Гедда, перевозбужденная и напуганная кровожадными голубками. «Еще!» — сказал Флориан: он ничего не понял, но его заворожил движущийся миниатюрный мир.
— Интересно, почему так отличается сюжет, — сказала Гризельда, обращаясь к Дороти.
Дороти ответила, что лично ей это не очень интересно, но если Гризельда интересуется такими вещами, то ей лучше спросить Тоби Юлгрива, он вечно распространяется насчет волшебных сказок.
Гризельда, похожая на потерянную фарфоровую пастушку в толпе разномастных феечек, робко потянула Тоби за рукав. Она сказала, что ей очень хочется знать, почему сказка совсем другая.
— Дороти сказала, что вы можете объяснить.
Тоби уселся рядом на садовую скамью. Он сказал, что Гризельда привыкла к французской версии сказки, которую создал Шарль Перро. Он писал сказки специально для юных девиц и, как правило, вставлял туда фей-крестных. Штерн же использовал немецкую версию, из сказок братьев Гримм. Гризельда сказала, что она сама наполовину немка, но дома у них нет немецких волшебных сказок, а жаль. Тоби ответил, что это лишь две вариации из бесконечного числа: в каждой стране, от Финляндии и Шотландии до России, своя версия «Золушки», где повторяются одни детали и меняются другие — злая мачеха, жадные сестры, животные-помощники, волшебные платья, туфельки с кровью или без крови. Братья Гримм считали, что собираемые ими сказки — часть древних мифов и верований германского народа. Тоби заметил, что существуют и английские волшебные сказки. Миссис Олив Уэллвуд умело использует их в своих книгах.
Гризельда ответила, что тетины сказки ее пугают. И сказки Андерсена тоже, она от них плачет. А от этой сказки — нет. Неизвестно почему. Эта сказка должна бы пугать, столько в ней крови. Тоби объяснил, что эта сказка хранит воспоминания о других, давних временах, и согласился, что она не страшная.
— Она просто такая, — сказала Гризельда, пытаясь нащупать то, что ее заинтриговало, но безуспешно.
Тоби взглянул в серьезное тонкое личико. Он пообещал прислать Гризельде книгу братьев Гримм, если родители разрешат. Гризельда сказала: она не думает, что ее родители против братьев Гримм. Они про них просто ничего не знают. Тоби захотелось погладить девочку по голове и сказать: «Не беспокойся», но он решил, что лучше не надо.
К этому времени все, и стар и млад, собрались на изобильный пикник. Людей, жизнь которых уже вошла в определенное русло, окружали, к счастью или к несчастью, те, у кого еще все было впереди, и, как часто бывает на таких сборищах, старшие начали спрашивать молодежь о ее устремлениях и планировать ее будущее.
Начали, естественно, со старших мальчиков. Проспер Кейн сказал, что у Джулиана хороший глаз на антиквариат, что он отличает подлинник от подделки. Он собрал коллекцию ценных вещей, найденных на блошиных рынках, — средневековая ложка, очень старый стаффордширский кубок с ангобной росписью. Джулиан небрежно согласился, что после Кембриджа действительно надеется устроиться на работу в музей или галерею. Серафита Фладд выразила надежду, что Герант пойдет в отца, художника, и будет творить прекрасные вещи. Герант заметил, что мать прекрасно знает: он на самом деле для этого не годится. Ему легко даются цифры. «Звездочет!» — вскричала Виолетта. Герант сказал, что хотел бы зарабатывать на комфортабельную жизнь. Он дружелюбно улыбнулся. Бэзил заметил, что в таком случае Геранту нужно идти в бизнес. «Как Уильям Моррис, который старался привить деловой подход в художественных мастерских в Лидде», — вставил Артур Доббин. Герант продолжал улыбаться и есть формованную ветчину в желе. Бэзил Уэллвуд пригласил Геранта войти вместе с Чарльзом в семейное дело Уэллвудов. Чарльз покраснел, издал полузадушенный звук и сказал, что это еще не решено. Этта Скиннер заметила: странно, что в такой прогрессивной компании никто до сих пор не спросил девочек, кем они хотят быть. Она выразила надежду, что хотя бы некоторые из них стремятся чего-то достичь. В это же время Проспер Кейн спросил у Тома, чего он хочет добиться в жизни. Том понятия не имел. Он так и сказал.
— Я не хочу отсюда уезжать. Хочу все так же быть в лесах... на равнинах... вообще здесь...
— И остаться вечным мальчиком, — вставил Август Штейнинг, конечно театральным голосом.
Олив сказала, что Тому совершенно некуда торопиться.
Лесли Скиннер подхватил слова Этты. Он почти агрессивно обратился к Дороти:
— Вот вы, юная дама. Кем вы собираетесь стать?
— Я буду доктором, — ответила Дороти.
Виолетта сказала, что слышит об этом первый раз. И действительно, эта идея впервые оформилась в голове у Дороти, и высказала она ее непроизвольно. Дети никогда не играли в докторов и сиделок. Но Дороти услышала собственные слова, и вдруг у нее в голове возникла картинка: взрослая Дороти, врач. Не милая и покладистая, но вооруженная скальпелем. Скиннер ответил, что это весьма похвальная цель, хотя путь к ней тяжел, и выразил надежду, что Дороти поступит в Юниверсити-колледж.
— Но, Йожыг, разве ты не хочешь замуж? — спросила Филлис, назвав сестру детским прозвищем, которое та не любила. — Я вот хочу. Я хочу, чтобы у меня была красивая свадьба и вот как раз такой дом, с розами в саду, и я буду печь хлеб, носить прекрасные платья и рожу семерых детей...
Филлис знала, что она хорошенькая. Ей все об этом говорили. Девиц Фладд, Имогену и Помону, можно было назвать красивыми, но их красота была боязливой, неуверенной в себе — они не тянули на прерафаэлитских моделей. Они были грациозны и неловки в домотканых платьях и раскрашенных вручную эмалевых браслетах. У Имогены были полные груди, и она не носила поддерживающего нижнего белья. Она казалась пухленькой. Она сказала, что подумывает об изучении вышивки в Королевском колледже искусств. Помона сказала, что, может быть, тоже туда пойдет или останется в Дандженессе и будет делать изразцы. Гедда заявила, что хочет стать ведьмой. Виолетта хлопнула ее по руке.
Дошла очередь до Флоренции Кейн. У Флоренции была гувернантка, внушившая девочке, что она стала причиной смерти матери, а потому должна посвятить свою жизнь заботам об отце. Флоренция ничего не говорила отцу об этих наставлениях, и он о них понятия не имел, а кроме того, о нем неплохо заботились экономки и саперы. Он любил играть с обоими детьми в особенную игру: клал на поднос разные пуговицы, бусы, бутылочки, табакерки и прочее и просил детей запомнить все предметы, описать и опознать. Наблюдательность Флоренции радовала его так же, как и наблюдательность Джулиана. Флоренция действительно напоминала утраченную Джулию, но, когда Проспер думал об этом сходстве, ему вспоминались Ван-Эйковы ангелы, безмятежное спокойствие в потоке гофрированных волос.
— Ну так что же, Флоренция? — спросил он. — Чем ты хочешь заниматься?
— Я буду вести для тебя хозяйство, — ответила Флоренция, которой казалось, что это уже решено между ними.
— Надеюсь, что нет. Надеюсь, у тебя будет свой дом, а прежде того — образование. Я надеюсь, что Джулиан пойдет в Кембридж, и ты, надеюсь, тоже. Ньюнэмский колледж дает хорошее образование. Надеюсь, ты решишь пойти туда.
Флоренция растерялась. Эта тема никогда не обсуждалась в семье, и вдруг посреди многолюдного сборища делаются такие определенные заявления. Флоренция ничего не знала о Ньюнэм-колледже — это название было для нее пустым звуком.
— Она не хочет быть старой девой, — заметил Джулиан. — Синим чулком.
Это рассердило Флоренцию. Почему бы мне и не пойти чему-нибудь поучиться, сказала она. Джулиан ведь собирается учиться. Вот и она тоже. Она споткнулась об эти слова и замолчала. Ей никак не приходило в голову, чему же такому она могла бы учиться.
Осталась Гризельда. Бэзил и Катарина не сомневались в ее будущем. Ее представят ко двору, она будет выезжать в свет и найдет себе хорошую партию. Катарина выразила надежду, что брак Гризельды будет таким же счастливым, как и у ее родителей.
Гризельда ритмично, не переставая, крутила пюсовый бант. Мать легонько шлепнула ее по пальцам. Гризельду потрясли — по-настоящему потрясли — слова Дороти о намерении стать врачом. Желания самой Гризельды не шли дальше освобождения от пюсовых бантов. Она жила богатой внутренней жизнью, которая состояла в чтении романов о женщинах, вынужденных играть роль молчаливых наблюдательниц, но в душе исполненных мятежа или усилием принуждающих себя к покорности: Джейн Эйр, Элизабет Беннет, Фанни Прайс, Мэгги Талливер. Но все они на самом деле стремились к любви и браку. Ни одна из них не хотела ничего такого... такого разрушительного, как докторская карьера. Почему Дороти никогда об этом даже не заикалась? Гризельда любила Дороти так же, как та Гризельду. Она любила и «Жабью просеку» со страстью, в которой не осмеливалась признаться даже в «Жабьей просеке». Когда она приезжала сюда, ее немедленно освобождали от парадных одежд и разрешали вволю бегать по лесу. Здесь повсюду были книги. Гризельда вбила себе в светловолосую головку, что они с Дороти могут навсегда поселиться за городом и никогда больше не мучить себя корсетами, шляпными булавками, крючками и застежками. Больше Гризельда ни о чем не думала. И вдруг оказалось, что мир Дороти — черные саквояжи, кровь, больничные койки, горе, превратности, а Гризельды в этом мире нет. У Дороти обнаружилась тайна. Гризельда, побелев, сказала:
— Я хочу учиться. Как Флоренция. Я учу немецкий и французский. Я собираюсь изучать языки.
Катарина ввернула, что к Гризельде ходят самые лучшие учителя и она делает просто невероятные успехи.
Бэзил заметил, обращаясь к окружающим кустам, что образование несет женщинам только неудовлетворенность. Чем именно неудовлетворенность — он не объяснил.
Гризельда принялась крутить другой бант, и мать хлопнула ее по руке. Взгляд Хамфри Уэллвуда упал на Флориана.
— Флориан, а ты кем хочешь быть?
— Лисой, — ответил Флориан, нимало не колеблясь. — Лисой и жить в норе, в лесу.
[3] Девушка (нем.).
[3] Девушка (нем.).
