автордың кітабын онлайн тегін оқу Близости
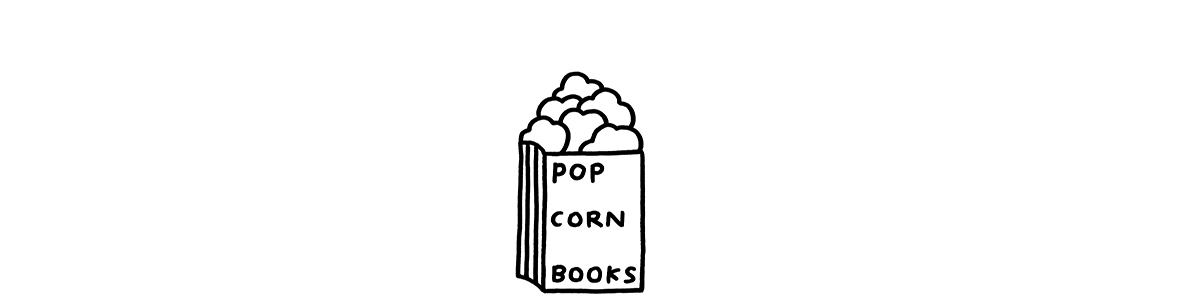
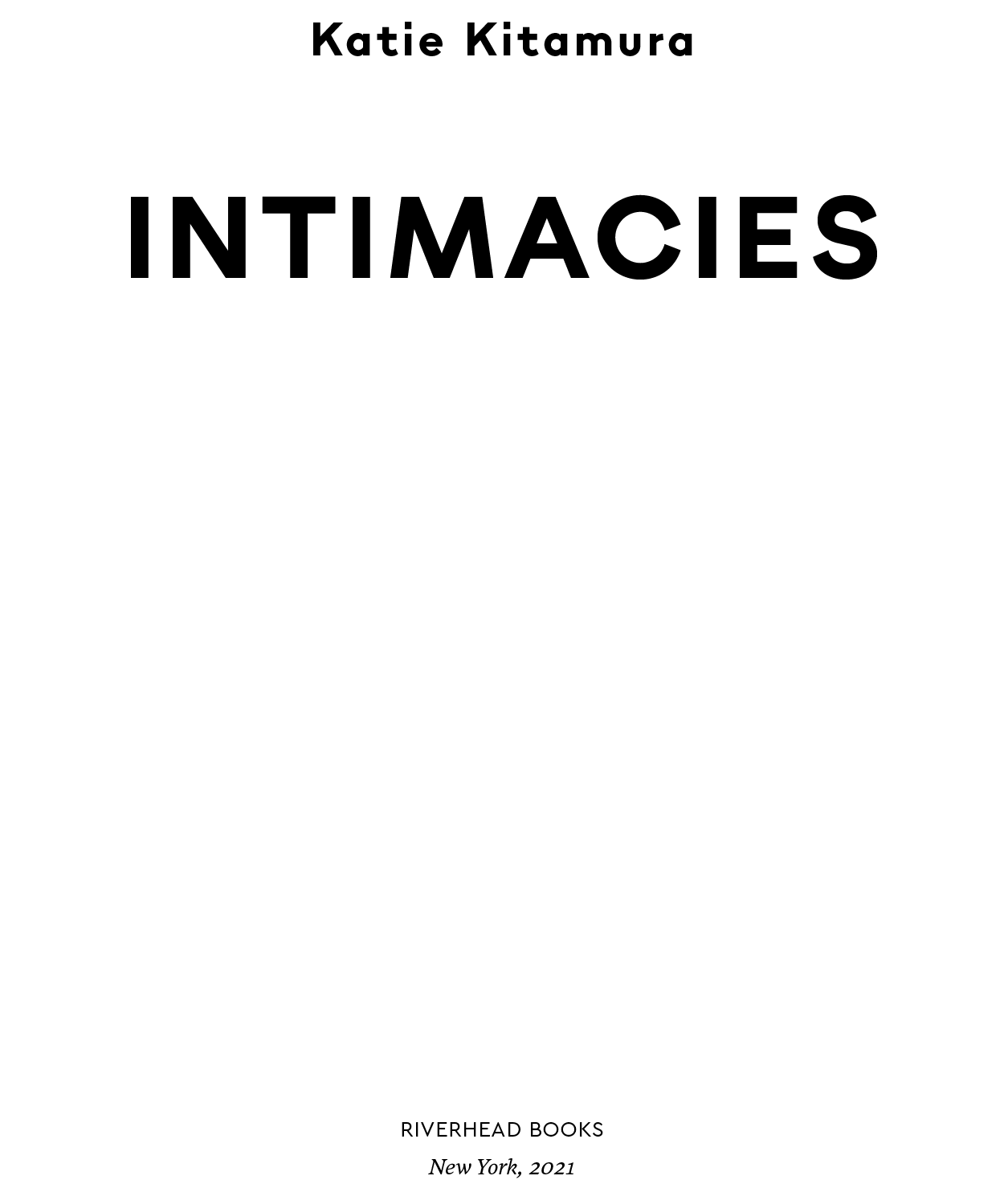

Моей семье
1
Уезжать в другую страну всегда непросто, но я, сказать по правде, рада была очутиться подальше от Нью-Йорка. После смерти отца и внезапного бегства матери в Сингапур в Нью-Йорке я стала какая-то потерянная. Поняла тогда, насколько сильно родители привязали меня к городу, где ни один из нас не был рожден. Долгая болезнь отца — вот что меня там держало, и, когда все неблагополучно разрешилось, на меня свалилась нежданная свобода: езжай на все четыре стороны. Я спонтанно подала резюме на вакансию переводчика в Суд, но потом, когда меня взяли на работу и я переехала в Гаагу, я поняла: не хочу возвращаться в Нью-Йорк, это уже не мой дом.
Я прибыла в Гаагу, имея при себе годовой контракт, да по большому счету и все. В мои первые дни, пока город был мне еще незнаком, я просто так, без особой цели каталась на трамвае, гуляла часами напролет, а когда мне случалось заблудиться, сверялась с картой в телефоне. Гаага обладала фамильным сходством с европейскими городами, где мне доводилось подолгу жить, и, наверное, поэтому я постоянно удивлялась: почему же я так быстро и так часто плутаю? В такие моменты, когда привычные на вид улицы сбивали с толку, я задумывалась: а я вообще смогу здесь быть не гостем?
Но, продолжая странствия по улицам и кварталам, я вновь ощущала, что скорее да, смогу. Со своим неотступным горем я успела сжиться, перестала его замечать, перестала сознавать, насколько оно притупляет мое восприятие. Но сейчас горе словно бы стало отпускать меня. Пространство начало раздвигаться. Шли дни, и я все больше убеждалась, что покинуть Нью-Йорк было правильно, хотя не факт, что приехать в Гаагу — тоже правильно. Я созерцала особенности здешнего пейзажа с мощным, порой почти пугающим облегчением — потому что это место еще не стало до боли знакомым, память еще не исковеркала его, и потому что я уже искала что-то, хотя сама не понимала что.
Примерно тогда я и узнала Яну — через нашего общего знакомого в Лондоне. Яна перебралась в Нидерланды двумя годами раньше меня — работать куратором в Маурицхёйс, домохозяйкой в национальной галерее, так она говорила про свою должность, насмешливо пожимая плечами. Яна была моей полной противоположностью — душа нараспашку, я-то за последние годы научилась быть бдительной, болезнь отца служила мне немым предупреждением: не очень-то надейся. Яна вошла в мою жизнь как раз в тот момент, когда я больше обычного была расположена с кем-нибудь сблизиться. Ее разговорчивое общество дарило мне спокойное утешение, казалось, в нашем несходстве заложено некое равновесие.
Мы с Яной часто ужинали вместе, и в тот вечер она предложила: давай я сама все приготовлю, сил нет идти в ресторан, да и деньги сэкономим — а она только что взяла ипотеку, довольно ощутимую. Яна купила квартиру недалеко от старого вокзала и уговаривала меня переехать в ее район, когда закончится моя краткосрочная аренда. Взяла моду присылать мне объявления о продаже недвижимости, уверяла, что район многообещающий, да и с транспортом тут все отлично, вот она же ездит теперь до работы, добираясь без всяких пересадок, на трамвае.
Я шла от трамвайной остановки к Яниному дому, и под ногами похрустывало битое стекло. Дом — обрамленное балконами простенькое здание — вклинился между кварталом социального жилья и новеньким кондоминиумом из стекла и стали — два лица динамично меняющегося района. Я позвонила в домофон, и меня впустили, даже не спросив, кто там. Я и постучать не успела, а Яна уже распахнула дверь и без долгих предисловий выпалила: на работе просто жесть, я что, для этого притащилась из Лондона в Гаагу, чтобы тут с утра до ночи чахнуть над бухгалтерскими простынями в экселе? Но вот, пожалуйста, она сидит и чахнет, у нее сплошные бюджеты и пресс-релизы, а что до искусства, так она его в глаза уже сколько не видит, теперь за искусство почему-то отвечает кто-то другой. Она махнула мне: давай, заходи — и взяла принесенную мной бутылку вина. Посиди со мной, пока я готовлю, крикнула она через плечо, исчезая в кухне.
Я повесила пальто. На кухне Яна тут же вручила мне бокал вина и отвернулась к плите. Через минутку все будет готово, заверила она. Как на работе? О контракте что-нибудь слышно? Я покачала головой. Непонятно, продлят мой контракт в Суде или нет. Меня и саму это беспокоило, чем дальше, тем сильнее, потому что я начала подумывать, не осесть ли в Гааге. Поймала себя на том, что пристально приглядываюсь к своим заданиям, к поведению начальства — выискиваю некие знамения. Яна сочувственно покивала и спросила: ну как, объявления почитала? Вон в том кондоминиуме напротив как раз продается квартира.
Я сказала, что почитала, и отпила глоток вина. Яна переехала совсем недавно, но явно освоилась, обживает территорию с присущим ей энтузиазмом. Я знала, что покупка квартиры дает Яне жизненно необходимые чувство безопасности и уверенность: она вышла замуж и развелась еще до тридцати и последние десять лет пробивала себе путь к нынешней должности в Маурицхёйс. Наблюдая, как она открывает кухонный шкаф, достает бутылку оливкового масла, мельничку для перца, я про себя подметила: все уже стоит по местам. Внутри что-то екнуло — нет, не зависть, скорее восхищение, впрочем, не так далеко они ушли друг от друга.
Давай поедим за стойкой, предложила Яна. Я кивнула и села. Она поставила передо мной тарелку с пастой и сказала: всегда хотела квартиру с барной стойкой. В детстве, наверное, такую видела. И она уселась на табуретку напротив меня. Яна выросла в Белграде: мать — сербка, отец — эфиоп, потом, во время войны, ее отправили в школу-пансион во Франции. В Югославию — или, вернее, в то, что теперь зовут бывшей Югославией, — она так и не вернулась. И где она, та самая кухня мечты, которая наконец более-менее воплотилась?
Мечта сбылась, поздравляю, сказала я, и Яна улыбнулась. Да, это здорово, кивнула она. Не так-то все это просто: и найти квартиру, и чтобы одобрили кредит, — она тряхнула головой и сделала дурашливое лицо. Попробуй-ка получи ипотеку, если ты одинокая черная тетка и тебе за сорок. Яна потянулась за бокалом вина. Ну да, я просто ходячая джентрификация. Но жить-то где-нибудь надо…
И тут с улицы ворвался рев сирены. Я нервно дернулась, подняла голову. Машина приближалась — и звук нарастал, затапливая квартиру. Красные и оранжевые огни завихрились по стенам кухни. Яна нахмурилась. Снаружи хлопнула дверь, глухо заворчал мотор. Полиция тут постоянно, сказала Яна, беря бокал. Здесь у нас пару человек ограбили на улице, а в прошлом году так и стреляли. Но мне не страшно, быстро добавила она. Пока она говорила, где-то рядом взвыли еще две сирены. Яна взяла вилку и продолжила есть. Она медленно жевала, а хор сирен заливался все громче. Все как в Лондоне, сказала Яна, в тех районах, где я жила. Ей пришлось повысить голос, чтобы перекричать шум. Гаага — она такая, здесь привыкаешь к спокойствию и поневоле забываешь, каково оно в большом городе.
Вой сирен стих, и мы сидели, почему-то тоже умолкнув. Там что угодно могло быть, наконец выдавила я. Поскользнулся человек в ванной, или кому-то с сердцем плохо стало на кухне. Яна кивнула, и я поняла, что охватившая ее тревожность — это не про страх перед насилием, по крайней мере не только про него, а про то, что она по-другому ощутила себя в собственном доме. В один миг ее квартира перестала быть островком безопасности, которую она так долго пыталась обрести, и сделалась чем-то другим — чем-то более зыбким и ненадежным.
Весь остаток вечера мы просидели загруженные, и довольно скоро я сказала, что пойду. Я зашла в гостиную взять свои вещи и, натягивая пальто, глянула сквозь занавески вниз, на улицу, уже залитую тусклым светом фонарей. Никого, если не считать огонька сигареты — мужчина выгуливал собаку. Он кинул окурок на землю, дернул поводок и скрылся за углом.
Яна прислонилась к стене с чашкой чая в руках, вид у нее был совсем усталый. Я ей улыбнулась. Ты бы отдохнула немного, сказала я, и она кивнула. Открыла мне входную дверь и на пороге внезапно ухватила меня за руку. Ты, главное, осторожнее на трамвай иди, ладно? Она это сказала так тревожно и держала так цепко, что я даже удивилась. Яна отпустила меня и шагнула назад. Ну, я к тому, что осторожность никогда не помешает, пояснила она. Я кивнула и едва успела развернуться, как Яна закрыла дверь у меня за спиной. Щелкнул замок, потом второй, и стало тихо.
2
Я жила в центре, мой район очень отличался от Яниного. Еще до приезда я подобрала себе по объявлению в интернете квартиру с мебелью. Гаага — город вообще не дешевый, но дешевле, чем Нью-Йорк. И в результате я сняла квартиру, слишком просторную для одного человека: с двумя спальнями, гостиной и столовой.
Какое-то время я приспосабливалась к размерам квартиры, непривычности добавляла еще и мебель, чересчур невыразительная для таких площадей. Диван-футон в гостиной, компактный обеденный уголок в столовой — пространство было обустроено и как временное, и как безликое. Подписывая договор аренды, я думала, что шикую — столько места, — помню, как ходила по квартире и мои шаги отдавались эхом: вот тут будет спальня, вот тут, наверное, кабинет. Постепенно ощущение необычности отступило и размеры квартиры перестали казаться такими уж внушительными. И то, что жилье временное, с этим я тоже свыклась, хотя вчера, возвращаясь от Яны, я подумала, до чего же легко она обжила свою квартиру, и внутри шевельнулась неясная тоска.
Наутро, когда я проснулась, было еще темно. Я сварила кофе, набросила пальто и вышла на балкон — вот еще один бонус моей квартиры, и я им неизменно пользовалась, даже в стылые зимние месяцы. Я втиснула на балкон маленький столик, у стены поставила единственный складной стул, а рядом расставила растения в горшках, они, правда, теперь зачахли. Я села. Было совсем рано, на улицах — никого. Гаага — очень спокойный город и напряженно цивилизованный. Но чем дольше я тут жила, тем сильнее ощущала: всеобщая учтивость, бережно сохраняемые здания, прилизанные парки — все это таит в себе какую-то смутную тревогу. Я вспомнила, как Яна вчера сказала: мол, Гаага — она такая, здесь привыкаешь к спокойствию и поневоле забываешь, каково оно в большом городе. Видимо, так и есть, мне все чаще приходило в голову, что смиренное лицо города скрывает сложную и противоречивую натуру.
Вот, скажем, на прошлой неделе я ходила по магазинам в Старом городе, там на людной пешеходной улице мне попались трое людей в рабочей одежде, за ними по пятам следовала машина. Двое сжимали в руках какие-то тонкие пики, а третий удерживал широкую насадку, торчавшую из машины, словно вел слона за хобот. Сама не знаю зачем, но я остановилась поглазеть — возможно, мне стало любопытно, что это они делают так неспешно.
Они подходили все ближе и ближе, и я смогла разглядеть наконец, чем же они заняты. Двое мужчин с пиками тщательно выковыривали окурки, застрявшие между камнями булыжной мостовой, один за другим, кропотливый труд — вот из-за чего они ползли черепашьим шагом. Я глянула себе под ноги: вся земля была усеяна окурками, при том что даже на этом отрезке улицы стояло несколько мусорок, вполне досягаемых. Двое мужчин продолжали свою охоту, а третий шел за ними со слоноподобным пылесосом, прилежно втягивая мусор с помощью машины, чей барабан вмещал, наверное, уже тысячи, если не сотни тысяч окурков — и каждый из них исчез с улицы стараниями этих людей.
Эти трое — почти наверняка мигранты, к примеру из Турции или из Суринама. Между тем сама историческая эстетика города диктует потребность в их труде, не говоря о беспечности богатых обывателей, которые бездумно швыряют окурки на тротуар, когда в нескольких футах от них — специально оборудованные вместилища для мусора, я еще обратила внимание: десятки окурков валяются прямо рядом с урнами. Это так, короткая зарисовка. В подтверждение той мысли, что внешний лоск этого города то и дело тускнеет, а местами так и вовсе отсутствует.
Вокруг меня светало, на горизонте проступили цветные пятна. Я вернулась в комнату и оделась, чтобы идти на работу. Вскоре я вышла из дому. Я уже опаздывала. Заторопилась к ближайшей трамвайной остановке. Пока ждала трамвая, позвонила Яна, она еще была дома, я слышала, как она ходит по квартире, собирая ключи, складывая книги и бумаги. Ты как, нормально вчера доехала? — спросила она, и я заверила, что да, нормально, добралась без приключений. Последовала пауза, потом хлопнула дверь — значит, она уже спускается на улицу. Яна говорила как-то рассеянно, словно позабыла, зачем вообще мне звонит, а потом напомнила, что в субботу я привожу к ней на ужин Адриана, и спросила насчет еды: есть что-то, что он любит или, наоборот, не любит?
Тут как раз подошел трамвай, и я ответила, что любая еда подойдет, а я попозже перезвоню. Я повесила трубку, села в трамвай, и он загромыхал в сторону Суда, где я отработала по контракту уже почти полгода. Большая часть моих коллег пожили в разных странах и по натуре были космополитами, неотделимыми от своих языков. В эти критерии вписывалась и я. Я с самого начала говорила на английском и японском, то есть на языках родителей, и на французском тоже — провела детство в Париже. Еще я выучила до профессионального уровня испанский и немецкий, хотя они, как и японский, оказались не настолько востребованы, другое дело — английский и французский, рабочие языки Суда.
Но свободное владение языком — в моей профессии только начало, устный перевод требует максимальной точности, а к ней я склонна от природы и часто думаю, что я хороший синхронист именно поэтому, а не потому, что способна к языкам. Точность особенно важна в юридических вопросах, и за неделю работы в Суде я усвоила, что используемая здесь лексика обладает и спецификой, и сокровенностью, есть официальная терминология на каждом языке, и команда переводчиков строго ее придерживается. Так заведено по очевидным причинам: если есть два или больше языков, то между их словами в самый неподходящий момент могут разверзнуться бездны.
И мы, переводчики, перебрасываем доски через пропасти, это и есть наша работа. Такая вот навигация, которая требует наряду с аккуратностью еще некой естественной стихийности: иногда приходится импровизировать, чтобы на ходу поймать синтаксис трудной фразы, и ты постоянно в напряжении, и время работает против тебя — в общем, эта самая навигация важнее, чем кажется. Если перевод путаный, то надежный свидетель покажется ненадежным, меняющим показания от переводчика к переводчику. А это уже может повлиять на исход дела в целом, судьи ведь не заметят, сменился человек в кабинке переводчика или нет, даже если слова у них в ушах вдруг зазвучат совершенно иначе — не мужским, а женским голосом, не сбивчиво, а взвешенно.
Зато они заметят, что изменилось их восприятие свидетеля. По свидетельским показаниям, словно от вбитого клина, побегут трещинки недоверия, трещинки превратятся в разломы, и тогда репутация свидетеля — под угрозой. Все предстающие перед Судом создают тот или иной образ; их показания тщательно составлены и отрепетированы с представителями защиты или обвинения, их доставили сюда, чтобы они сыграли роль. Суд по умолчанию исключает неверие: в судебном зале каждый и знает, и не знает, что во всем происходящем, хоть оно и зиждется на достоверности, есть немалая доля притворства.
В Суде на чаше весов лежат ни много ни мало страдания многих тысяч людей, и вот в этом ни капли притворства не допускается. Тем не менее по природе своей Суд — подмостки, где разыгрывается блистательное сценическое действо. И речь не только о мастерски сработанных свидетельских показаниях. Когда я впервые пришла на заседание, меня ошеломило то, как безудержно фонтанируют и обвинение, и защита. Да и сами обвиняемые, одновременно высокомерные и полные жалости к самим себе, — зачастую это выдающиеся персонажи, политики и генералы, люди, привыкшие к высоким трибунам и звучанию собственных голосов. И переводчики не могут оставлять драматизм за скобками, наша задача — не только передать слова, которые произносит фигурант дела, но также выразить или как-то обозначить манеру поведения, нюансы и замыслы, скрывающиеся за словами.
Если слушать, как работает синхронист, то поначалу может показаться, что он выговаривает фразы холодно, выверенно, ровно, но чем дольше слушаешь, тем больше оттенков улавливаешь. Если кто-то шутит, задача переводчика — транслировать юмор или попытку насмешить, если что-то было сказано с иронией, важно передать, что сказанное не нужно воспринимать буквально. Одной лингвистической точности тут мало. Синхронный перевод — чрезвычайно тонкое искусство, недаром в английском и во французском само слово «переводчик» родственно глаголу «интерпретировать»: говорят же, что актер интерпретирует роль, а музыкант — ноты.
Самому Суду и всему, что в нем происходит, присущ некий уровень напряженности — из-за противоречия между потаенной природой боли и необходимостью выставлять эту боль на всеобщее обозрение. Судебный процесс — сложносоставной перформанс, в который все мы вовлечены и от которого никто не в силах полностью освободиться. Переводчик не играет свою роль, просто излагая, его задача — доносить невысказанное. Возможно, в этом главная сложность и для Суда, и для переводчиков. Ведь, если подумать, наш каждодневный труд завязан на повторении — повторении, тщательной проработке, детальной прорисовке того, что в обычной жизни есть предмет иносказаний и недомолвок.
***
Трамвай был битком набит, и на одной остановке влезла большая компания школьников. Они шумели, пассажиры косились на них неодобрительно, но я — нет, я не возражала, наоборот, рада была послушать их разговор, хотя бы те обрывки, что разбирала.
Переезжая в Гаагу, я не знала голландского, разве что немного успела пройтись по верхам, но благодаря его сходству с немецким через полгода я уже что-то понимала. Естественно, почти все в Нидерландах свободно общаются по-английски, да и на работе голландский не в ходу, поэтому я изучала его со слуха — на улицах, в ресторанах и кафе или в трамвае, как сейчас, например. Если не понимаешь языка, то и ощущения от места, где на нем говорят, довольно любопытные, я особенно глубоко прочувствовала это в первые месяцы. Поначалу меня окутывало облако неведения, звучавшая вокруг речь казалась недосягаемой, однако вскоре она перестала ускользать: я начала понимать отдельные слова, потом фразы и даже целые куски диалогов. Время от времени я натыкалась на ситуации, когда лучше бы не слышать услышанного — слишком оно личное, и от этого развеивалась аура невинности, окружавшая город, когда я сюда приехала.
Но сейчас никакого нарушения личного пространства не было: школьники разговаривали громко, кричали чуть ли не во все горло, им хотелось быть услышанными. Я слушала их и попутно наслаждалась постижением нового языка — когда раскрываешь его механизмы, тестируешь их податливость и гибкость. Давно забытые ощущения: все свои языки я освоила либо в раннем детстве, либо пока училась. Голландский у школьников был приправлен сленгом, мне трудновато было понимать все дословно, но если в общих чертах, то, похоже, они обсуждали школу и какого-то то ли учителя, то ли приятеля, который всех достал.
Спустя две-три остановки мне послышалось слово «феркрахтинг», произнесенное одной из девочек, по-голландски «изнасилование». Опешив, я подняла голову, к тому моменту я слушала уже не так внимательно, как в самом начале. Девочке, сказавшей это слово, было лет двенадцать или тринадцать — густо подведенные черным глаза, пирсинг в носу. Она продолжала говорить, я расслышала фразу «бэл де полити», или мне почудилось. Но другая девочка, собеседница, в ответ захихикала, а следом и та, что с пирсингом, тоже начала смеяться, после чего я уже не была уверена, правильно ли я расслышала: в конце концов, изнасилование и вызов полиции — так себе повод для смеха. Девочка с пирсингом, должно быть, почувствовала, что я на нее смотрю, она резко развернулась и уставилась на меня, и, хотя она все еще смеялась, взгляд у нее был пустой и тяжелый, совсем безрадостный.
Трамвай подъезжал к моей остановке. Девочки переключились на обсуждение нового бренда кроссовок, я еще несколько раз глянула на ту с пирсингом, но она больше не обращала на меня внимания. Я вышла, взволнованная неожиданной встречей. Трамвай покатил дальше, а надо мной возвышалось здание Суда, обширный стеклянный комплекс, угнездившийся среди дюн на краю города. Поневоле забываешь, что Гаага расположена на побережье Северного моря, — город всячески старается нацелиться внутрь, стоит, развернувшись спиной к открытой воде.
До приезда, когда я только подала резюме и мне предложили работу, Суд представал в моем воображении чуть ли не средневековым институтом, наподобие Бинненхофа, парламентского комплекса в паре миль от центра города. Даже по приезде и в первый месяц я всякий раз изумлялась при виде Суда. Я прекрасно знала, что Суд — структура совсем новая, он был создан десять лет назад, но современная архитектура все равно с ним никак не вязалась, ей словно бы недоставало того пафоса, которого я ожидала.
Но прошло полгода, и Суд превратился в обычное место работы: ко всему мало-помалу привыкаешь. Проходя через рамку металлоискателя, я поздоровалась с охранниками, спросила, как их семьи, заметила что-то насчет погоды — вот так я и практикую свой голландский. Забрав сумку, я двинулась через внутренний двор в здание. Там я увидела Роберта, еще одного переводчика, он подождал меня, чтобы идти вместе. Роберт — большой и доброжелательный англичанин, компанейский и обаятельный; я со своей относительной немногословностью — исключение среди переводчиков. Если перевод — своего рода представление, то и исполнителям полагается быть уверенными и словоохотливыми. Вот Роберт прямо-таки воплощает эти качества, он по выходным играет в регби и участвует в любительских театральных постановках. Мы никогда не сидели вместе в кабинке, но я временами задумывалась, какой из него партнер: я бы, скорее всего, переживала, что меня затмили, пыталась бы как-то соответствовать модуляциям и напыщенности его голоса, на редкость медоточивого — спасибо классовому происхождению и английским закрытым школам.
По пути к офису Роберт сообщил мне, что сегодня ни одна палата не заседает, что, если честно, и к лучшему, заметил он, у тебя ведь наверняка с бумагами поле непаханое, как и у меня. Мы поздоровались с коллегами и прошли каждый к своему столу, все
