автордың кітабын онлайн тегін оқу Наблюдатель. Очерки истории видения
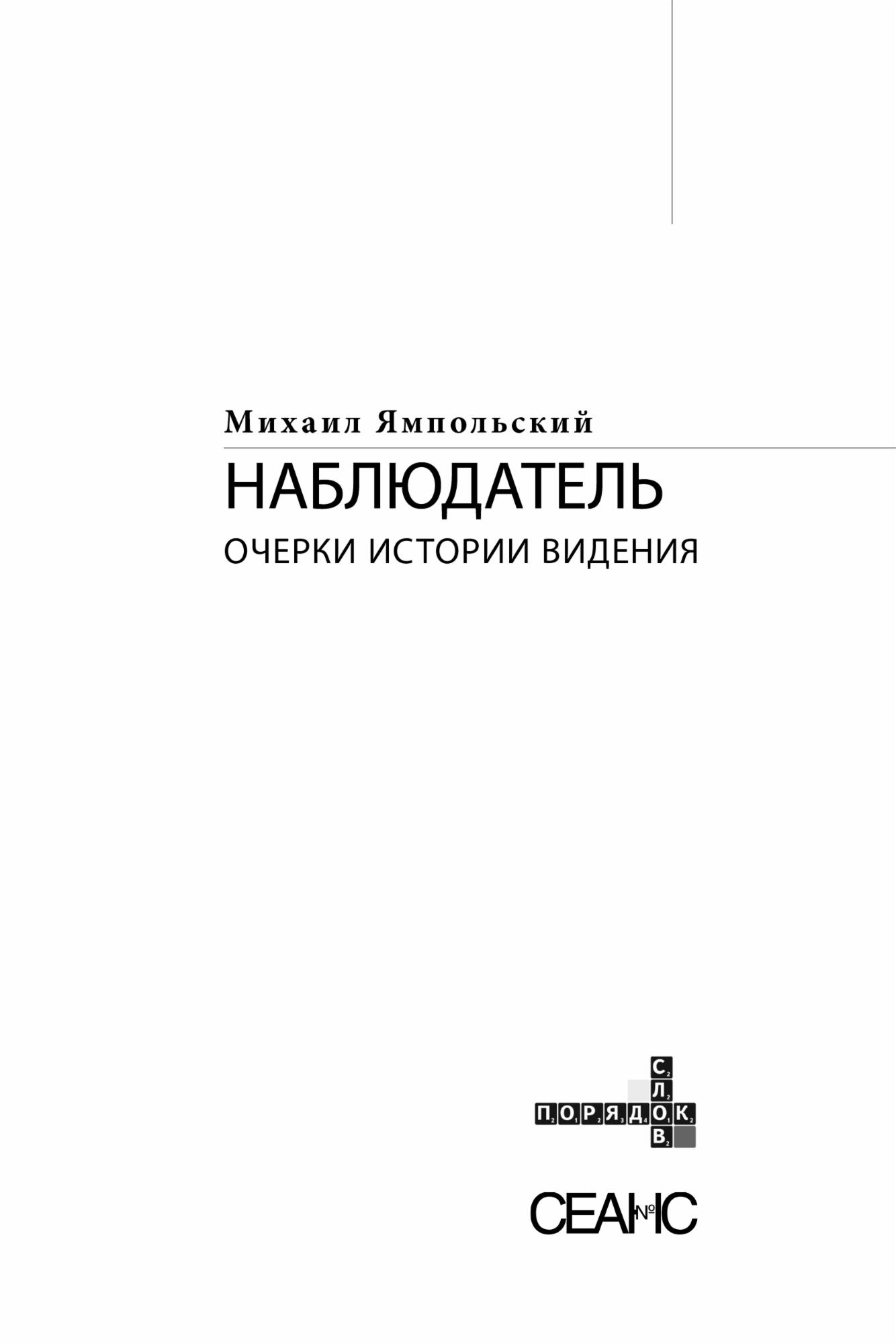
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Читатель держит в руках второе издание книги, выпущенной в издательстве «Ad Marginem» в 1998 году. Но собранные в ней тексты были написаны гораздо раньше, в основном в 80-е годы молодым еще тогда человеком. Естественно, возникает вопрос: каков резон переиздавать эти старые тексты? Не скрою, что они уже кажутся мне чужими и — в какой-то мере в силу большой временной дистанции — вызывают легкое чувство ностальгии.
Но дело, конечно, не в ностальгии. В книгу включены тексты, посвященные истории культуры, представленной в плоскости истории зрения, видения. Методологически они отражают мои представления о культуре тех лет. Представления эти сложились под влиянием структурализма 1960—1970-х, хотя в книге об этом нет речи. Важным тогда для меня было положение Юрия Лотмана о том, что смысл — это память «употреблений», узуса. Не менее важным было и положение Леви-Стросса о мифе, чей смысл возникает из множества неунифицируемых вариантов. Мне казалось тогда, что, просматривая движение каких-нибудь существенных мотивов, можно составить карту культуры определенного периода и описать переход от одного периода к другому. Работу такого рода, меня вдохновлявшую, проводил тогда В. Н. Топоров, выстраивая свой петербургский миф.
Существенным отличием моих очерков было введение фигуры наблюдателя, которая связывалась для меня со структурой репрезентации, описанной Фуко, в которой дискурсивное поле культуры вплоть до ХХ века строилось по отношению к точке зрения субъекта. Переход к зрелой современности при этом описывался мной не как исчезновение этой внешней по отношению к объекту точки зрения, но как ее инкорпорирование в саму «машину» зрения. Когда в молодости я изобретал эту фигуру наблюдателя, я совершенно не отдавал себе отчета в том, что она была по существу метафорой автора книги, то есть меня самого, взирающего на культуру как на некое тематическое визуальное поле. Наблюдатель лишь обозначал мою собственную позицию. Именно перед автором этих очерков и располагались плоскости зрения, которые, как мне тогда казалось, были обращены не ко мне, а к моему умозрительному персонажу. Сегодня я отчетливо понимаю, что сама операция описания таких тематических областей культуры является операцией их конструирования. Ведь, когда я выбираю тот или иной мотив и провожу его через множество текстов, я сам создаю некую тотальность, область, в которой мотив начинает резонировать и образует некое поле, становящееся объектом моего описания. Сегодня я уверен в том, что культура действует не как система повторяющихся мотивов, но как система совершенно неоднородных и бесконечно расширяющихся связей, как «мир» феноменологических описаний. Но тогда, когда я сочинял эту книгу я не думал о Dasein Хайдеггера, не принимал в расчет странных конструкций Аби Варбурга и гораздо хуже понимал Вальтера Беньямина, чей интерес к стеклянной архитектуре был одним из источников моего интереса к теме стекла.
Если бы я писал эту книгу сегодня, я бы не стал нанизывать, например, один водопад на другой, но перешел бы от водопада к голосу, к образу невидимого бога, манифестированного только в голосе, и одновременно к теме реки, метафоре времени и жизни, с ней связанной, и т. д. Иначе говоря, я бы строил гетерогенную, а не гомогенную карту культуры. Но именно потому, что я бы не мог сегодня написать такой книги, я, вероятно, все еще ценю эти очерки. Они сами представляются мне теперь отражением определенного типа сознания и культуры, но, главное, я вижу в них зеркало, отражающее исчезнувшего наблюдателя, который мне интересен тем, что он одновременно и все мы, и я сам.
Нью-Йорк, февраль 2012
ВВЕДЕНИЕ
В 1781 году Кант опубликовал «Критику чистого разума». C этого момента можно отсчитывать историю кризиса субъекта в европейской культуре. Декартовское cogito было связано с мыслящим индивидом. Кант в рамках своей критики, однако, был вынужден отказать картезианскому «Я мыслю» в праве быть основанием субъектности. Поскольку Я существует во времени, а не в пространстве, его существование, по определению, дается нам лишь в формах изменения, различия:
Сознание самого себя при внутреннем восприятии согласно определениям нашего состояния только эмпирично, всегда изменчиво; в этом потоке внутренних явлений не может быть никакого устойчивого или сохраняющегося Я*.
* И. Кант. Критика чистого разума. M., 1994, с. 504.
Для того, чтобы сохранить субъект, Кант был вынужден ввести понятие «трансцендентальной апперцепции» — чисто логическое основание, позволяющее постулировать единство нашего сознания. Но став чисто логическим основанием единства субъекта, трансцендентальная апперцепция по существу лишилась всякого эмпирического наполнения.
Кантовская революция, отразившая первую стадию в кризисе субъекта, в значительной мере предвосхитила и определила развитие европейского искусства. Филипп Лаку-Лабарт и Жан-Люк Нанси правы, утверждая, что романтизм был реакцией на кантовскую интерпретацию субъекта. По их мнению, поскольку кантовское cogito пусто, а функция субъекта отныне сводится лишь к обеспечению единства синтеза,
трансцендентальное воображение, Einbildungskraft, это функция, которая должна оформлять (bilden) это единство, и оно должно оформлять его в виде Bild, в качестве репрезентации или картинки, или иными словами, феномена*.
Речь идет об исчезновении «идей» и их замещении визуальными восприятиями, которые постигаются и синтезируется воедино с помощью этой загадочной, эмпирически непредставимой трансцендентальной апперцепции.
По мнению Лаку-Лабарта и Нанси, форма фрагментов, типичная для романтической литературы, тесно связана с кантовским кризисом субъекта, которому отводится роль инстанции, унифицирующей, упорядочивающей хаос фрагментов в единстве интеллектуального синтеза**. Хаос кристаллизуется в форму с помощью мгновенной интуиции, получившей у романтиков определение «остроумия» (Witz), случайного озарения, неожиданно обрушивающейся идеи (Einfall).
* Ph. Lacoue-Labarthe, J.-L. Nancy. The Literary Absolute. Albany, 1988, p. 30.
** Ibid., p. 52.
Новое понимание субъекта неотделимо от общей эволюции культуры, по-новому сплетающей между собой старые темы: мир как хаос, нуждающийся в упорядочивании, идею случайности и т. д. Но главное следствие кризиса субъективности — это превращение субъекта в наблюдателя. Субъект все в меньшей степени понимается как «человек мыслящий» и в большей степени как «человек наблюдающий». Конечно, визуальная сфера становится очень важной уже в эпоху Ренессанса. Но от Ренессанса до Канта видение неотторжимо от теоретической рефлексии. В XIX веке, однако, теоретическая рефлексия постепенно заменяется «синтезом», связанным с узнаванием, памятью, расшифровкой и т. д., то есть операциями весьма далекими от картезианской геометрии или теории перспективы. Это превращение субъекта в наблюдателя становится особенно очевидным в XX веке, требующем от наблюдателя безостановочного синтеза рваного потока визуальных образов.
Книга, которую держит в руках читатель, не является историей субъективности. Ее тема — история наблюдателя с кантовских времен до 20-х годов прошлого столетия. Она задумана как серия очерков, фрагментарно прослеживающих постепенное «исчезновение» рефлексии из сознания наблюдателя и его превращение в чистую, «бессознательную» машину видения, в которой интенциональность становится формой проявления случайности. В центре повествования — явления, обыкновенно соотносимые с европейским романтизмом. В первой главе описывается символическое превращение художника в старьевщика, человека, наделенного сверхострым зрением и выискивающего перлы в хаосе тряпья и отбросов. Старьевщик — еще совершенно романтическая, мифологическая фигура, существующая в ауре театральности и травестии. Новый тип наблюдателя, отказывающийся от «нормального» зрения во имя обнаружения фрагмента, детали, еще воспринимается как травестированная ипостась художника*.
* В дальнейшем литераторы, натренированные на видение деталей (Набоков, Э. Юнгер), будут стилизовать себя, например, под ученых-энтомологов, а не театральную богему.
В последующих главах наблюдатель сталкивается с целым рядом нетривиальных ситуаций, в которых невозможно сохранить «естественную» дистанцию от объекта наблюдения. Расстояние между наблюдателем и объектом, не имеющее существенного значения для Декарта, у Канта уже играет важную роль. Так, он утверждает, что возвышенное в пирамидах может быть обнаружено только с определенной дистанции: «…дабы испытать все волнение от величины пирамид, не надо подходить слишком близко к ним, но и не надо отходить от них слишком далеко»*. Постепенно, однако, ситуация наблюдателя будет предполагать постоянное нарушение некой «естественной» дистанции и развитие того, что Алоис Ригль определит как «близкое» (Nachsicht) или «далекое»(Fernsicht) видение в оппозиции к «нормальному» видению (Normalsicht)**. Ситуация будет осложнена также и тем, что наблюдатель оказывается вынужденным постоянно переходить от «близкого» видения к «далекому», а с какого-то момента он вообще утрачивает способность занимать определенную позицию в пространстве и даже во времени. Эта сложность приводит к возникновению «ши́зы» внутри воображаемого наблюдателя и создает ситуацию, при которой он уже не в состоянии нормализовывать и упорядочивать восприятия в неком синтезе. Под угрозой оказывается уже не просто эмпирическое единство субъекта, но и сама логическая функция трансцендентальной апперцепции.
* И. Кант. Критика способности суждения / И. Кант. Сочинения в 6 тт. Т. 5. М., 1966, с. 258.
** A. Riegl. Late Roman Art Industry. Roma, 1985, pp. 24–27.
Книга эта задумывалась в Москве, а завершена была в Нью-Йорке. Первые варианты глав (для книги они все переписаны заново) печатались в периодических изданиях, главным образом, в «Трудах по знаковым системам», «Советском искусствознании» и «Декоративном искусстве СССР». Жанр книги всегда виделся мне как жанр очерков истории культуры. Ее написание растянулось на многие годы и было связано среди прочего с целом рядом методологических трудностей. Историческая культурология в значительной степени сформировалась в русле «истории идей» или традиций «Варбургской школы». В «Наблюдателе» я отдаю дань этим влиятельным направлениям. Моя связь с ними выражается прежде всего в интересе к символическому измерению моего сюжета, в прослеживании процессов символизации тех или иных объектов (вулкан, стекло, водопад и т. д.). Однако история видения отличается от «истории идей» как раз тем, что она существует вне сферы идей. Поэтому в предлагаемых очерках я старался постоянно выходить за чисто символическое в область свободно понимаемой феноменологии восприятия. Возможным вариантом было использование методологии, разработанной Мишелем Фуко, который посвятил замечательные главы своей книги «Наблюдать и наказывать» как раз трансформации форм видения. Но тема данной книги с трудом укладывалась в модель «дискурсивных практик». Показательно, что когда Фуко рассматривает паноптическое видение, кристаллизованное в структуре тюрьмы, придуманной Бентамом, он совершенно не касается того, что собственно видит наблюдатель в центральной башне. Согласно Фуко, Бентам построил Паноптикон на основе
…принципа, согласно которому власть должна быть видимой и непроверяемой (invérifiable). Видимой: заключенный постоянно будет иметь перед глазами высокий силуэт центральной башни, откуда за ним следят. Непроверяемой: заключенный никогда не должен знать, смотрят ли на него в данный момент; но он должен быть уверен в том, что на него всегда могут посмотреть*.
* M. Foucault. Surveiller et punir. Paris, 1975, p. 203.
Меня же интересует как раз то, что видит наблюдатель в башне. Совершенно очевидно, что реальный наблюдатель не может одновременно видеть все внутреннее кольцо здания, в центре которого построена башня. Паноптичность видения у Фуко вписана в структуру здания, отражающего структуру власти, но не в сознание наблюдателя, скрываемое за понятием «непроверяемости». Фуко закономерно называет Паноптикон оптической машиной, для функционирования которой, в принципе, безразлично, что видит конкретный наблюдатель, помещенный в ее оси. Внешне Паноптикон напоминает здание панорам, о которых речь идет в данной книге, но для функционирования панорам как раз совсем не безразлично, что видит ее посетитель. Панорама также является оптической машиной, но такой, которая создает сложности в восприятии наблюдателя, хотя и помещенного в центр, но утрачивающего центральное положение субъекта, традиционно связываемое с точкой зрения живописной перспективы.
В центре книги — не столько оптические машины (о которых речь идет в последней главе и в заключении), сколько именно положение наблюдателя внутри этих машин-структур.
В конце концов, я склонился к сохранению весьма традиционного исторического повествования, сфокусированного на отношениях между наблюдателем и его объектом и поведении наблюдателя перед лицом меняющихся объектов. «Объекты» при этом рассматриваются как в символическом, знаковом, так и в феноменологическом ключе. Значительное внимание уделено также «медиуму» зрения — среде, в которой объект обретает видимость и которая сама в итоге становится «объектом» (транспарантный покров, стекло). Значение медиума определялось тем, что по мере усиления процесса, который я описываю, как «отделение» наблюдателя от самого себя, на медиум начинают проецироваться свойства восприятия: например, время, затрачиваемое на восприятие образа, превращается во время прохождения образа через стекло. Иными словами, функция наблюдателя постепенно передается самому медиуму (фиксация изображения на сетчатке становится эквивалентной экспонированию фотопленки).
Нью-Йорк, февраль 1998 года
Глава 1. СТАРЬЕВЩИК
В 1859 году Эдуард Мане сделал попытку выставить в Салоне картину «Любитель абсента», но она была отвергнута жюри. На холсте изображен мужчина в цилиндре и коротком плаще, справа от него на каменном парапете стоит бокал с абсентом, у ног валяется пустая бутылка. Прототипом «Любителя абсента» был некий Колларде — старьевщик. Однако, как показала Э. Лайер-Бурчарт, «Любитель абсента» одновременно является и автопортретом Мане*. Необычное проецирование образа художника на фигуру старьевщика получило классическое выражение в известном стихотворении Бодлера «Вино тряпичников» (вероятном источнике Мане) и было проанализировано Вальтером Беньямином. Напомню текст стихотворения Бодлера:
* E. Lajer-Burcharth. Modernity and the Condition of Disguise: Monet's «Absinthe Drinker». — Art Journal, v.45, №l, Spring 1985, pp. 18–26. Мане также изобразил старьевщика в картине «Старый музыкант». См.: A. Coffin Hanson. Popular Imagery and the Work of Edouard Manet. In: French 19th Century Painting and Literature. Manchester, 1972, pp. 133–163; Manet and the Modern Tradition. New Haven, 1980.
При свете красного, слепого фонаря,
Где пламя движется от ветра, чуть горя,
В предместье города, где в лабиринте сложном
Кишат толпы людей в предчувствии тревожном,
Тряпичник шествует, качая головой,
На стену, как поэт, путь направляя свой;
Пускай снуют в ночных тенях шпионы,
Он полон планами; он мудрые законы
Диктует царственно, он речи говорит;
Любовь к поверженным, гнев к сильным в нем горит:
Так под шатер небес он, радостный и бравый,
Проходит, упоен своей великой славой..
Погруженный в мечтания нищий старьевщик идет в кабак, — вино источник всех его возвышенных грез:
Чтоб усыпить тоску, чтоб скуку утолить,
Чтоб в грудь отверженца луч радости пролить,
Бог создал сон; Вино ты, человек, прибавил
И сына солнца в нем священного прославил*.
Видения славы и пиршеств, роящиеся в сознании пьяного старьевщика, непосредственно связывают этот образ с темой вина и гашиша как стимуляторов поэтического воображения у Бодлера. Тема эта развита еще более зримо в раннем варианте стихотворения**, а также в прозе Бодлера, в эссе «О вине и гашише», где описание старьевщика предстает своеобразным комментарием к стихотворению:
* Ш. Бодлер. Цветы зла. М., 1970 (перевод Эллис).
** Бодлер пишет о старьевщиках в первом варианте «Вина тряпичников»: «Однажды ночью, когда они оказываются во власти иллюзий, /А дух их озаряется странными видениями, Они уходят <…> / И никто никогда не видел их славных подвигов, / Шумных триумфов, торжеств, / Оживающих в глубинах их мозга, / Более прекрасных, чем те, о которых могут мечтать Короли».[Ont une heure nocturne, où pleins d'illusions, / Et l'esprit éclairé d'étranges visions, / Ils s'en vont <...> / Mais nul n'a jamais vu les hauts faits glorieux, / Les triomphes bruyants, les fêtes solemnelles, / Qui s'allument alors au fond de leurs cervelles, / Plus belles que les Rois n'en rêveront jamais] (Baudelaire. Les Fleurs du Mal. Paris, 1961, pp. 121–122). Отметим существенный мотив сравнения старьевщика с королем, а также сходство их видений с видениями самого Бодлера в «Парижском сне». Вино — непременный атрибут тряпичника, но в данной работе мы не будем его касаться, так как этот мотив представляется наиболее очевидным для интерпретации и хорошо изучен Л. Бадеско и В. Беньямином.
Вот человек, который должен собирать то, что столица выбросила за день. Все то, что большой город отбросил, потерял, презрел, разбил, он упорядочивает (il le catalogue), коллекционирует. Он сверяется с архивами разврата, свалками отбросов. Он сортирует, точно отбирает; подобно скупцу, он собирает клад, мусор, который станет предметами, приносящими пользу или наслаждение после того, как его пережует божество Промышленности. <…> Он одет в свою ивовую шаль, украшенную номером семь. Он появляется, качая головой и спотыкаясь на мостовых, подобно юным поэтам, целые дни бредущим в поисках рифм. Он что-то говорит сам себе; он изливает душу в холодный и сумрачный воздух ночи. Это великолепный монолог, делающий ничтожными самые лирические из трагедий. <…> Кажется, что номер семь превратился в железный скипетр, а ивовая шаль в императорскую мантию. <…> Он проскакал на лошади под триумфальной аркой*.
Сравнение старьевщика с поэтом, бредущим в поисках рифм, перекликается с самоописанием Бодлера в стихотворении «Солнце»**: перед нами вновь скрытый автопортрет художника.
* Baudelaire, Œuvres complètes. Рaris, 1968, рp. 305–306. О цифре «семь» на шали старьевщика см. ниже.
** «Бреду, свободу дав причудливым мечтам, / И рифмы стройные срываю здесь и там. / То, как скользящею ногой на мостовую, / Наткнувшись на слова, сложу строфу иную».(Ш. Бодлер. Цветы зла, с.140, [перевод Эллис]). Солярный аспект мифа о старьевщике отчасти проанализирован Л. Бадеско, показавшим, что он связан с символикой Бахуса: «Солярный характер Бахуса является следствием его идентификации с фракийским богом Сабазием, который был также богом пророческого вдохновения и чей исступленный восторг подобный опьянению в конце концов связался с возбуждением, вызываемым вином» (L. Badesco. Baudelaire et la revue Jean Raisin. La première publication du «Vin des chiffonniers». — Revue des Sciences Humaines, fasc. 85, janvier-mars 1957, p. 81). Однако у Бодлера солярная символика, с нашей точки зрения, сложнее, так как входит в контекст ночи, меланхолии и сатурнической символики (см. ниже), и поэтому может быть интерпретирована как «черное солнце Меланхолии» — образ, встречающийся у Т. Готье, В. Гюго, Ж. де Нерваля. Бодлер мог быть знаком с вариацией на тему солнца в «Меланхолии I» Дюрера, принадлежащей высоко ценимому им немецкому графику Альфреду Ретелю — «Два солнца, разрезанных надвое». Cм.: Baudelaire. Curiosités esthétiques. L'Art romantique et autres œuvres critiques. Paris,1962, pp. 507–508. В некоторых случаях вино могло ассоциироваться не только с кровью (солярный аспект), но и с чернилами (ночной аспект), как у Ж. Валлеса: «Винo быстро превращается в кровь. Чернила, газетные чернила (всегда завораживавшие Валлеса! до эпохи Коммуны он находил их “опьяняющими, как вино”) превращаются <...> в кровь и кровь горячую...» (R. Bellet. Rue de Paris et Tableau de Paris. Vieux Paris et Paris révolutionnaire chez Jules Vallès. In: Paris au XIXe siècle. Aspects d'un mythe littéraire. Paris, 1984, p. 141). В данной работе мы не можем более подробно остановиться на взаимоотношениях ночного и солярного символизма, а также мотивах вина и крови у Бодлера и в символике старьевщика.
Беньямин объясняет метафору поэта как старьевщика социальной маргинализацией и обнищанием художника*, его превращением в своего рода люмпен-пролетария духовного производства (Lumpen по-немецки — тряпка, Lumpenhandler — старьевщик).
На мифологическом уровне, согласно Беньямину, интерес к старьевщику связан с возникающим интересом к миру социального дна и его героизацией, с интересом к миру тайны и ночных заговоров, к полунищей богеме. «И для старьевщика и для поэта важны отбросы; и тот и другой занимаются своим делом в одиночестве в те часы, когда буржуа предаются сну; их манера держаться, даже их походка сходны»**. И, наконец, героизация старьевщика связана с тем, что «современный герой является не просто героем — он играет роль героя»***, а потому может принимать разные обличья — фланера, денди, апаша, старьевщика.
* W. Benjamin. Charles Baudelaire. Un poète lyrique à l'apogée du capitalisme. Paris, 1982, pp. 33–35.
**Ibid., p. 116.
*** Ibid., p. 139.
В этих замечаниях Беньямина важен акцент на трансформации функции художника, который отныне соотносится с некими сущностями, выражаемыми им в искусстве не непосредственно, как это делает пророк или провидец, но в рамках определенной роли, которую он разыгрывает. «Он играет роль героя». И это разыгрывание роли существенно и для статуса текстов, которые он производит. Тексты сами начинают становится продуктом некой театральной травестии. Присвоение художникам роли старьевщика отражает и изменение статуса реальности, с которой соотносится художник. Этому присвоению предшествовала интенсивная символизация фигуры старьевщика, складывание своего рода культурного мифа внутри возникающей в XIX веке разветвленной городской мифологии.
Одним из эффективных способов мифологизации действительности является ее театрализация. Проекция театральных кодов на реальность облегчает процесс ее «окультуривания» и символизации. Реальность превращается в репрезентацию, предназначенную для созерцания. Театр как знаковая система предполагает восприятие жизни как зрелища, человека как актера и вводит чрезвычайно важное для культуры понятие травестии. Дух травестии позволяет видеть в человеке не то, чем он в действительности является, а нечто иное, скрытое. Травестия является важным элементом в процессе метафоризации социального типа. В XVII — XVIII веках театральные коды проецировались на максимально семиотизированную культуру — культуру двора*. Крах «старого режима» и придворной культуры приводит к неожиданному эффекту переноса придворной театральности на целый город. Город становится своего рода придворным театром буржуазии.
* Показательно, что в начале XVIII века всеобщее распространение получает новая форма развлечения — маскарад, — окончательно кодифицирующая травестию. Маскарад завозится из Венеции и распространяется по европейским столицам. См.: T. Castle. The Female Thermometer. New York–Oxford, 1995, pp. 82–119.
Это явление имеет множество причин. Новое общество пришло к власти под лозунгом всеобщего равенства. Но по мере складывания новой культуры возникает потребность в восстановлении символической иерархии ценностей. При этом новая иерархия в значительной мере имитировала уже существующую — старую, аристократическую. Восстановление в измененном виде старых парадигм камуфлировало новые рыночные отношения старой символической парадигмой, которая привилегировала иные ценности — аристократизм рода, благородство духа и т. д. Буржуазия решительно и быстро оформляет себя в новую аристократию. Отсюда глубокая потребность в новой театральности. Буквально все слои общества начинают играть некоторые символические роли, копирующие старые иерархии. Несоответствие этих ролей реальности ощущается всеми, как «актерами», так и «зрителями». Особую роль в этом социальном театре играет художник, которому в эпоху абсолютизма отводилось иное амплуа, правда, и тогда также не соответствовавшее его реальному статусу. Жан-Поль Сартр так описывает это явление:
Когда аристократический класс рушится, писатель испытывает глубокое потрясение от падения своих покровителей; он вынужден искать новый источник санкционирования. Отношения, которые он поддерживал со священной кастой духовенства и аристократии, воистину меняли его классовую принадлежность, то есть отрывали его от класса буржуазии, чьим выходцем он был, смывали с него печать его происхождения, возвышали его до аристократии, в чье лоно он, тем не менее, не мог войти*.
Сартр показывает, что революция возвращает художника внутрь буржуазии, по отношению к которой он осуществляет «мифический разрыв»:
Этот разрыв будет безостановочно разыгрываться через символическое поведение: одежду, питание, нравы, речи и вкусы, которые неотвратимо должны изображать разрыв, иначе, без неусыпного внимания, последний рискует оказаться незамеченным**.
* J.-P. Sartre. Baudelaire. Paris, 1964, p. 173.
** Ibid., p. 176.
Художник, вырабатывая для себя театрализованную культуру богемы или дендизма, принимает роль травестированного аристократа, тем самым активно включаясь во всеобщий социальный театр. В этом театре буржуазия копирует непосредственно старую аристократию, художники копируют ее в инвертированном виде, еще более выпячивая театральность своей травестии. Идет борьба за вакантное место аристократии в символической парадигме. Различные слои общества включаются в соревнование за право иллюзорного присвоения себе этой мифической роли.
Ощущение тотальной театральности французского общества начиная с 30-х годов XIX века становится всеобщим. Бальзак пишет о «миллионной театральной труппе, играющей на подмостках огромного театра, именуемого Парижем»*. Анри Монье так описывает Париж:
Комедию играли повсюду, в салонах, в мансардах, в мастерских и даже в коморках консьержей. Мелкие буржуа изучали перед зеркалом улыбку и жеманные манеры большой кокотки; детей двенадцати лет заставляли играть роль Селимены, скромная белошвейка между двумя стежками изучала трагедийные тирады. Коммивояжеры, чиновники, рабочие и даже рантье образовывали труппы для исполнения комедий. Театр делался из двух ширм. Театральные залы располагались на каждой улице и почти в каждом доме. На острове их было по меньшей мере дюжина**.
Луи Вёйо проницательно замечал: «демократический народ — это народ гистрионов. Гистрионство помогает добиться почестей, а патрицианство опускается до гистрионства»***.
* О. Бальзак. Собр. соч. в 15 тт. Т. 10. М., 1954, с. 440.
** H. Monnier. Mémoires de monsieur Joseph Prudhomme. Paris, 1964, pp. 31–32.
*** L. Veuillot. Les odeurs de Paris. Paris, s.d., p. 123. Театрализацию французской жизни отмечали и иностранцы. Гейне: «Французы — придворные актеры господа бога. <...> В жизни, так же как и в литературе, и в изобразительных искусствах французов господствует театральность» (Г. Гейне. Собр. соч. в 6 тт. Т. 5. М., 1983, с. 158). Белинский: «Это народ внешности; он живет для внешности, для показу, и для него не столько важно быть великим, сколько казаться великим, быть счастливым, сколько казаться таким. <...> ...В их домах внутренние покои пристраиваются к салону, и домашняя жизнь есть только приготовление к выходу в салон, как закулисные хлопоты и суетливость есть приготовление к выходу на сцену» (В. Белинский. Собр. соч. в 3 тт. Т. 1. М., 1948, с. 407).
Он же с характерной для него проницательностью указывал на то, что светская декламация драм Скриба перед сомнительной аудиторией буржуа лишь имитировала придворные спектакли прошлого, когда маркиза де Ментенон заставляла девочек из Сен-Сира декламировать Расина. Символическая связь неоклассической драмы XIX века с классицистским театром представляется несомненной. Буржуазный театр улиц, будучи пародией на придворный театр прошлого, выражал социальное существо театральной истерии.
Театральный миф, сложившийся во Франции и Англии — двух странах классического капитализма — между 1830 и 1860 годами, имеет специфическую окраску. Театр предстает как место хаотического нагромождения атрибутов и масок минувших времен, как костюмерная ролей, отыгранных в феодальную эпоху. Теофиль Готье так определяет характер времени: «Наши времена обвиняют <…> в том, что они не имеют своего собственного лица и вдохновляются модами прошлого; при этом забывают, что их оригинальность как раз и состоит в том, что они являются карнавалом минувших эпох. Это эпоха пародий»*. В «Капитане Фракассе» Готье подробно развивает мифологему «мира как театра», подчеркивая все то новое, что внес в эту древнюю метафору XIX век:
* Е. Bergerat. Theophile Gautier. Entretiens, souvenirs et correspondance. Paris, 1880, p. 96.
Повозка комедианта содержит весь мир. Действительно, разве театр не является конспектом жизни, подлинным микрокосмом, о котором грезят философы в своих герметических мечтаниях? Не заключает ли он в своем кругу совокупность вещей и человеческих судеб, представленных вживе в складывающихся в единый рисунок вымыслах? Эти груды старых изношенных вещей, пыльных, испачканных маслом и салом, расшитых фальшивым червонным золотом, эти рыцарские ордена из фольги и стекляшек, античные клинки в медных ножнах и с ржавыми лезвиями, все эти каски и диадемы ложно-греческой или римской формы, разве не являются они чем-то вроде старья (la friperie) человечества, в которое при свете свечей одеваются, возрождаясь на мгновение, герои отошедших времен? Пошлый, буржуазно-прозаический дух нашел жалкое применение этим убогим богатствам, этим нищим сокровищам, которыми довольствуется поэт, чтобы одеть в них свою фантазию, и которых поэту хватает, чтобы в иллюзорном свете и с помощью языка богов околдовать самых придирчивых зрителей*.
Тот факт, что современная история предстает как тотальная травестия, лишает предметы органической связи со своим временем и с идеей подлинности. Любая вещь в таком контексте становится аллегорией в беньяминовском понимании этого слова, а аллегория в свою очередь с неизбежностью превращается в театральный реквизит. Изъятие вещи из органики исторического контекста проецирует на нее свойства ветоши, старья, с неизбежностью накладывает на нее отпечаток упадка или, по выражению того же Беньямина, «руин»**. Такие аллегоризированные вещи действительно сваливаются вместе без всякого разбора и смысла подобно тому, как они размещаются в театральной реквизиторской или в лавке старьевщика.
* T. Gautier. Le Capitaine Fracasse. М.: Progrès, 1965, p. 123.
** W. Benjamin. The Origin of German Tragic Drama. London–New York, 1977, pp. 176–179.
Готье закономерно обнаруживает аналогию между театром «эпохи пародий» и лавкой старьевщика. Не случайно он использует слово la friperie (старье, ветошь, хлам, le fripier — cтарьевщик) и говорит о «нищих сокровищах» (выражение, ставшее клише), постичь и использовать которые может только поэт.
Сближение театра и ветошной лавки становится общим местом. В значительной мере этому способствовала своеобразная топография Лондона и Парижа, где лавки старьевщиков оказались в непосредственной близости от театров. Эта топография подвергается усиленной мифологизации.
Диккенс исследует лавки старья возле театров Друри-Лейн и Ковент-Гарден:
В каждой лавке старьевщика на примыкающих к театрам улицах вы непременно увидите обветшалые принадлежности театрального костюма, вроде грязной пары ботфорт с красными отворотами, в коей не так давно щеголял “четвертый разбойник” или “пятый из толпы”, заржавелого палаша, рыцарских перчаток, блестящих пряжек <…>. В узких переулках и грязных подворотнях, каких множество вокруг театров Друри-Лейн и Ковент-Гарден, таких лавок несколько, и все они торгуют столь же заманчивым товаром — иногда с добавлением розового дамского платья, усеянного блестками, белых венков, балетных туфель или тиары, похожей на жестяной рефлектор лампы. Все это в свое время было куплено у каких-нибудь нищенствующих статистов или актеров последнего разбора*.
В Париже главный рынок старья — рынок Тампль — находился на левой стороне бульвара Тампль, по правой стороне которого сконцентрировались популярные театры: Пти-Лазари, Фюнамбюль, Ле Деляссман Комик, Ла Гете, Театр-Лирик и Цирк**. Мари Эйкер так описывает жизнь Тампля:
* Ч. Диккенс. Собр. соч. в 30 тт. Т.1. M., 1957, c. 248-249.
** См. L. Enault. Les Boulevards. In: Paris et les parisiens au XIXe siècle. Mœurs, arts et monuments. Paris, 1856, pp. 166–167.
Там живут люди, которые меняют, продают и перепродают и через чьи руки проходят туалеты города и двора. В старых сундуках здесь погребены одежды, которые блистали при дворе Людовика XIV, парчовые платья, которые видели регентство. <…> Именно в Тампль устремляется артист в поисках утраченного типа XVIII века, и не раз выносил он оттуда одежды бывших королей*.
Но не только взаимообмен между театром и лавкой старья привлекает внимание литераторов. Сами лавки ветоши начинают описываться как символические театры. Именно так описывает Диккенс лавки старья на Монмут-Стрит в Лондоне** в «Очерках Боза». Вариацией на эту же тему (возможно, под прямым воздействием Диккенса) была глава «Старая одежда» из «Sartor Resartus» Карлейля, где тот же символический театр поэт разыгрывает в своем воображении, созерцая лавки старья на той же улице. Карлейль называет старые одежды «эмблематическими тенями»***, которые исполняют в его книге что-то вроде средневековой мистерии. Нерваль описывает ночной Лондон, в котором старьевщик соседствует с пэром Англии и где «бархат, горностаи, бриллианты» являют себя как в королевском театре**** Бальзак описывает владельца лавки старья Ремонанка в «Кузене Понсе» как сверхактера: «Он научился разыгрывать комедию <…>. Это какой-то Протей, он одновременно Жокрис, Жано, паяц и Мондор, и Гарпагон, и Никодем»*****.
* M. Aycard. Rue et faubourg du Temple. In: Paris chez soi. Revue historique, monumentale et pittoresque de Paris ancien et moderne par l'élite de la littérature contemporaine. Paris, 1855, p. 275.
** Ч. Диккенс, цит. соч., c. 131-159.
*** T. Car1yle. Sartor Resartus. The Life and Opinions of Herr Teufelsdröckh. London–New York–Toronto, 1947, p. 210.
**** G. de Nerval. Œuvres. T. 1. Paris, 1958, p. 406.
***** О. Бальзак. Собр. соч. в 15 тт. Т. 10. М., 1954, с. 538.
Вполне закономерно в этом контексте проникновение образа старьевщика на сцену. Дебюро в театре Фюнамбль (на бульваре Тампль) надел фригийский колпак — атрибут старьевщика — в пантомиме «Тысячефранковый билет» и так изображен на гравюре Огюста Буке*. Но самым знаменитым спектаклем о старьевщике стал «Парижский тряпичник» Феликса Пиа, поставленный в театре Порт-Сен-Мартен 11 мая 1847 года. Популярность постановки была столь велика, что уже 4 августа того же года в Пале-Рояль состоялась премьера пастиша пьесы Пиа, написанного Т. Бейаром, — «Дикарь и Ф. де Курси — старьевщики». В это же время появляется и прямой плагиат пьесы Пиа — «Парижский тряпичник» Тюрпена де Сансея**.
Триумфального успеха в пьесе Пиа добился исполнитель роли старьевщика Жана — Фредерик Леметр. Значение работы Фредерика Леметра и пьесы Пиа для французской культуры заключено в том метаописательном слое, который пронизывал спектакль. Искусство здесь в прямом смысле слова рождалось из сора, ветоши, грязи. Хлам в корзине старьевщика здесь впрямую подавался как драгоценное сырье для художественного творчества. Этот метаописательный слой чутко зафиксировал Жюль Жанен: «…из бездны самых мерзких лохмотьев, со дна корзины старьевщика полной грязи и гнусностей артист поднялся до уровня самых вдохновенных поэтов, самых знаменитых стихов»***.
* J. Wechsler. A Human Comedy. Physiognomy and Caricature in 19th Century Paris. London, 1982, p. 109.
** L. Badesco, op. cit., p.60.
*** J. Janin. Histoire de la littérature dramatique. T. 6, Рaris,1858, pр. 185–186. Сходное ощущение зафиксировал и П. В. Анненков: «Он смело появился в грязной блузе, с корзиной за плечами, с крючком в руках, пьяный и недостойный, как сделали его ремесло и общество. Ни на минуту не оставлял он своего грубого тона и типичных привычек своего звания, но чем дальше шла пьеса, тем все сильнее пробивался наружу внутренний свет благородной души ветошника и облекал его сиянием» (П. В. Анненков. Парижские письма. М., 1985, с. 127).
То, что из корзины старьевщика могут возникать стихи — характерный мотив новой мифологии художника. Готье, например, хвалился, что может написать «“платье в стихах” — со всеми его складками, переливами тонов»*. Комедиант, тряпичник и поэт оказываются метафорическими эквивалентами. Не случайно Жанен называет Фредерика Леметра в роли люмпена — «цыганом, бродягой и художником»**, триадой, где цыган (le bohemien) — это также и человек богемы***.
Пьеса Пиа развивает мифологию старьевщика со всей полнотой. Тема травестии проводится тут на всех уровнях — от социального (один из героев пьесы, старьевщик, был бывшим герцогом Гаруссом) до аллегорического. Монологи старьевщика Жана насыщены философствованиями такого рода:
Подумать только, весь Париж, весь мир в этой корзине! Господи, все оказывается здесь — и лепесток розы, и лист бумаги, рано или поздно все заканчивается в корзине. <…> Любовь, слава, могущество, богатство — все в корзину! <…> Все есть лишь тряпица, ветошь, лохмотья, черепки, мусор! Поглядите! <…> Папаша Жан — король Франции! <…> …все безделушки цивилизации здесь …и так будет до конца света. <…> …братская могила, конец мира, страшный суд! И старьевщик — великий судья… Жан — единственный наследник Парижа…****
* E. Bergerat, op. cit., p. 97.
** J. Janin, op. cit., p. 188.
*** Связь богемы с цыганским мифом, очень популярным в ХIX веке, заставляет и цыган описывать как травестированную аристократию. Ср. у B. Гюго: «Впереди шел Египет. Вo главе шествия герцог египетский со своими графами в пешем строю <...>, сзади вперемешку египтяне и египтянки со своими малыми детьми, кричащими у них на плече; все — герцог, графы, простой народ — в лохмотьях и рвани» (V.Hugo. Notre-Dame de Paris. Рaris, 1958, р. 7).
**** F. Pyat. Le chiffonnier de Paris. Paris, 1884, p. 28.
«Парижский тряпичник» в полной мере отражает процесс аллегоризации тех социальных типологий, которые появляются в 1830-ые годы в виде бесчисленных городских физиологий. Эти физиологии, состоявшие из коллекций словесных и графических портретов различных профессий и типов, по существу, разрабатывали симболарий новой городской мифологии, лексикон квазитеатральных ролей, широко использовавшихся прозаиками и драматургами, над чьими произведениями царила «Человеческая комедия» Бальзака, самим названием ориентированная на этот грандиозный театр.
На первый взгляд физиологии кажутся жанром максимально лишенным художественного воображения, целиком исчерпывающимся документальными наблюдениями над социальной этологией человека. Многократно подчеркивалась их связь с зоологическими классификациями в духе Линнея. В действительности эти физиологии активно разрабатывали новую символическую парадигму, где человек выступает в виде своего рода знака, означающее которого (походка, манеры, мимика, одежда) далеко не всегда отражает существо означаемого. Так, например, в культуре складывается устойчивое представление о травестийном статусе нищего, чьи лохмотья мистифицируют реальное положение их владельца. Альфонс Карр пускается в фантастические подсчеты доходов нищих и в итоге утверждает:
Человек без рук и ног, чье тело состоит лишь из живота и головы, играющий на шарманке с помощью своей культяпки, богаче, чем вы и я когда-либо будем. <…> Один он ничего не делает и, примостившись на солнышке, у межевого столба, сохраняет спокойствие; все эти движущиеся люди — его рабы и данники: они работают для него и платят ему свою десятину*.
* A. Karr. Devant les tisons. Paris, 1860, pp. 345–346.
Нищие торговцы овощами на рынке кажутся Жерару де Нервалю скрытыми набобами: «…все эти фальшивые крестьяне и подпольные миллионеры»*. Такого рода представления были столь популярны, что Чарльз Лэм в эссе «Жалоба на упадок нищенства в нашей стране» счел нужным вступиться за нищих: «Я глубоко убежден, что половина историй о невероятных богатствах, якобы собранных нищими, — злостная выдумка скряг»**. И тут же сам Лэм приводит пример переинтерпретации этих слухов в аллегорическом ключе:
Отрепья — позор бедности — это мантия нищего, прямые insignia его ремесла, его пожизненная привилегия, его парадная форма. <…> Подъемы и спады в делах человеческих его не заботят. Он один пребывает неизменным. <…> Он единственный свободный человек во вселенной. Попрошайки этого великого города <…> были ходячими моральными поучениями, эмблемами, напоминаниями, изречениями на циферблате солнечных часов, проповедями о сирых и немощных, книжками для детей, благотворными помехами и препятствиями в полноводном бурном потоке жирного мещанства***.
* G. de Nerval. Œuvres. T. I. Paris, 1958, p. 422.
** Ч. Лэм. Очерки Элии. М., 1979, с. 124.
*** Там же, c. 121. Гораздо позже Жан Ришпен в сборнике «Песня нищих» разворачивает мифологию нищего во всех подробностях, при этом называя поэта «королем нищих». В стихотворении «Лунатики» Ришпен вскрывает суть травестии нищего: «Это мечтатели, поэты, / Художники, музыканты, / Нищие…» [Cе sont des rêveurs, des poètes / Des peintres, des musiciens, / Des gueux...] J. Richepin. La chanson des gueux. Paris, 1891, p. 279.
В своем относительно раннем тексте (1822 г.) Лэм демонстрирует методику аллегоризации типа. Он берет некую социальную реалию, хотя и сомнительную (расхожие представления о богатстве нищих), и переинтерпретирует в метафорическом ключе. Но такая переинтерпретация оказывается возможной только на основании представлений о расхождении между означающим и означаемым. Эта методика получает широкое распространение.
Труд аллегорического чтения города становится одним из главных занятий художника. Поскольку город теперь описывается как тотальный маскарад, а вера в надежность социальных знаков оказывается чрезвычайно ослабленной, художник получает новую функцию — дешифровщика повальной социальной травестии. Как заметил В. Беньямин, он становится либо фланером, внимательно изучающим толпу, либо детективом. Обе функции объединяются в лирическом герое Эдгара По, чей «Человек толпы» — манифест нового статуса художника. В литературу проникает тайна, инкогнито загадочных персонажей становится знаком современной беллетристики от Эжена Сю* до Бальзака.
В этом контексте аллегорика низших социальных слоев приобретает особое значение. Именно у представителей социального «дна» художник за «неким» обликом — лохмотьями — в состоянии различить богатство, величие, блеск. Извлечение золота из мусора, как метафора поэтического труда, находит здесь свое конкретное воплощение.
Образ травестированного нищего накладывается на возникающую фигуру коллекционера, который, у Бальзака, например, согласно наблюдению Вальтера Беньямина, всегда эквивалентен миллионеру**.
* Отметим, что герой «Парижских тайн» Родольф снимает дом на улице Тампль (!), где приняв травестийный облик, «оказывается в состоянии вблизи изучать различные классы людей, занимающих это здание» (Е. Suе. Les mystères de Paris. Рaris, 1963, р. 126). Позиция героя метаописательна по отношению к позиции литератора.
** W. Benjamin. Eduard Fuchs: Collector and Historian. In: The Essential Frankfurt School Reader. Ed. by A. Arato and E. Gebharrdt. New York, 1982, p. 242. Логика Бальзака проста. Коллекция приобретает цену по мере прохождения времени. Само время делает коллекционера богачом. Характерно, что кузен Понс, обладающий миллионным состоянием, сам не догадывается о своем богатстве. Вот как Бальзак описывает генезис состояния Понса: «В спальне Понса в оба окна были вставлены швейцарские цветные витражи, самый маленький из которых стоит тысячу франков, а у него было шестнадцать таких шедевров, за которыми в наши дни любители гоняются по всему свету. В 1815 году такие витражи шли от шести до десяти франков штука» (О. Бальзак. Собр. соч. в 15 тт. Т. 10. М., 1954, с. 516).
Во всех этих культурных «мутациях» фигура старьевщика занимает важное место, приобретая более выраженный метахарактер, чем тип нищего или цыгана-богемы. В физиологических очерках, посвященных старьевщику, досконально описывается его существование, но подчеркиваются и тиражируются лишь те его черты, которые легко поддаются аллегоризации. Прежде всего старьевщик — ночное существо. По закону он не мог заниматься своим ремеслом при свете дня.
Ночной Париж ужасен; это момент, когда приходит в движение подземная нация. Повсюду потемки; но постепенно эта темень освещается дрожащим фонарем старьевщика, уходящего с корзиной на поиски своих богатств, скрывающихся в чудовищной ветоши, не имеющей обозначения ни в одном языке*.
Тема ночи связывает старьевщика с особой поэтической мифологией, восходящей к Ренессансу и получающей своеобразное развитие в XIX веке. Речь идет о теме Меланхолии, как ночного темперамента, который с легкой руки Марсилио Фиччино и Генриха Корнелиуса Агриппы начинает пониматься как воплощение гения**. Эта концепция отражена в знаменитой «Меланхолии I» Дюрера. Одной из особенностей гениального меланхолика является его способность «воспарять в потусторонние миры в состоянии визионерского транса»***. Планетарным знаком меланхолии был Сатурн.
* J. Janin. Un hiver à Paris. Рaris, 1843, р. 201.
** См.: R. Klibansky, E. Panofsky and F. Saxl. Saturn and Melancholy. London, 1964.
*** Fr. A. Yates. The Occult Philosophy in the Elisabethan Age. London, 1979, p. 56.
То, что старьевщик связывается с темой Сатурна и меланхолии делается ясным из цитированного фрагмента Бодлера, где он описывает странную цифру «семь» на ивовой шали тряпичника, цифру, превращающуюся в скипетр. Это превращение может быть понято через нумерологический комментарий Р. Алланди: «…Семерка может быть представлена через седьмую букву алфавита ז, чья форма напоминает “ключ” ко всем преградам, а также “скипетр победителя над всеми стихиями и фатальными силами, посох Адама, зацветший посох Иосифа <так у Алланди. – М. Я.>, жезл Моисея»*. Существенно, однако, что цифра 7 — цифра Сатурна**. Старьевщик понимается как травестированный меланхолик, гениальный носитель оккультного знания, визионер, человек Сатурна и ночи. Любопытно, что образ старьевщика отчетливо накладывается на классический образ чернокнижника — меланхолика, зажигающего в ночи лампу, описанный в «Il Pensoroso» Мильтона («Or let my lamp at midnight hour be seen…»), и прозревающего «…тех демонов, которые обретаются в огне, воздухе, водах или под землей…» («…those demons that are found / In the fire, air, flood or underground»***; ср. выше с «подземной нацией», освещаемой фонарем старьевщика).
Городская мифология в XIX веке начинает систематически интерпретироваться под знаком Сатурна. Символика Сатурна принципиальна для целых поэтических циклов от «Парижского сплина» Бодлера до «Poèmes saturniens» Верлена, с их зачарованностью темой ночных городских видений. Т. Готье посвящает «Меланхолии» Дюрера стихотворение, где впрямую сопоставляет классическую меланхолию с современной парижской****; Виктор Гюго помещает в «Созерцания» стихотворения «Меланхолия» и «Сатурн». Показательно, что среди аллегорических фигур «Меланхолии» возникает старьевщик с «черной душой», олицетворение грядущей смерти и рока:
* R. Allendy. Le symbolisme des nombres. Essai d'arithmosophie. Paris, 1921, p. 223. Буква, о которой говорит Алланди, — «зайин», седьмая буква еврейского алфавита, чье цифровое значение — семь.
** Ibid., p. 188.
*** The Poetical Works of John Milton. New York, 1869, p. 438. См. также: Fr. А. Yates, op. cit., pp. 56–57.
**** T. Gautier. Poésies complètes. T. 1. Paris, 1910, pp. 215–222.
О отвратительные закоулки, по которым идет угрюмый старьевщик,
Держа в руке фонарь из рога,
Ваши груды мусора не так черны, как живые!
<…>
Этот человек ни во что не верит, он лишь делает вид, что верит;
У него ясный глаз, благородный лоб, черная душа;
Он горбится; но завтра он будет вашим хозяином*.
Ночные видения, посещающие поэта-меланхолика, в городской мифологии приобретают театральный оттенок. Тема парижской травестии переплетается с темой меланхолического визионерства. Барбье в «Терпсихоре» помещает парижский карнавал, интерпретируемый как эмблематическая оргия социальной травестии, под знак Сатурна**. Бальзак непосредственно связывает тему ночных «меланхолических» призраков с театром:
…нельзя вообразить, во что превращаются эти улицы ночью: там блуждают причудливые существа из неправдоподобного мира, полуобнаженные женские фигуры вырисовываются на стенах домов, мрак оживлен. Между стенами и прихожими крадутся разряженные манекены, одушевленные и лепечущие***.
* V. Hugo. Les contemplations. Paris, 1969, p. 147. [O hideux coins de rue où le chiffonnier morne / Va, tenant à la main sa lanterne de corne, / Vos tas d’ordures sont moins noirs que les vivants! / <…> Cet homme ne croit rien et fait semblant de croire; / Il a l’œil clair, le front gracieux, l’âme noire; / Il se courbe ; il sera votre maître demain.]
** A. Barbier. Iam
