автордың кітабын онлайн тегін оқу Ведьмы Салем, 1692
Стейси Шифф использовала свои исключительные способности исследовательницы и писательницы для того, чтобы возродить старую, но бесконечно захватывающую историю об охоте на ведьм в Салеме в 1692 году. То, как она владеет деталями и мастерски устанавливает взаимосвязи, ее интуитивное понимание вовлеченных в судебный процесс людей — все это великолепно соединяется в образе грядущей человеческой трагедии. Книга оставляет после себя неизгладимый след. Это нулевая отметка. Это эмоционально мощно… Если история представляет собой путешествие во времени, то это исследование — путешествие, которое читатели никогда не забудут.
Джон Демос, историк, автор книг об охоте на ведьм
Из теней прошлого возникают молодые девушки, напыщенные проповедники, злоупотребляющие властью судьи, скорбящие родители и разгневанные соседи. Все они были вовлечены в ужасный процесс, которому, казалось, нет конца… Стейси Шифф подобралась к пониманию того, что происходило в Салеме и его окрестностях в 1692 году, настолько близко, насколько это возможно. Залы суда, улицы, церкви, фермы, таверны, спальни — все это стало, подобно театру, сценой, где переплелись гнев, тревога, горе и трагедия.
Дэвид Холл, профессор истории в Гарвардском университете,
специалист по церкви Новой Англии
В руках Стейси Шифф история неизменно наполняется жизнью, светом, тенями, неожиданными фактами… и вот снова, снова то же самое в ее новой книге. Не многие авторы способны сочетать прекрасную образованность и необычайный литературный талант с изумительным кругозором и живостью ума. Это превосходная книга.
Дэвид Маккалоу, лауреат Пулитцеровской премии,
автор книги «Братья Райт»
Это история о морали, навечно оставившая после себя неизгладимый след, лучший современный рассказ о Салемской истерии.
Меган Маршалл, исследовательница,
лауреат Пулитцеровской премии
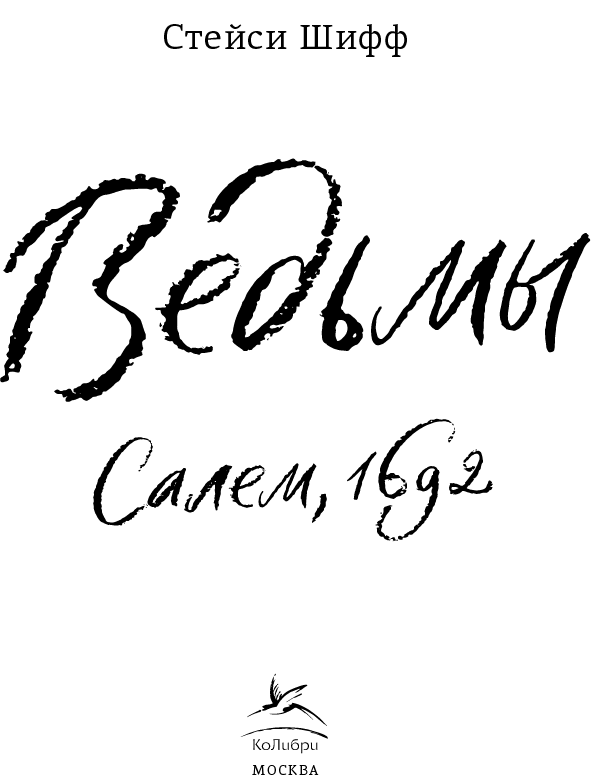
Stacy Schiff
THE WITCHES
Salem, 1692
Опубликовано с согласия Little, Brown and Company, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. Все права защищены
Перевод с английского Марии Леоненко
Шифф С.
Ведьмы : Салем, 1692 / Стейси Шифф ; [пер. с англ. М. Е. Леоненко]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023.
ISBN 978-5-389-24587-7
18+
Эта история началась в штате Массачусетс необычно суровой зимой 1692 года, когда дочь местного священника вдруг стала кричать и биться в конвульсиях. Спустя год, когда все закончилось, 19 мужчин и женщин оказались мертвы. Спокойная пуританская колония превратилась в сцену, на которой разыгрывались по-настоящему ужасающие события. Охота на ведьм в Салеме — это последний отголосок Средневековья в наступившей новой эпохе, уникальное историческое событие, которое легло в основу многих фильмов и художественных романов, и, без сомнения, самый знаменитый ведьмовской процесс в мире. В нем были замешаны и простые жители, и известные политики Новой Англии: беда не обошла стороной никого — даже священник не избежал виселицы. Все ополчились друг на друга: соседи обвиняли соседей, родителей, детей друг друга.
Что же это было — пережиток средневековых гонений, объявший весь город массовый психоз? Стейси Шифф, выдающийся историк и блестящий рассказчик, лауреат Пулитцеровской премии, приоткрывает завесу тайн, на протяжении нескольких столетий окутывавших Салем. Впервые обстановка, сложившаяся в штате Массачусетс в конце XVII века, исследуется настолько глубоко и подробно, а преследование ведьм воссоздается настолько полно и психологически точно. В талантливом изложении Шифф салемские события предстают перед читателем настоящим детективным расследованием, одинаково важным для науки и увлекательным для широкого круга читателей.
© Stacy Schiff, 2015
© Леоненко М. Е., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2023
КоЛибри®
Посвящается Венди Белцберг
Действующие лица
В приходе и вокруг него
Джеймс Бэйли, первый пастор Салема в 1673–1679 годах. Свояк Томаса Патнэма; дядя скрюченной и визгливой Энн Патнэм — младшей.
Джордж Берроуз, 42 года, обворожительный, свободно мыслящий преемник Бэйли на деревенской кафедре в 1679–1683 годах. Уезжает из Салема внезапно; в 1692-м — пастор на границе Мэна. Отец семерых детей, воинственный и властный.
Деодат Лоусон, манерный красноречивый преемник Берроуза в 1684–1688 годах.
Сэмюэл Пэррис, 39 лет, опальный церковнослужитель, оказавшийся в самом центре дьявольского вторжения. Отец и дядя первых заколдованных девочек, хозяин первой признавшейся ведьмы; служил на салемской кафедре с 1688 по 1696 год. Жадный, непоколебимый, бестактный.
Семья Пэррис: Абигейл Уильямс, 11 лет, светловолосая племянница Сэмюэла, во время проповедей носится по комнатам и лает. Бетти Пэррис, 9 лет, единственная из отпрысков Пэррисов, страдавшая от симптомов колдовства; ни разу не пришла на слушания. Еще двое детей, сын 10 лет и дочь 4 лет, не подверглись влиянию, и их имен история не сохранила. Титуба, дружелюбная рабыня из коренных американцев [1], долгое время служила в семье, первой увидела дьявольский договор и сообщила о полетах по воздуху. Джон Индеец, еще один раб, несколько раз подвергся воздействию колдовских чар. Насколько известно, был мужем Титубы. Элизабет, жена пастора, уроженка Бостона, около 44 лет, подверглась воздействию в конце лета.
Кое-кто еще из жителей Салема
Иезекиль Чивер, 37 лет, портной и фермер, периодически также судебный репортер и обвинитель.
Уильям Григс, 71 год, врач, в поселении недавно, близкий друг Патнэма.
Бенджамин Хатчинсон, 20 с небольшим лет, приемный сын владельца таверны Натаниэля Ингерсола. Храбро и без оглядки насаживает призраков на вилы и рапиру.
Ханна Ингерсол, около 60 лет, жена владельца таверны и соседка пастора.
Натаниэль Ингерсол, 60 лет, лейтенант ополчения, один из первых священников поселения; владелец таверны, где имели место слушания, обвинения, собрания судей и поножовщина с призраками, а также роились мириады слухов. Близкий друг Патнэма и Пэрриса.
Фрэнсис Нёрс, 74 года, видавший виды и непреклонный муж обвиненной ведьмы Ребекки Нёрс. Был недоволен пастором задолго до кризиса.
Батшева Поуп, 40 лет, матрона, подвергшаяся колдовскому воздействию. Прерывает проповеди, швыряет в ответчицу ботинок, левитирует в суде.
Томас Патнэм, 40 лет, сержант ополчения и ветеран войны короля Филипа. Судебный писарь, приходский секретарь, убежденный сторонник Пэрриса. Живет с четырьмя жертвами колдовства. Выдвигает первые обвинения и инициирует почти половину остальных.
Эдвард Патнэм, 38 лет, младший брат Томаса, церковный дьякон. Подписывает первые обвинения в колдовстве.
Мэри Сибли, 32 года, беременная неравнодушная соседка пастора. Придумывает печь «ведьмины пирожки» в домовладении Пэррисов и руководит процессом.
Джонатан Уолкотт, 53 года. Капитан местного ополчения и шурин Патнэма, отец Мэри.
Главные обвинители
Сара Биббер, 36 лет, вздорная и назойливая матрона. В зале суда ее колют булавками.
Сара Чёрчилль, около 20 лет, беженка и служанка в доме Джейкобсов. Безуспешно пытается отречься от своих показаний. Дальняя родственница Мэри Уолкотт.
Абигейл Хоббс, 14 лет, упрямая, неуправляемая девочка из Топсфилда, раньше была служанкой в Мэне. Вторая признавшаяся ведьма, после признания присоединяется к обвинителям. Отправляет в тюрьму обоих родителей.
Элизабет Хаббард, 16 лет, сирота, служанка в доме дяди, доктора Григса. Одна из пяти самых активных обвинительниц.
Мерси Льюис, 19 лет, дважды беженка, сирота. Была служанкой у Берроузов в Мэне, в 1692 году служит у Патнэмов в Салеме. Безошибочно узнает невидимых нападающих, дает наиболее подробные свидетельские показания. Известна как «девочка-провидица».
Энн Патнэм — младшая, 12 лет, старшая из шестерых детей в семье. Может предвидеть события будущего и вспоминать события, произошедшие до ее рождения. Единственная обвинительница, живущая дома с обоими родителями.
Энн Патнэм — старшая, около 30 лет, мать младшей Энн, беременная и набожная. Обездвижена духами и ведьмами. Впадает в транс, однажды ее пришлось выносить из зала суда.
Сюзанна Шелден, 18 лет, дважды сбегала из Мэна. Своими глазами видела ужасы, творимые индейцами; недавно похоронила отца. Способна раскрывать убийства.
Мэри Уолкотт, 16 лет, дочь капитана местного ополчения, живет вместе со своими кузенами из семейства Патнэм. Также племянница Ингерсола. Обвиняет в колдовстве минимум семьдесят человек — намного больше, чем кто-либо другой.
Мэри Уоррен, 20 лет, сирота, беженка, служанка в доме Проктеров. Подверглась колдовскому воздействию, была обвинена, затем снова подверглась воздействию. Поразительно хороша собой. Подвергается чрезмерным кровавым пыткам в зале суда.
Некоторые из обвиняемых
Джон Олден, около 65 лет. Изворотливый торговец мехом из Бостона, офицер ополчения, капитан дальнего плавания. Давний партнер салемского купца Бартоломью Гедни, прихожанин Уилларда; друг и сосед Сэмюэла Сьюэлла.
Уильям Баркер, 46 лет, закредитованный фермер с хорошо подвешенным языком.
Бриджет Бишоп, 50 с небольшим лет, салемская вдова, воинственная провокаторша без тормозов. В суде ее перепутали с жительницей Салема Сарой Бишоп.
Марта Кэрриер, под 40 лет, грубая многодетная мать. Задолго до 1692 года легко могла претендовать на титул «царицы ада». Презрительно называла тех, кто подвергся колдовству, обезумевшими. Первая арестованная ведьма из Андовера.
Ричард Кэрриер, 18 лет, и Эндрю Кэрриер, 16 лет. Крепкие сыновья Марты, оба подверглись пыткам, после чего Ричард называет больше пособников дьявола, чем любой другой из признавшихся.
Элизабет Кэри, 40 с небольшим лет. Жена отважного судостроителя из Чарлстауна. Приплывает в Салем, чтобы обелить свое имя; уезжает в кандалах.
Сара Клойс, 44 года. Невезучая младшая сестра Ребекки Нёрс. Прихожанка деревенской церкви, свойственница Дейна по первому браку.
Элизабет Колсон, 16 лет. Дерзкая девушка из Рединга; единственная среди подростков избежала ареста, пусть и временно.
Джайлс Кори, около 70 лет, бесстрашный задиристый фермер. Сначала обвиняет свою жену, а в итоге оказывает сопротивление суду.
Марта Кори, около 60 лет, третья жена Джайлса. Несгибаемая, упрямая, догматичная. Совершает своеобразное турне по тюрьмам Массачусетса.
Филип Инглиш, 42 года, урожденный Филипп л’Англуа, прямолинейный пронырливый выходец из Джерси. Невероятно успешный иммигрант-предприниматель. Богатейший купец в Салеме, недавно избранный членом городского управления.
Мэри Инглиш, около 40 лет. Его жена, дочь известного салемского купца и женщины, в свое время обвиненной в колдовстве. Бежит вместе с мужем.
Мэри Эсти, 58 лет. Добросердечная мать семерых детей из Топсфилда, самая младшая из трех сестер Таун. Очаровывает даже своих тюремщиков.
Энн Фостер, около 70 лет. Тихая вдова, мать 22-летней убитой, теща казненного убийцы. Одна из первых улавливает намеки на подозрительные полеты и связывает их с дьявольскими шабашами.
Сара Гуд, 38 лет. Местная нищенка, замкнутая, воинственная, неопрятная. Первая допрашивается по подозрению в ведьмовстве. Мать пятилетней обвиняемой.
Доркас Хоар, 58 лет, вдова. Прорицательница и интриганка, талантливая мелкая воровка. Выглядит чудаковато, дети страшно ее боятся.
Элизабет Хау, 50 с небольшим лет. Примерная жена слепого фермера из Топсфилда. Родственница Дейнов, Кэрриеров и Нёрсов. Давно подозревается в ведьмовстве.
Джордж Джейкобс, бойкий и общительный неграмотный престарелый фермер.
Маргарет Джейкобс, 17 лет, его разговорчивая эмоциональная внучка. Признается, потом отказывается от своих показаний, много плачет в салемском подземелье.
Мэри Лэйси — младшая, 18 лет. Считает себя непокорной дочерью. Очень словоохотлива, имеет склонность актерствовать.
Мэри Лэйси — старшая, 40 лет, мать младшей Мэри и дочь Энн Фостер.
Сюзанна Мартин, 71 год. Миниатюрная вдова из Эймсбери, суровая и хладнокровная. В 1669 году обвиняется в ведьмовстве, но в том же году обвинения снимаются.
Ребекка Нёрс, 71 год. Практически глухая, слабая здоровьем, чувствительная старушка. Оказывается самым крепким орешком для обвинения.
Сара Осборн, около 50 лет. Хрупкая женщина, одна из трех первых подозреваемых. Вовлечена в долгую тяжбу со своими свойственниками Патнэмами.
Элизабет Проктер, 41 год. Беременная мать пятерых и мачеха шестерых детей. Темпераментная, очень любит читать. Внучка одной подозреваемой в 1669 году в ведьмовстве женщины.
Джон Проктер, 60 лет. Ее пожилой смелый на язык муж, грубоватый фермер и владелец таверны. Убежден, что подвергшиеся колдовству должны быть повешены. Первый мужчина, обвиненный в 1692 году в колдовстве.
Мэри Тутейкер, 44 года. Вдова обвиненного колдуна из Биллерики. Задумчивая, искренняя, запуганная. Сестра Марты Кэрриер, племянница преподобного Дейна.
Сэмюэл Уордуэлл, 49 лет. Незадачливый предсказатель будущего, плотник, из числа самых безнадежных налогоплательщиков Андовера. Делает красочное признание, потом от него отрекается. Отец семерых детей.
Сара Уайлдс, около 65 лет. «Заклинательница сена», жена плотника из Топсфилда. Также обвинялась шестнадцатью годами ранее. Мать городского констебля.
Джон Уиллард, около 30 лет. Помощник сельского констебля, бывший батрак Патнэмов. Муж-абьюзер, объект ненависти родственников жены.
Представители власти
Дадли Брэдстрит, 44 года, сын бывшего губернатора поселения. Пользующийся авторитетом гражданин Андовера, мировой судья, член городского управления, член совета 1692 года. Инициирует ряд арестов ведьм и бежит, когда сам становится обвиняемым.
Джордж Корвин, 26 лет. Предприимчивый старший шериф округа Эссекс. Племянник двух судей по делу о колдовстве и зять третьего.
Джонатан Корвин, 52 года. Городской предприниматель, оптовый торговец алкоголем. Давний соратник Хэторна и опытный мировой судья. Постоянный участник процессов. Связан через жену с Уинтропом, Хэторном и Серджентом.
Томас Данфорт, 69 лет, землевладелец из Чарлстауна. Отменил один обвинительный приговор в более раннем деле о колдовстве. Проводит первый в 1692 году допрос колдунов. Выявляет самые ранние сообщения о сборищах ведьм. В конце концов выступает против процессов.
Бартоломью Гедни, 52 года. Рисковый владелец лесопилки, предприниматель. Уважаемый в городе врач, чиновник, майор ополчения. Родственник Корвинов.
Джон Хэторн, 51 год. Высокомерный и устрашающий преуспевающий местный судья. Потомок одной из первых салемских семей. Родственник Патнэмов.
Джордж Херрик, около 30 лет. Красавчик из хорошей семьи, заместитель шерифа Салема, по профессии — мебельщик. Весь 1692 год занимается задержанием и перевозкой ведьм.
Джон Хиггинсон — младший, 46 лет. Старший сын преподобного Хиггинсона, офицер ополчения, занимается рыболовным бизнесом. Только что назначен мировым судьей. Допрашивает ведьм.
Сэр Уильям Фипс, 41 год. Необразованный, изобретательный, задиристый капитан дальнего плавания и путешественник. Только что назначен губернатором Массачусетса.
Джон Ричардс, 67 лет. Старейший из судей. Является родственником трем своим коллегам. Ходатайствует о возглавлении процесса. Бостонский торговец, казначей Гарварда, основной покровитель Мэзера.
Натаниэль Солтонстолл, 53 года, новый член суда. Считается «самым популярным и принципиальным» офицером Массачусетса.
Питер Серджент, 45 лет. Сказочно богатый бостонский торговец, судья ведьм. Предоставляет займы в Массачусетсе, владеет похожим на дворец домом. Деловой партнер Сэмюэла Сьюэлла.
Сэмюэл Сьюэлл, 40 лет. Бостонский добродушный, умудренный опытом толстячок, чувствительный и набожный. Самый молодой член суда, родной брат судебного секретаря.
Стивен Сьюэлл, 35 лет. Судебный секретарь и архивариус. Салемский торговец, офицер ополчения. Берет под стражу заколдованную Бетти Пэррис.
Уильям Стаутон, 60 лет. Председатель суда, назначенного для заслушания и решения, крупный накрахмаленный джентльмен с маленькими глазками. Весьма проницательный, отлично разбирается в теологии. Самый авторитетный из представителей судебной власти Новой Англии. Торгует земельными участками, убежденный холостяк.
Уэйт Стилл Уинтроп, 51 год. Внук Джона Уинтропа, основателя Колонии Массачусетского залива. Генерал-майор, влиятельный землевладелец. Аполитичен, следит за модой, госслужащий против собственной воли. Близок к Сэмюэлу Сьюэллу, доверенное лицо Мэзера.
Церковнослужители
Томас Барнард, 34 года. Впечатлительный ортодокс из Андовера, помощник пастора. Организует испытание касанием.
Фрэнсис Дейн, 76 лет. Занимает пост главного пастора Андовера с 1648 года. Осторожен в вопросах ведовства; властный и бескомпромиссный, не окончил школу.
Джон Хейл, 51 год. Уроженец Чарлстауна, пастор Беверли, дружелюбный и сердобольный. Очарован слушаниями и самой механикой колдовства. В детстве стал свидетелем первого повешения ведьмы в Массачусетсе. Свойственник Нойеса.
Джон Хиггинсон, 76 лет. Тридцать третий год на салемской кафедре. Трезвомыслящий, хорошо говорит, пользуется огромным уважением.
Коттон Мэзер, 29 лет. Сын Инкриза Мэзера и помощник пастора во второй Бостонской церкви. Поступил в Гарвард в 11 лет, в 18 получил степень магистра теологии. Восходящая звезда новоанглийского духовенства, находчивый, блестящий, преуспевающий; непревзойденный собеседник.
Инкриз Мэзер, 53 года. Пастор второй церкви с 1664 года. Самый выдающийся священник и интеллектуал Новой Англии. Президент Гарварда с 1685 по 1701 год. Создатель новой хартии поселения.
Джошуа Муди, 59 лет. Пастор первой Бостонской церкви, школьный приятель Уилларда. Твердо верит в колдовство, однако суд Стаутона его не убеждает. Помогает обвиненным бежать.
Николас Нойес, 45 лет. Школьный приятель Берроуза по Гарварду, помощник Хиггинсона. Грузный веселый холостяк, автор убийственных стишков. Ближайший друг Сэмюэла Сьюэлла в Салеме.
Сэмюэл Уиллард, 52 года. Пастор третьей церкви. Эрудированный, дипломатичный, трезвомыслящий, осмотрительный. Считается одним из самых влиятельных бостонских священнослужителей наравне с Мэзерами.
Некоторые скептики
Томас Брэттл, 34 года. Ученый и логик. Прекрасно образован, холостяк, сочувствует англиканам. Недавно вернулся из поездки в Англию, где в основном проводил время в компании Сэмюэла Сьюэлла. Посещает разнообразные слушания в Салеме.
Роберт Калеф, 44 года. Бостонский торговец текстилем, не лишен остроумия. Посещает заседания и присутствует как минимум на одном повешении. Впоследствии — главный антагонист Мэзеров.
Томас Мол, 47 лет. Задиристый, остроумный салемский лавочник. Выдвигает обвинение в адрес Бишоп; в дальнейшем — квакер и убежденный критик процессов.
Уильям Милборн, около 50 лет. Возмутитель спокойствия, раньше жил на Бермудских островах, а ныне — баптистский пастор с опытом судебной работы. Арестован за бунт.
Роберт Пайк, около 75 лет. Член совета и капитан ополчения, лидер города Солсбери. Резок в высказываниях; вероятно, первое официальное лицо, выразившее озабоченность по поводу процессов.
Джон Уайз, 40 лет. Пастор Ипсвича, ровесник и гарвардский приятель Пэрриса. Бесстрашный, притягательный, красноречивый. Местный герой; отсидел в тюрьме за протесты против злоупотреблений властей.
[1] Среди исследователей существуют разные точки зрения насчет ее происхождения. Так, есть мнение, что Титуба и ее муж Джон были индийцами. — Прим. ред.
1
Болезни потрясений
Мы не будем шарлатанить и станем заявлять прямо, что на этом свете ничего не разберешь. Всё знают и всё понимают только дураки да шарлатаны [2].
А. П. Чехов
В 1692 году в Колонии Массачусетского залива за колдовство казнили четырнадцать женщин, пятерых мужчин и двух собак. Колдовство имело место в январе. Первая казнь через повешение состоялась в июне, последняя — в сентябре; затем воцарилось потрясенное молчание. Тех, кто пережил этот разгул мракобесия, смущали не столько ведьмовские козни, сколько неуклюжее отправление правосудия. Очевидно, среди повешенных были невиновные; виновные же избежали наказания. Никто не божился помнить о случившемся вечно — более уместным казалось предать эти девять месяцев забвению. И это сработало — на время. С тех пор мы несем в себе Салем как национальный кошмар, перезрелую газетную сенсацию, страшный эпизод из прошлого. Его огонек потрескивает и подмигивает, пробиваясь сквозь толщу американской истории и литературы.
Никого не сожгли на костре. Ни одной повитухи не погибло. Вуду пришло в США позже, вместе с одним историком XIX века [3]; раб-мулат — вместе с Лонгфелло [4]; колдовские ритуалы в лесу — с Артуром Миллером (в фильм потом добавили цыплячью кровь и кипящий котел) [5]. Эрудиция играет в этой истории более важную роль, чем невежество. Однако пятьдесят пять человек признались в ведьмовстве. Был повешен пастор. И хотя мы никогда не узнаем точного числа формально обвиненных в «лукавом и злонамеренном» участии в магических ритуалах [6], до того, как кризис пошел на спад, в двадцати пяти деревнях и городах выявили от 144 до 185 ведьм и колдунов. Сообщалось, что небо над Массачусетсом тогда рассекали порядка семисот ведьм. Обвиненных было так много, что свидетели путались в своих колдуньях. Даже один весьма дотошный летописец впоследствии отправил в злополучный полет совершенно не ту женщину [7].
Самой молодой ведьме было пять, самой старой — под восемьдесят. Дочь обвинила свою мать, которая обвинила свою мать, которая обвинила соседа и пастора. Жена и дочь донесли на своего мужа и отца. Мужья приплетали к делу жен, племянники — теть, зятья — тещ, братья и сестры — друг друга. Лишь отцы и сыновья выбрались из шторма без потерь. Женщину, приехавшую в Салем, чтобы защитить свое доброе имя, заковали в кандалы в тот же день, еще до захода солнца. В Андовере — самом пострадавшем из поселений — обвиненным оказался каждый пятнадцатый житель. Главный пастор города неожиданно выяснил, что находится в родстве по меньшей мере с двадцатью ведьмами. Духи вылетали из могил, дабы курсировать по залу суда во всех направлениях, что нервировало присутствовавших даже больше, чем сами ведьмы. Возникали вопросы, отвечать на которые было страшнее всего: а кто плетет заговор против тебя лично? Можно ли быть ведьмой и не знать этого? [8] Может ли невиновный быть виновным? Может ли хоть кто-то, спрашивали себя к концу лета мужчины, чувствовать себя в безопасности?
Как получилось, что идеалистическая Колония Массачусетского залива всего через три поколения после своего основания превратилась в такое мрачное место? Загадка Салема породила почти столько же теорий, сколько убийство Джона Кеннеди [9]. Нашу первую тру-крайм историю пытались объяснить поколенческими, сексуальными, экономическими, духовными и классовыми разногласиями; региональными конфликтами, привезенными из Англии; пищевыми отравлениями; теплолюбивой религией в холодном климате; подростковыми истериками; махинациями, налогами, заговорами; политической нестабильностью; травмирующими последствиями нападений индейцев; наконец, настоящим колдовством. И все вышеперечисленное — в числе самых адекватных теорий [10], [11]. Можно винить атмосферные явления, или проще — погоду: так исторически сложилось, что вспышки обвинений в колдовстве обычно происходили в конце зимы. 3а все это время в ролях злодеев побывали самые разные актеры, некоторые выглядели убедительнее других. Жители Салема тоже пытались объяснить себе, зачем констебль с ордером на арест стучится в ту или иную дверь. Им картина виделась ненамного более ясной, чем нам сегодня. Она включала невидимые хороводы приходов и расходов, тихую неприязнь, долго тлевшую вражду и полузабытые обиды. Уже тогда кое-кто догадывался, что Салем — история с двойным дном. И большая часть подтекста теперь утеряна для нас, как соль шуток у Шекспира.
Салем, короткий триумф террора, — редкий эпизод в просвещенном прошлом Соединенных Штатов, когда разом погасли все свечи и люди блуждают в потемках. Именно в таких условиях берут начало хорошие истории. Их легко осмеять (только у этой трагедии появился собственный ежегодный праздник, хотя и не имеющий к ней прямого отношения), но сложнее понять. Нас неумолимо притягивает эта «тайна запертой комнаты». За триста лет мы практически ничего не узнали про эти девять месяцев в истории Массачусетса. Знай мы о Салеме больше, возможно, меньше бы уделяли ему внимания — это как-то связано с той мучительной загадкой, от которой вспыхнула изначальная боязнь ведьм. Что-то тревожит нас по ночам. Иногда совесть. Иногда секреты. Иногда страхи, переведенные с одного языка на другой. Нередко тем, что мучает нас, и кусает, и скребет, и царапает, и режет, и душит — например, ведьма из XVII века, — оказывается никак не складывающийся пазл, оставленный в соседней комнате.
Население Новой Англии 1692 года сегодня уместилось бы на стадионе «Янки». Почти все эти люди были пуританами. Семьи, пострадавшие за веру, уплыли в Северную Америку, чтобы там почитать бога «в большей чистоте и меньшей опасности, чем в собственной стране», по словам одного пастора, находившегося в самом центре событий [12]. Они считали Реформацию неоконченной, а англиканскую церковь — недостаточно целомудренной. В Северной Америке они намеревались завершить свою миссию. Они считали себя посланцами Бога и надеялись дать начало новой истории: им выпал шанс построить с нуля цивилизацию, «новый английский Израиль», как назвал это некий священнослужитель в 1689 году [13]. Непримиримые протестанты, они оказались дважды раскольниками, дважды революционерами. Это не прибавляло им популярности на родине. Они вносили смуту и разногласия, имели твердое мнение, пылали праведным гневом. Как все изгои, они отождествляли себя с нанесенными им обидами [14]. Именно им Новая Англия будет обязана своим решительным характером, а Америка, как утверждается, — своей независимостью. Ревностные кальвинисты, они проделали большой путь, чтобы по-своему проводить религиозные обряды, и были крайне нетерпимы к тем, кто придерживался иных порядков. Они были пылкими, беспокойными, беззастенчивыми, безнадежно логичными, не совсем американцами. Они представляли самую однородную культуру из когда-либо существовавших на этом континенте.
Конечно, приезжий преувеличивал, когда писал, что жители Новой Англии не могли «заключить сделку или пошутить, не обратившись к Святому Писанию» [15]. Но не то чтобы он был так уж далек от истины. Если в доме имелась книга — а она почти всегда имелась, — то это была Библия. Первые американские поселенцы Нового времени думали, дышали, мечтали, воспитывали, торговали и бредили библейскими словами и образами. Судья Сэмюэл Сьюэлл ухаживал за привлекательной вдовой, зачитывая ей опубликованные проповеди. Она сдерживала его натиск с помощью апостола Павла [16]. Ругая сограждан, которые скорее заморят его голодом, нежели станут платить ему жалованье, вице-губернатор Нью-Гемпшира цитировал «К коринфянам». Его оппоненты отбивались Евангелием от Луки. Иоанн Креститель легко мог возникнуть в горячем земельном споре в Кембридже. Заключенный, выступая в свою защиту, обращался к стиху 19: 19 Второзакония. А когда ночью в ваше окно влетала кошка-убийца, вцеплялась вам в горло и царапала грудь, пока вы, беззащитный, лежали в постели, вы гнали ее прочь, призывая Отца, Сына и Святого Духа. Тварь тут же спрыгивала на пол и удирала обратно через окно, а вы понимали, что это на самом деле был ваш сосед-склочник, обратившийся зверем. К такому же заключению приходил и колесник из соседней деревни, когда одним дождливым ветреным вечером после заката на него набрасывалась черная псина. Топор в его руке был здесь бессилен: лишь имя Божье спасало ему жизнь.
Новый мир копировал старый, но с существенными поправками. Простершееся от острова Мартас-Винъярд до полуострова Новая Шотландия и включавшее в себя части сегодняшних штатов Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Гемпшир и Мэн, это библейское сообщество лежало на границе с дикими неосвоенными территориями. С самого начала оно боролось с другой напастью американского бытия — дьявольским дикарем, смуглолицым террористом — на собственном заднем дворе. Даже наименее изолированные аванпосты поселения ощущали свою уязвимость. Буря сорвала крышу с одного из лучших салемских домов, пока десять его обитателей мирно спали. Церковь взмыла в воздух вместе с прихожанами [17]. Первые поселенцы жили не только на границе, но и как бы в безвременье. Здесь какой-нибудь иноземный монарх мог умереть и в следующую же минуту воскреснуть — так ненадежны были источники информации. Жители Массачусетского залива не всегда знали, кто сидит на троне, которому они присягали на верность. В 1692 году они не знали полномочий собственного правительства и жили так в течение трех лет: хартия, подписанная в конце 1691 года, все еще плыла к ним через океан. Три месяца в году они не были уверены, какой нынче год: папа римский утвердил григорианский календарь, а в Новой Англии его не принимали, продолжая упрямо считать началом нового года 25 марта (когда салемские ведьмы начали нападать на первых жертв, в Северной Америке был 1691-й, а в Европе — 1692 год).
В удаленных поселениях, в сумрачных, плохо освещенных домах с чадящими свечами граждане Новой Англии жили по большей части во тьме — а во тьме всегда вслушиваешься напряженнее, ощущаешь острее, представляешь живее. Во тьме сакральное и сверхъестественное расцветает пышным цветом. Их страхи и фантазии мало отличались от наших, пусть даже те ранние американские ведьмы походили на сегодняшних старух в остроконечных шляпах, как сомалийские пираты походят на капитана Крюка из «Питера Пэна». Однако их тьма была совершенно особенной [18]. Небо над Новой Англией было чернее воронова крыла, черным как смоль, библейски черным [19] — таким черным, что ночью трудно было не сбиться с дороги, а деревья легко перемещались в пространстве. Таким черным, что вы вдруг обнаруживали, что за вами гонится бешеный черный кабан, и приползали домой на четвереньках, окровавленный и потерянный. Конечно, очки были не очень популярны в Массачусетсе XVII века. А пили там в основном крепкий сидр. И все же вдумчивый, набожный, образованный житель Новой Англии нес порой в салемском суде такое, что впору было заподозрить его в злоупотреблении каким-то наркотическим веществом весьма низкого пошиба.
Во всей Новой Англии трудно было найти нескольких человек, не считавших сверхъестественное чем-то по-настоящему реальным, такой же неотъемлемой частью культуры, как и сам дьявол. У большинства имелись истории из личного опыта — как и у многих из нас сегодня. Мы все сталкивались с необъяснимым, даже если и не признаёмся себе в этом. Через год после кризиса с ведьмами Коттон Мэзер в числе других наиболее начитанных людей Америки посетил Салем. Там он потерял записи своих проповедей, которые обнаружились спустя месяц, разметанные по улицам соседнего поселения. Мэзер решил, что украли их сподвижники дьявола [20]. Человек больше не сомневался в реальности волшебства, как не сомневался в буквальной точности и абсолютной правдивости Писания — не верить в это означало не верить в восход или закат солнца. А колдовство служило чрезвычайно важной цели. Раздражение, смущение, унижение — все растворялось в его кипящем котле. Оно придавало смысл неудачам и суевериям, прогоркшему маслу, болезни ребенка и кошке-убийце. Что же еще, пожимал плечами муж, могло оставить черно-синие пятна на руке его жены?
Каким-то напастям, одолевавшим поселенцев Новой Англии, мы можем сегодня дать объяснение. Каким-то — нет. В свое время мы верили в кучу сказок: в зубную фею, холодный ядерный синтез, пользу курения, бесплатный обед, — чтобы обнаружить впоследствии, что ничего из этого не существует. Мы все до определенного момента находимся в плену абсурдных убеждений, даже не подозревая об этом. Мы все иногда предпочитаем вымысел правде, отказываемся от явного доказательства в пользу фантастической идеи, совершаем безумные поступки во имя здравого смысла, делаем соблазнительный шаг от праведности к фарисейству, топим свою личную вину в общественном колодце, предаемся маленьким заблуждениям. Каждый из нас хотя бы раз считал, что кому-то больше нечем заняться, кроме как тратить время на плетение против нас интриг. XVII век полнился необъяснимым, совсем как невероятно автоматизированный, познавший человеческий мозг, научно подкованный двадцать первый.
Хотя мы и не склонны думать, что темные силы крадут наши бумажки, мы сталкиваемся со странностями каждый день — и нам это нравится. Нам нравятся истории о том, как молния, ударившая в молящегося, испепелила книгу Откровение, но не тронула остальную Библию [21]. Даже те из нас, кто не имеет отношения к пуританам, подвержены «болезням потрясений», как называл это Мэзер [22]. Наша потребность в чуде никуда не делась. Мы по-прежнему желаем, чтобы рядом существовало нечто непознаваемое. Мы надеемся обнаружить у себя скрытую силу — типа рубиновых башмачков Дороти, тайну которых открывает ей добрая фея Глинда. А когда дело касается женщин, желательно, чтобы подобная сила проявлялась исключительно в кризисных ситуациях: лучшая героиня — неожиданная героиня. До и после судебных процессов Новая Англия кормилась легендами о бесстрашных дамах, о доблести, проявляемой ими в схватках с индейцами. Эти «рассказы пленниц» стали чем-то вроде шаблона для историй о ведьмах. У каждого есть свой «рассказ пленника»: сегодня мы называем это мемуарами. Порой мы оказываемся еще и пленниками своих фантазий. Салем — отчасти история о том, что происходит, когда вопросы без ответов сталкиваются с ответами без вопросов.
Салемский кризис с его людьми-трансформерами, полетами на метлах, безумными желаниями, затравленными рабами, злобными мачехами, заколдованным сеном и заговоренными яблоками напоминает и другой жанр тех времен: волшебную сказку. В одной такой сказке действие происходит в чаще, куда охотник везет вас, чтобы вырезать легкие и печень, а до дому вас провожают волки. Салем повествует о нереальном, но не о неправдивом: он замешан на неисполненных желаниях и невысказанных тревогах, волнующих сексуальных подтекстах и первобытном ужасе. Он разворачивается в той самой заманчивой плоскости, которая лежит между сверхъестественным и абсурдным. В Новой Англии и раньше проходили суды над ведьмами, но ни один из них не имел дела со стайкой одержимых девчонок подросткового и предподросткового возраста. Салем, как и положено волшебной сказке, — история, где главные роли играют женщины: решительные командирши и покорные рабыни, благонравные матроны и капризные юницы. В одном только количестве обвиненных женщин кроется тихий намек на тревожащую женскую силу. Несколько юных бесправных девочек спровоцировали кризис, разбудивший силы, которые никто не смог взять под контроль, и это до сих пор нас беспокоит. Может быть, это в какой-то мере объясняет, почему мы превратили историю о женщинах в опасности в историю об опасных женщинах. А может быть, и нет.
Женщины играют в сказках роль злодеек — а как еще вас назвать, если вы вдруг седлаете символ скромного домашнего труда и улетаете черт знает куда, поправ все нормы морали и законы природы? Но эти сказки — тоже территория молодых. Салем каждым своим нервом связан с взрослением, с тем неукротимым возрастом, когда мы, ранимые и непобедимые, беспечно скачем по узкой границе рационального и нерационального, когда страшно волнует и духовное, и сверхъестественное. Кризис начался с двух девочек предпубертатного возраста и быстро перекинулся на подростков, околдованных людьми, которых большинство из них никогда не встречали. Девочки жили в деревне, бьющейся за автономию от города; в колонии, которая сама проходила через муки взросления. Годами Корона пыталась навязать Новой Англии свою королевскую волю, и самые последние из этих попыток жители Массачусетса — включая почти всех будущих судей на процессах — пресекли. У них было немало поводов требовать у Англии защиты от набегов индейцев и коварства французов. Но, жалуясь на свою уязвимость как «сиротливой плантации», поселенцы при этом сопротивлялись любому контролю. Они с самого начала готовились к вмешательству в свои дела, клялись противостоять ему, когда настанет час, и почувствовали себя оскорбленными, когда час-таки настал. Отношения с метрополией превратились в непрекращающуюся перебранку. В какой-то момент казалось, что те, кто должен был защищать колонистов, на самом деле их преследовали. Лондон же, наоборот, считал колонистов «капризными недотрогами» [23]. Власти Массачусетса страдали еще одним тревожным расстройством, сыгравшим свою роль в 1692 году. Всякий раз, оглядываясь в восторге на людей, основавших их богоугодную общину, всякий раз, воздавая хвалу величайшему из поколений, сами они словно чуточку уменьшались.
Историческая правда проявляется только со временем. В случае с Салемом она выползает из тьмы веков крайне неохотно, к тому же несколько видоизмененная. Пуритан, обожавших записывать всё и вся, сложно заподозрить в забывчивости. Однако в середине 1692 года, если верить дошедшим до нас архивам, никто в Массачусетсе не вел дневников, даже самые заядлые авторы дневников. «Полный свод божественного» авторства преподобного Сэмюэля Уилларда — сочинение настолько объемное, что ни один печатный станок в Новой Англии не мог его напечатать, — демонстрирует весьма красноречивый пробел в записях с 19 апреля по 8 августа. При этом Уиллард не опустил ни одного месяца в 1691 или 1693 году. Почтенный салемский пастор [24] пишет тем летом своему старшему сыну, что его сестру бросил ее убогий муж. Но не упоминает, что она, кроме того, задержана по подозрению в колдовстве. Поднимающийся по карьерной лестнице двадцатидевятилетний Коттон Мэзер в основном живет в Бостоне, но впоследствии так много настрочит о Салеме, что буквально впишет себя в историю. Большую часть своего дневника в 1692 году он составит уже постфактум. Салем дошел до нас обезображенный XVII веком и додуманный девятнадцатым. А мы склонны расчесывать свой национальный шрам, оставленный несдюжившим правосудием, с разной степенью энтузиазма в разных регионах страны. Массачусетский промах был излюбленной темой, например, на юге в 1860-х; исключением стала лишь Южная Каролина, где одну ведьму держали в тюрьме больше года. Поиски ответа на вопрос, как стал возможен холокост, в 1949 году привели писательницу Мэрион Старки в Салем. Она написала объемную книгу, которая позже, во времена маккартизма, вдохновит Артура Миллера на пьесу «Суровое испытание». Миллер, как до него Натаниэль Готорн [25], многое взял от этой истории.
Не сохранилось записей ни одного судебного заседания по делу о колдовстве. У нас имеются описания процессов, но не стенограммы: лишь подготовительные бумаги — показания свидетелей, обвинения, признания, петиции — плюс два приказа об исполнении смертного приговора. Деревенский журнал, куда вносились все значимые события, подчищен. В то время в североамериканских колониях еще не выпускалось газет. Хотя у околдованных имелась армия восхищенных поклонников, их голоса до нас не дошли. Их слова передают нам исключительно мужчины, которых нельзя обвинить в дотошности, непредвзятости и скрупулезном документировании. Эти мужчины искажают, заглушают голоса осужденных и проявляют не больше внимания к обвинителям — не все сказанное ими записывается. У нас очень мало полных стенограмм предварительных слушаний. Свидетельские показания давались слишком быстро, а шум в зале не давал их расслышать. Сложно с уверенностью сказать, кто что говорил. Стенографисты очень скоро перестали вести настоящие протоколы, вместо этого просто делая выжимки и добавляя отсебятину по ходу действия. Один, например, написал, что ответчик выступал с «очень неприятным, презрительным видом» [26]. Другой прервал протоколирование судебного заседания, чтобы назвать подозреваемого лжецом. С какого-то момента стенографисты перестают останавливаться на отрицаниях вины, которые вскоре переродились в признания. И тут встает другая проблема: показания даются под присягой. Также они полны диких небылиц — если, конечно, вы не верите признанию одной женщины, поклявшейся говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды, — что она вместе со священником местного прихода и еще парой человек верхом на палке летала на праздник сатанинского посвящения, в предшествующий тому понедельник плавала по воздуху с призраком пастора, а до того беседовала в своем саду с сатанинской кошкой. Более ста человек вели записи показаний. Мало кто из них когда-либо учился правильно это делать. Результат — адская непоследовательность. Даже если они все же записывали ответ, то не всегда утруждались фиксировать вопрос. Хотя несложно восстановить его из контекста, когда девятнадцатилетняя девушка, стоя перед тремя самыми влиятельными мужчинами, которых ей доводилось встречать в жизни, кричит: «Я скажу! Я скажу!» — и признается в ведьмовстве [27].
Обвинители путали подозреваемых, более поздние летописцы вносили еще больше неразберихи. У некоторых оказалось одно и то же имя. Часто все, что осталось от человека, получено после изнурительного допроса и записано судебными писарями, испытывавшими к жертве антипатию и порой свидетельствовавшими против нее. Мы крайне мало знаем про большинство из них помимо того, что они обвинялись или признавались в колдовстве. Еще одно сходство салемских ведьм со сказочными персонажами — мы узнаем их по единственной детали: узору на платье, обороту речи, внутренней дрожи. И вынуждены делать выводы, исходя из единственной характеристики: Мэри Уоррен была красавицей. Абигейл Хоббс была бесстыдницей. У Джорджа Джейкобса было великолепное чувство юмора, а у Сэмюэла Пэрриса его не было вовсе. Что мы хотим услышать от людей, вовлеченных в процессы? О чем они думали, когда признавались, что летали по воздуху или душили соседа? А когда клеймили абсолютно вменяемую женщину, утверждавшую, что она знать не знает ничего о ведьмовстве? Делили камеру с обвиненным колдуном? Присутствовали при повешении, где приговоренный по их обвинению до последнего вдоха настаивал на своей невиновности? Где был демон Салема, чего он хотел? Как те, кто противостоял ужасным обвинениям, нашли в себе для этого силы? Все они сошли в могилу, продолжая верить в существование ведьм. В какой момент до них дошло, что, даже если волшебство существует, суды эти — фикция? Их маленькая история местного значения разрастается — и из национальной страшилки превращается в готический триллер, в масштабный разлом, выпустивший джинна, на который страна наткнулась по пути к конституции. Охота на ведьм остается подпитываемой слухами замшелой поучительной историей, напоминанием о том, что — как сказал один пастор — чрезмерно правильное может споткнуться о чрезвычайно неправильное [28].
Здесь слишком много того, о чем мы не можем знать наверняка: как два человека, обвинившие друг друга в колдовстве, несколько месяцев ладили, сидя в одной крошечной камере? А если они были матерью и дочерью? Чем дух отличался от призрака? Что было страшнее: что следующим, к кому постучатся, будешь ты, что колдовство вскоре доберется и до тебя или что человек, которого ты приговариваешь к повешению, может оказаться невиновным? Мы снова и снова возвращаемся к их словам, пытаемся выцепить ответы из скупой пуританской прозы, заставить говорить плотно сомкнутые пуританские губы; разобрать смысл эпизода, начавшегося с аллегории, которая, словно детская книжка-раскладушка, вспыхнула ослепительной историей — только для того, чтобы снова превратиться в аллегорию. Молитва, заклинание, книга… Мы всё еще надеемся: стоит лишь расположить слова в правильном порядке, горизонт прояснится, мы станем лучше видеть, и — когда неопределенность ослабит свою хватку — все чудесным образом встанет на свои места.
[28] Samuel Willard. A Complete Body of Divinity. Boston: B. Green, 1726. P. 627.
[16] Чтобы подготовить свою семнадцатилетнюю дочь к встрече с потенциальным женихом, Сьюэлл читал ей историю Адама и Евы. Эффект был гораздо менее успокаивающим, нежели ожидалось: девушка спряталась от кавалера в стойле.
[15] Edward J. Ward. Boston 1682 и 1699: A Trip to New England. Providence, RI: Club for Colonial Reprints, 1905. P. 54. Сьюэлл и члены суда: SS Diary, 2. P. 966. Вице-губернатор Нью-Гемпшира: John Usher Papers, Ms. N-2071, 102, MHS. Данфорт цитирует Иоанна Крестителя: Roger Thompson. Cambridge Cameos. Boston: New England Historic Genealogical Society, 2005. P. 146. Заключенный: History of Salem, 3. P. 186; кошка-убийца: R, 436; топор (оба свидетельства — против Сюзанны Мартин): R, 276.
[14] Метафора «противостояния чему угодно» взята из Генри Адамса: см. Stephen Innes. Creating the Commonwealth: The Economic Culture of Puritan New England. New York: W. W. Norton, 1995. P. 312.
[13] CM. Small Offers Towards the Service of the Tabernacle in the Wilderness. Boston, 1689.
[12] Nicholas Noyes. New-England’s Duty and Interest to Be an Habitation of Justice and Mountain of Holiness. Boston, 1698.
[11] Chadwick Hansen. Andover Witchcraft and the Causes of the Salem Witchcraft Trials // The Occult in America, ed. Howard Kerr and Charles Crow. Urbana: University of Illinois, 1983. P. 53.
[10] Большинство из них не до конца оформлены. Как признал один сторонник теории реального колдовства, «американские университеты в ХХ в. могут похвастаться долгой и лютой междоусобной враждой, которая ничуть не уступает салемским распрям. Враждующие предъявляют друг другу самые нелепые обвинения, но колдовства среди них все-таки нет». — Здесь и далее, если не указано иное, прим. авт.
[9] Свои предположения уже внесли ученые из всех возможных областей. Вместо полной библиографии предлагаю почитать лучшие обзоры гигантского объема литературы: John Demos. The Enemy Within. P. 189–215. David D. Hall. Witchcraft and the Literature of Interpretation // New England Quarterly, June 1985. P. 253–81. John M. Murrin. The Infernal Conspiracy of Indians and Grandmothers // Reviews in American History, December 2003. P. 485–94. Trask. The Devil Hath Been Raised, x. О вражде поколений: Demos. Entertaining Salem; о региональных различиях и этнической вражде: Elinor Abbot. Our Company Increases Apace. Dallas: SIL International, 2007; Richard Slotkin. Regeneration Through Violence. New York: Harper, 1996; об экономической вражде: Boyer and Nissenbaum. Salem Possessed; об остаточной, привезенной с собой региональной вражде: Cedric B. Cowing. The Saving Remnant. Urbana: University of Illinois Press, 1995; о вражде полов: Koehler, Search for Power; об эпидемии летаргического энцефалита: Laurie Winn Carlson. A Fever in Salem. Chicago: Ivan R. Dee, 2000; о спорынье: Ergotism: The Satan Loosed in Salem? // Science 192, April 1976. P. 21–26; о духовных столкновениях: Richard Latner, ‘Here Are No Newters’: Witchcraft and Religious Discord in Salem Village and Andover // New England Quarterly, March 2006. P. 92–122. Бенджамин С. Рэй опровергает теорию уютной размолвки востока с западом, предложенную Бойером и Ниссенбаумом в «Заколдованном Салеме»: Benjamin C. Ray. The Geography of Witchcraft Accusations in 1692 Salem Village // William and Mary Quarterly 65, July 2008. P. 449–78. О налогах: Noel D. Johnson and Mark Koyama. Taxes, Lawyers, and the Decline of Witch Trials in France // MPRA, working paper no. 34266, October 2011; о заговоре: Enders A. Robinson. The Devil Discovered: Salem Witchcraft 1692. Prospect Heights, IL: Waveland, 1991. Эмили Остер предполагает, что лихорадочная охота на ведьм совпала с локальным ледниковым периодом: Emily Oster. Witchcraft, Weather, and Economic Growth in Renaissance Europe // Journal of Economic Perspectives 18. Winter 2004. P. 215–228; связь с погодой: James Sullivan. The History of the District of Maine. Boston: Thomas and Andrews, 1795. P. 212. Спросите сегодняшних участниц исторической реконструкции «Плимутская плантация», какой месяц самый суровый, — они не колеблясь ответят: февраль.
[8] R, 392; о виновном невиновном — 145.
[7] Magnalia, 2: 411. Возможно, это была опечатка.
[6] Это невозможно из-за ошибок в опознании и пробелах в записях. Бойер и Ниссенбаум в «Обезумевшем Салеме» говорят о 141 человеке; Розенталь в «Салемской истории» — о 156; Эмерсон У. Бейкер в «Буре колдовства» дает цифру 169 или 172; Кёлер в «Поиске власти» — 204 (Boyer and Nissenbaum. Salem Possessed; Rosenthal. Salem Story; Emerson W. Baker. A Storm of Witchcraft. New York: Oxford, 2015; Koehler. Search for Power). Один источник того времени указывает, что осужденных было больше двухсот. Если это так, значит, утеряно гораздо больше документов, чем мы думаем.
[27] R, 196–197.
[26] О приписываемых разным людям показаниях и отчетах, стенограммах и пробелах: Marion Gibson. Reading Witchcraft: Stories of Early English Witches. London: Routledge, 1999; Peter Grund. From Tongue to Text: The Transmission of the Salem Witchcraft Records // American Speech 82, Summer 2007. P. 119–150; Studia Neophilologica 84 (2012), особенно эссе авторов: Matti Peikola, Matti Rissanen, Leena Kahlas-Tarkka; Grund et al. Editing the Salem Witchcraft Records: An Exploration of a Linguistic Treasury // American Speech 79, Summer 2004. P. 146–167; Grund. The Anatomy of Correction // Studia Neophilologica 79 (2007). P. 3–14.
[25] Натаниэль Готорн (1804–1864) — американский писатель, родившийся в Салеме и всю жизнь ощущавший вину за своих предков, участвовавших в процессах. В двух его известнейших романах — «Дом о семи фронтонах» и «Алая буква» — затрагивается тема салемских ведьм. — Прим. перев.
[24] Письмо Джона Хиггинсона сыну от 31 августа 1692 года: Fam. Mss. 433, Higginson Family Papers, PEM); В книге «Дьявольские силки» Нортон утверждает, что СП сжег свои записи: Norton, In the Devil’s Snare. Р. 13.
[23] John Bowle, ed. The Diary of John Evelyn. Oxford: Oxford University Press, 1983, 2. P. 235. Интересный источник об этой «сдержанной враждебности»: Michael Garibaldi Hall. Edward Randolph and the American Colonies, 1676–1703. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1960.
[22] CM in Burr, 101.
[21] John Hull. The Diaries of John Hull. Boston: John Wilson, 1857. P. 231.
[20] CM Diary, 1. P. 171–173. В итоге он перехитрил дьявола — стал проповедовать без записей, по памяти. Это события сентября 1693 года; целью визита Мэзера в Салем было в том числе убедиться, что «полные данные о последних случаях ведовства и одержимости бесами не утеряны».
[19] В оригинале Bible black — это поэтическое выражение, которое восходит к работе валлийского поэта Дилана Томаса «Под сенью молочного леса» (Under Milk Wood). — Прим. ред.
[18] Никто не разбирается в этом вопросе лучше А. Роджера Экирха: A. Roger Ekirch. At Day’s Close: A History of Nighttime. London: Weidenfeld, 2005. Я благодарна Джону Демосу (John Demos), привлекшему мое внимание к этой книге. Также хорошее представление о диких землях дают следующие современные источники: Peter N. Carroll. Puritanism and the Wilderness. New York: Columbia University Press, 1969; William Cronon. Changes in the Land. New York: Hill and Wang, 1983; John R. Stilgoe. Common Landscape of America. New Haven, CT: Yale University Press, 1982. Бешеный кабан: R, 359. Очень часто в литературе жители Новой Англии говорят о себе «слышавший свидетель» — слова и звуки играли первую скрипку.
[17] Ola Elizabeth Winslow. Meetinghouse Hill. New York: Macmillan, 1952. P. 54.
[5] Драматург Артур Миллер в 1953 г. написал пьесу о салемских процессах «Суровое испытание», которая впоследствии была дважды экранизирована. — Прим. перев.
[4] Американский поэт Генри У. Лонгфелло был убежденным аболиционистом, его перу принадлежит цикл стихотворений «Песни о рабстве». — Прим. перев.
[3] Историком XIX в. был Чарльз У. Апхэм. О Титубе и вуду: Bernard Rosenthal. Tituba // OAH Magazine of History, July 2003. P. 48–50; Rosenthal. Salem Story. P. 10–31; Rosenthal. Tituba’s Story // New England Quarterly, June 1998. P. 190–203. О высоком статусе образования в Массачусетсе: Lawrence A. Cremin. American Education: The Colonial Experience. New York: Harper and Row, 1970. P. 207. Гретхен Адамс делает интересное наблюдение: Юг США начал эксплуатировать миф о сжигании ведьм в напряженные 1850-е: Gretchen Adams. The Specter of Salem. Chicago: University of Chicago Press, 2010. P. 95–96.
[2] Anton Chekhov. Letters on the Short Story, the Drama, and Other Literary Topics. New York: Benjamin Blom, 1964. P. 8.
2
Старый искуситель
Но кто знает, какие чудеса могут явиться мне до конца этого года! [29]
Коттон Мэзер, 1692
Едва не касаясь подолом дубовых рощ, поросших мхом болот и крученых быстрин, Энн Фостер, оседлав палку, плыла над верхушками деревьев, полями и оградами [30]. В кармане у нее лежали хлеб и сыр. Была середина мая 1692 года, после сырой весны в воздухе ощущался холодок. Впереди сидела Марта Кэрриер — бесстрашная мать четверых детей была вдвое моложе Фостер. Именно Кэрриер уговорила Фостер на этот полет; дорогу она знала. Луга и взгорки плюшевым ковром расстилались под летящими женщинами, которые держали путь на юго-восток, через реку Ипсвич, поверх красных кленов и цветущих садов. Свежий ветер овевал их лица, яркая луна освещала небеса. Уже несколько лет Фостер и Кэрриер живут по соседству, семьи обеих происходили из Шотландии и ходили в одну и ту же церковь в Андовере, штат Массачусетс.
Они перемещались очень быстро и преодолели за одно мгновенье расстояние, на которое хорошей лошади потребовалось бы три с половиной часа, да и дорога до недавних пор была каменистой и ухабистой, совершенно непроходимой в темноте. Их путешествие, однако, тоже не обошлось без происшествий. Только что они рассекали воздушные потоки, и вот уже камнем падают вниз, потому что недалеко от лесной чащи палка под ними неожиданно сломалась. Женщины валятся на землю, и более старшая Фостер подворачивает ногу. Она инстинктивно обхватывает Кэрриер за шею. Именно в этой позе, объясняла позже Фостер (и ее показания ни разу не менялись ни на йоту), они снова взлетают и вскоре благополучно приземляются на салемский деревенский луг. Собрание еще не началось, и у дам есть время устроить маленький пикник под деревом. Встав на колени, Фостер пьет из ручья. Этот инцидент в воздухе — уже не первый в истории. Двумя десятилетиями ранее одна маленькая девочка из Швеции, тоже направлявшаяся на важнейшее ночное собрание на лугу, рухнула с большой высоты и почувствовала «сильную, все возрастающую боль в боку».
Фостер и Кэрриер пролетели почти двадцать километров над раскиданными там и тут поселениями. Нетрудно объяснить, почему их никто не видел. Труднее понять, почему никто не слышал столкновения с землей. Звуки отражались эхом и рикошетом разлетались по всей Новой Англии, что усиливало эффект и давало повод разыграться воображению [31]. Шлепанье хвоста бобра по воде слышалось в пределах километра. «Отвратительная возня и рычание» жирных черных медведей разносились далеко, как и вопль толпы при падении ножа гильотины. Любое нарушение тишины требовало объяснений. Что это за океан рокочет здесь, в глубине материка? Стая голубей садится на дерево. А этот жуткий рев? В Бостоне Сэмюэл Сьюэлл обнаружил, что это плачет его корова, которую укусила собака. Каждую ночь собаки выли на волков-мародеров. Но иногда истошный лай и треск досок на рассвете предвещали кое-что более зловещее. Иногда это означало, что кто-то разбирает соседний дом, поспешно решая таким образом неприятный имущественный спор. Кто же мог подумать, что звук, который все приняли за выбивание белья прачкой в лесной чаще, на деле окажется симфонией размножения гигантских черепах?
Кстати, верить своим глазам было вовсе не обязательно. Порой шарканье и топот были предвестниками появления из темноты прекрасно экипированных иностранных воинов. Оставляя четкие следы, они растворялись в кукурузных полях, садах и болотах. Они стреляли настоящими пулями, однако за пару недель нервотрепки совершенно не пострадали от пуль шестидесяти ипсвичских ополченцев. Их считали призраками французов и индейцев [32] — такое объяснение было лучше многих других. Вы могли проснуться от непонятной возни в ночи и обнаружить рядом с собой семейство кошек. В ярком свете луны за царапаньем по оконному стеклу легко могла обнаружиться и впрыгнуть к вам в кровать Сюзанна Мартин, которая затем садилась вам на живот, пытаясь добраться до горла. При свете дня дядя Энн Патнэм видел, как миссис Брэдбери исчезла в своем саду, а через несколько секунд снова появилась, но уже в виде синего кабана. Когда через дымоход в кухню ввалился настоящий живой теленок, рядом хотя бы ошивался один мальчишка-проказник. Но как насчет медуз, глубокой ночью светящихся в камине? [33] Там их было не меньше дюжины, уверял Элизер Кисер. Служанка тоже их видела! Через минуту наваждение пропало. А кто передвинул верстовые столбы, из-за чего один житель поселка Эймсбери одной лунной субботней ночью оказался в лесах, где свалился в несуществующую яму, почти в двух километрах от дома? Восемнадцатилетняя Сюзанна Шелден не могла поверить собственным глазам: кастрюля сама по себе вылетела из дома. И почему метла снова застряла в ветвях яблони?
Образы выныривали из тьмы и превращались в нечто совершенно иное. Отряд конных всадников на берегу с более близкого расстояния становился хромым индейцем с сетью на плече [34]. Когда ученик в доме Сьюэллов палкой гнал собаку вон, на самом деле он выяснял отношения с девятилетним мальчишкой [35]. А когда Титуба, рабыня преподобного Сэмюэла Пэрриса, однажды наткнулась на мохнатое существо ростом около метра, с крыльями и длинным носом, гревшееся в темной комнате перед приходским очагом, она, понятное дело, приняла его за сварливую Сару Осборн. Она клялась в этом. Пастор прихода в Бэверли Джон Хейл, возможно, был более близок к истине, когда предположил, что нечто, взорвавшее его камин, проделавшее в крыше почти трехметровую дыру, громыхнувшее посудой и парализовавшее его руку, на самом деле было молнией. С таким же твердым намерением примирить восприятие происходящего с его пониманием несколько видных мужей, пасторов, собрались на недавно отремонтированной кухне одним жарким апрельским полднем. Они пытались найти ответ на вопрос, почему «небесная артиллерия» предпочитала целиться в дома церковнослужителей, когда вдруг зазвенели осколками новенькие оконные стекла, и по полу рассыпались крупные градины. У уважаемых мужчин имелись основания заключить, что кто-то хочет что-то кому-то доказать. Соседи глазели на кучу битой плитки и стекла. Оставалось лишь расшифровать послание. Настоящий пуританин всегда умел грамотно воспользоваться хорошей катастрофой.
Энн Фостер взмыла на своей палке в небо над Салемом за три года до этого града. Ей не требовалось свидетелей, способных подтвердить тот неудачный полет: была причина, по которой она запомнила его в мельчайших деталях, вплоть до следов копыт на песчаной тропинке на лугу. Плюс ко всему поврежденная нога тревожила ее еще несколько месяцев.
Еще проворнее двух андоверских женщин перемещались по Новой Англии два слуха. Из лесов начали выскакивать и бесшумно проникать в поселения индейцы. «Злые волшебники и дьявольские колдуны» [36] казались настоящими князьями тьмы. Без стука и приветствия в вашей гостиной могли появиться четверо вооруженных туземцев, чтобы погреться у огня и наговорить вам непристойностей, в то время как вы со своим вязаньем трепетали в углу от страха. Или вы возвращались из поездки в Бостон и обнаруживали, что ваш дом сгорел, а семья в заложниках — все это козни невидимых врагов. «Найти их труднее, чем убить» [37], — говорил Коттон Мэзер, блистательный молодой светловолосый пастор [38]. Они прятались, ускользали, порхали с места на место, творили зверства — и исчезали. Вместе со своими вигвамами — всего за одну минуту. «Наши люди не видели, по кому стрелять» [39], — жаловался генерал-майор из Кембриджа. Продолжавшееся год и три месяца противостояние между поселенцами и коренными американцами, так называемая война короля Филипа, закончилось в 1676 году. Оно уничтожило треть из сотни городов Новой Англии, рассыпало в прах ее экономику и забрало 10% взрослых мужчин. Каждый житель Колонии Массачусетского залива — особенно óкруга Эссекс, к которому относился Салем, — потерял друга или родственника. В 1692 году колонисты не просто так называли эти мрачные месяцы «прошлой индейской войной»: уже назревал новый конфликт. Серия опустошительных набегов предвещала скорое столкновение с индейцами-вабанаки и французами, ставшими их союзниками в продолжение европейской войны между Англией и Францией [40]. Не так давно границу передвинули, теперь от нее до Салема было всего восемьдесят километров.
Еще одним шустрым путешественником оставался слух, просачивавшийся сквозь доски пола и щели в окнах, нечувствительный к слякоти и снегу, не знавший усталости легконогий отщепенец неуклюжей правды. Как заметил некий продавец книг того времени: «Вся человеческая раса заражена свербящим зудом узнавать новости» [41]. Данный недуг только обострялся из-за отсутствия газет. Жителю Новой Англии приходилось довольствоваться тем, что было; если слова не проскальзывали через щели в стене или незанавешенные окна, их додумывали. Одна салемская пара подала в суд на своего слугу за то, что он шпионил за ними и рассказывал об увиденном. Если учесть, что люди спали в кровати по нескольку и жили в весьма стесненных условиях — в среднем салемском доме на шестерых приходилось четыре комнаты, причем в гостиной хранились припасы, а в кухне стоял ткацкий станок, — личное пространство было в этих местах роскошью. Многие в Массачусетсе просыпались от чьего-то хихиканья, иногда в собственной кровати [42], [43].
В маленьких городках нередко нарушено естественное соотношение мистики и скрытности. Салему с населением не больше пятисот пятидесяти человек было хорошо знакомо первое и почти неизвестно второе. Молва там жила долгой безбедной жизнью, питаемая домыслами и повторениями. В 1692 году весь Андовер знал, что Энн Фостер тремя годами ранее понесла тяжелейшую утрату. Ее зять и дочь поспорили о продаже земли, и зять закончил спор, перерезав горло супруге, у которой вскоре должен был родиться их восьмой ребенок. Перед повешением убийца раскаялся, публично признав неоспоримые достоинства семейной гармонии (это тоже слух, но, по крайней мере, из уст пастора) [44]. В том же 1689 году внук Фостер чудесным образом пережил налет индейцев: мальчика с частично снятым скальпом сочли мертвым и не стали добивать. Не было секретом и то, что Марта Кэрриер, компаньонка Фостер по упомянутому полету, родила ребенка прежде, чем вышла замуж за его отца, бедного слугу из Уэльса. А в 1690 году у Кэрриеров обнаружилась оспа. Им было приказано покинуть город, но они отказались. Власти Андовера посадили семью на карантин, опасаясь, что Кэрриеры будут (если еще не успели) «распространять хворь с бездушной небрежностью» [45]. За десятки лет до того о Марте шептались, будто она ведьма.
И вот в конце января 1692 года [46]— когда индейцы устроили страшную резню в Йорке, провинция Мэн, оставив изуродованное тело местного пастора у дверей его дома; когда на смену необычно суровой зиме в Новую Англию пришла оттепель; когда стало известно, что за океаном новый губернатор Массачусетса поцеловал кольцо Вильгельма III и собирался возвращаться домой с новой хартией, сулившей колонии долгожданное избавление от длительной анархии, — пошли разговоры о том, что что-то нехорошее происходит в доме Сэмюэла Пэрриса, салемского пастора.
Все началось в одну из чернильно-черных ночей с непонятных ощущений. Абигейл Уильямс, светловолосая одиннадцатилетняя племянница преподобного, судя по всему, первой подверглась странному воздействию. Вскоре подобные симптомы появились и у девятилетней Бетти Пэррис. Двоюродные сестры жаловались, что их кусает и щиплет «что-то невидимое» [47]. Они то скулили и лаяли, то вдруг немели. Их тела сотрясались и вращались, обмякали и деревенели. При этом у девочек не было жара, они не страдали эпилепсией. Паралич вдруг сменялся исступленными, непонятными жестами. Они «несли полную чушь, которую ни сами девочки, ни другие присутствовавшие не могли разобрать» [48]. Они забивались в щели, под стулья и табуретки, откуда их вытаскивали с большим трудом. Одна даже прыгнула в колодец. Абигейл пыталась взлететь, размахивала руками и жужжала как муха. И у обеих не находилось времени помолиться, хотя до января обе прекрасно себя вели и демонстрировали безупречное воспитание. Ночью девочки спали как младенцы.
Это случалось и прежде. Самый памятный случай — когда четверо таких же благоразумных деток, дочки и сыночки набожного бостонского каменщика, отличавшиеся «примерным поведением и манерами», стали жертвами некоего загадочного расстройства [49]. «Они лаяли друг на друга как собаки и мурчали как кошки», — пишет Коттон Мэзер, наблюдавший детей Джона Гудвина в 1689 году. Они летали, как гуси — один раз улетели аж на шесть с лишним метров. Они корчились от ударов невидимых розог, вопили, что их режут ножами и сковывают цепями. Их тела содрогались от боли с такой скоростью, что присутствовавшие не успевали ничего заметить. Из-за судорог дети не могли одеваться и раздеваться. Они сами себя душили. Они травмировали себе челюсти, запястья и шеи. «Они то были глухи, то немы, то слепы, а часто — все это сразу», — пишет Мэзер, и при нормальных обстоятельствах все это отлично описывает процесс взросления. Замечания родителей доводили их до конвульсий, работа по дому не давалась. Они могли натирать тряпкой чистый стол, но грязный стол приводил их в ступор. Домашние неурядицы вызывали приступы хохота. «Но ничто на свете, — сообщает Мэзер, — не расстраивало их так, как религиозное обучение». Любое упоминание Бога или Христа причиняло «невыносимые страдания». Марта Гудвин могла спокойно читать «Оксфордскую книгу шуток», но цепенела, когда ей давали что-нибудь более нравоучительное, либо что-нибудь с именем Мэзера на обложке.
Тем летом тринадцатилетнюю Марту привезли к нему на лечение. Она скакала по дому Мэзеров рысью и галопом на своем «воображаемом коне», свистела во время семейной молитвы и колотила любого, кто пытался молиться при ней, — гостьи хуже и не придумаешь. Сэмюэл Пэррис с женой Элизабет недавно переехали в Салем и обустраивались в поселке, а в Бостоне в это время Марта швыряла книжки в голову Коттона Мэзера. Пэррис не мог не вспомнить о Гудвинах в 1692 году: наверняка он в деталях знал обо всех их семейных перипетиях из широко публикуемых мэзеровских «Памятных знамений колдовства и одержимости». Его пастор, имевший опыт наблюдения за одержимыми детьми, рекомендовал эту книгу. «Волнения, терзания, кривляния, скачки, конвульсии и плевки» в салемском доме были совершенно такими же, только более резко выраженными [50]. Абигейл и Бетти кричали, что их колют тонкими иглами. Кожа их горела. В двухэтажном прицерковном коттедже площадью 14 на 6,5 метра главе семьи негде было укрыться от этих воплей, хорошо слышимых по всей округе: слава богу, их обшитый досками дом с острой крышей стоял вдали от дороги. С ними также жили десятилетний Томас Пэррис и четырехлетняя Сюзанна — не подвергшиеся воздействию и, надо полагать, напуганные до смерти.
Несмотря на двух имевшихся у них рабов, Титубу и Джона, семейство, вероятно, ощущало некую духовную изолированность. Если девочка-пуританка не ходила за скотиной, не работала в саду, не занималась очагом, не пекла и не лила свечей, то должна была вязать, наматывать нитки на катушку или ткать [51]. Какой-нибудь пятилетке могли спокойно поручить простегать одеяло или сесть за прялку. Так что колотящиеся в припадках девочки совершенно выбили из колеи привычную жизнь семьи. Их нельзя было оставить одних. К тому же Пэррис не мог наверху нормально готовиться к проповедям, когда внизу творился такой хаос. А ведь даже самые одаренные из его коллег ежедневно посвящали этому по семь часов лихорадочных бдений. Иные в одиночестве читали и размышляли на тему предстоящей проповеди по целой неделе [52]. В то время как обычный пуританский пастор проводил много времени, размышляя в тишине, Пэррису отныне предстояло пройти испытание другого рода. Ему приходилось работать на фоне душераздирающих криков. Он привык, что посетители приходят послушать его, Пэрриса, — теперь же эту роль присвоили его дочь и племянница.
Во все времена в доме приходского священника тепло принимали посетителей. В феврале того года их образовался явный перебор. Болезнь в XVII веке была публичным событием, необъяснимая болезнь — событием грандиозного масштаба. Любопытствующие и доброжелатели толпились вокруг, как мурашки на их руках. Вой и нелепые корчи девиц тревожили и завораживали. От такого либо в ужасе убегаешь, либо застываешь, не веря своим глазам, либо падаешь в обморок. В комнату больных девочек набивалось по сорок-пятьдесят человек, призванных наблюдать за бесноватыми и пытаться их обуздать. Сосед, который не пришел, становился исключением, и скоро ему это припомнят. Некоторые преодолевали много миль, чтобы сидеть в этой прокуренной, плохо освещенной гостиной с низким потолком. Между молитвами они все вместе пели псалмы, как раньше целыми днями происходило у Гудвинов. Порой увиденное превосходило их ожидания: дети не только издевались над священниками, но и крайне дерзко вели себя с посетителями [53], [54].
Прирожденный составитель списков и приверженец строгого учета, Сэмюэл Пэррис был нетерпелив и требователен, но его нельзя обвинить в поспешности. Из домашнего хаоса кое-какие сигналы бедствия просачивались в его проповеди, которые он читал регулярно, один раз по четвергам и дважды по воскресеньям. Это были весьма заурядные мероприятия: Пэррис был посредственностью, с которой случались исключительно незаурядные вещи. Он особо не отклонялся от своих предыдущих тем, а лишь углублялся в вопросы вознесения Христа и его посредничества между Богом и человеком. Весь февраль Пэррис по большей части предписывал прихожанам пост и молитву. Он советовался с другими священниками. Его двоюродный брат, пастор в поселении Милтон, похоже, особенно помогал: у его дочери в свое время тоже случались подобные припадки. Сэмюэл и Элизабет Пэррис угощали доброжелателей, толпившихся у них дома, сидром с кексами. Они горячо молились. Но когда Пэррису стало невмоготу от «странных поз и нелепых кривляний» [55], от безумных речей, когда стало понятно, что одним Писанием эти противоестественные симптомы не вылечить, он обратился к врачам.
Пройдут годы, и один терапевт с университетским образованием признает медицинскую практику Бостона «убийственно плохой» [56]; на 1692 год же ни одного терапевта с университетским образованием пока не было ни в городке Салем, ни в крошечной соседней деревушке Салем, где корчились в муках и бросались на людей наши девочки. Стандартная аптечка поселенца тогда мало отличалась от аптечки древнего грека и состояла из жучиной крови, лисьего легкого и сушеного дельфиньего сердца [57]. Во многих рецептах фигурировали порошки и мази из улиток. Но их, по крайней мере, легче было добыть, чем, например, рог единорога. Жир жареного ежа закапывали в уши — это считалось «отличным средством от глухоты». Самый знающий колониальный медик прописывал селитру от кори, головной боли и воспалений седалищного нерва. Коттон Мэзер верил, что шестьдесят капель лаванды и кусок имбирного пряника излечивают потерю памяти. От эпилепсии якобы спасал пояс из шкуры волка, а еще жженый помет черной коровы или порошок из лягушачьей печени, принимать пять раз в день. Лекарство от истерии открыли задолго до 1692 года. В Салеме ее лечили кипяченым грудным молоком с кровью из ампутированного кошачьего уха.
В деревне Салем проживало около девяноста семей, и в том январе среди них практиковал один врач. Уильям Григс был новым членом сообщества; недавно он купил ферму примерно в двух с половиной километрах от дома священника [58]. Активный, набожный гражданин Григс неоднократно жаловался, что таверны расположены рядом с молельными домами, и свидетельствовал против граждан, уклонявшихся от богослужений. У Григса имелось девять медицинских текстов. Он умел читать, но не писать. Скорее всего, именно он — или в том числе он, так как Пэррис, очевидно, консультировался с несколькими врачами, — осматривал девочек. Когда-то Григс принадлежал к пастве Пэрриса в Бостоне, эти двое общались с одними и теми же семьями в Салеме. Есть как минимум одна явная причина предположить, что Пэррис обратился к семидесятиоднолетнему Григсу: болезнь следовала за стариком по пятам. Повидавшие мир, гораздо более искушенные доктора в свое время осматривали детей Гудвинов, которые вдруг синели и жаловались, что их поджаривают на невидимых вертелах. Предполагалось, что длительные жестокие припадки насылаются дьяволом. Первый вопрос, который задавала в этих обстоятельствах жертва, был: «Меня что, околдовали?» [59] Врач, поколение назад смотревший одну измученную некоей болезнью девочку из Гротона, сначала диагностировал расстройство желудка [60]. А в следующий свой визит отказался продолжать вести ее случай. Болезнь была от дьявола, и он прописал всему поселению строгий пост. Кто бы ни лечил Абигейл и Бетти, он пришел к такому же заключению. Совершенно ясно, что в воздухе уже витало объяснение: здесь замешана какая-то сверхъестественная сила. «Рука зла» стала диагнозом [61], «быстро подхваченным соседями», — пишет преподобный Хейл, единственный из хроникеров, кто наблюдал за первыми симптомами девочек Пэрриса. Последних, судя по всему, такое медицинское заключение страшно напугало, и самочувствие их ухудшилось.
У Хейла имелся в этой области некоторый опыт: однажды в детстве он присоединился к делегации, пытавшейся добиться признания от ведьмы перед казнью. Обвиненная была соседкой Хейла, первой повешенной в Массачусетсе за колдовство. Всю дорогу на виселицу она отрицала свою вину. После преподобный разговаривал с другой осужденной ведьмой, получившей в 1680 году помилование. Служивший в соседнем Беверли дружелюбный пятидесятишестилетний Хейл считал себя одним из ближайших коллег Пэрриса. Как практически все в Новой Англии того времени, он верил в существование ведьм, а то и в ангелов, единорогов, русалок. Как этот человек воспринял этот диагноз? Увиденное не могло его удивить — скорее он вздохнул с облегчением. «Адские козни», по его выражению, развеивали все сомнения насчет состояния девичьих душ и освобождали его от всякой ответственности. У него были все основания предпочесть сатанинские проказы Божьей каре: одержимость бесами стала бы более серьезной проблемой [62], [63]. Каким бы тревожным ни казался такой диагноз, он все-таки будоражил кровь. Колдовство было дурным знамением, а пуритане такое уважали. Никогда прежде подобного не случалось в доме священника. На белом полотне пасторской репутации вмешательство темных сил смотрелось, по крайней мере, более неприглядным пятном, чем рождение незаконного внука — с этим Коттону Мэзеру предстояло столкнуться в будущем. Итак, Мэзер на десять лет моложе Пэрриса, в 1692 году ему всего двадцать девять. Он уже весьма популярен и, судя по всему, вскоре станет самым известным человеком в Новой Англии — так бывает, когда ты хорош собой, высок, одарен и полон сил, поступаешь в Гарвард в одиннадцать лет, произносишь свою первую проповедь в шестнадцать, а само твое имя напоминает о двух легендах раннего массачусетского духовенства.
Пэррис не пытался избежать метафизической драмы, разыгравшейся в его доме: в любом несчастье можно углядеть проблески божественной любви. В своем кабинете на втором этаже заколдованного дома он продолжал размышлять над 110-м псалмом. Господь «гневается и шлет погибель», — предупреждал он прихожан. Необходимо проявить твердость, «дабы устоять во время кары», и смело биться «с нашими духовными недругами» [64]. До какой-то степени такое объяснение его удовлетворяло. Было в этом что-то странно лестное — именно тебя избрали для борьбы со злом. Неспроста все эти выборочные удары молний, гром среди ясного неба, разбитые вдребезги окна, взорванный камин. «Я тот, кого активно атакует Сатана, — хвастается Мэзер в своем дневнике. — Не оттого ли, что я столько воевал с этим врагом?» [65] Или, как выразился отец юных Гудвинов, с достоинством играя роль человека, взвалившего на себя ужасные невзгоды, опасность — в духовном смысле — приносит свои плоды. «Если мы хотим страданий, то должны их принять, а священные страдания есть милосердие», — заключил набожный каменщик. При этом он отчаянно бился над вопросом, который наверняка не давал покоя и Пэррису: чем я заслужил этот Божий гнев? Дому священника предназначено быть «школой благочестия», а не «берлогой бесов» [66].
О том, как диагноз восприняли в деревне, свидетельствуют последовавшие события. 25 февраля Пэррис с женой под проливным дождем выехали из Салема. Пока их не было, в дом заглянула соседка — вероятно, супруги попросили ее присматривать за Абигейл и Бетти, которые вот уже месяц как бесновались. Мэри Сибли, мать пятерых детей, была на шестом месяце беременности. Она и ее муж-бондарь входили в элиту местного общества и были столпами церкви; Сэмюэла Сибли приглашали, когда требовалось уладить имущественный спор или дать поручительство по векселю. Мэри вполне комфортно чувствовала себя у Пэррисов. Однако скорость, с которой пастор решал возникшую проблему, ее не устраивала, и она провела скрытый эксперимент. Сейчас уже вопрос был не в том, что с девочками, а в том, кто это с ними сделал. Сибли твердо решила поймать преступника. Наученный ею индеец Джон, раб Пэррисов, подмешал мочу девочек в ржаной пирожок, пекшийся на углях. Этим пирожком Сибли угостила домашнего пса [67]. Не очень понятно, как работала контрмагия — ведьму притягивало к животному, на животное переходило заклятие или у ведьмы появлялись ожоги, — но старый английский рецепт точно работал и должен был указать на виновного.
Узнав об этом, Пэррис пришел в бешенство. Контрмагии не место в доме пастора. Он намеревался не выносить сор из избы; на его месте любой бостонский пастор приложил бы неимоверные усилия, чтобы скрыть имена предполагаемых ведьм. Сибли тем временем напрашивалась на еще большие неприятности. В предрассудки она верила больше, чем в религию, а подобное Пэррис порицал: это как «обращаться к дьяволу за помощью, чтобы одолеть дьявола» [68]. Ее вмешательство пробудило некие потусторонние, малопонятные силы; она словно поставила в доме сатанинский молниеуловитель. Через месяц (который был крайне неспокойным) мятущийся пастор вызвал ее в свой кабинет и сурово отчитал. Она, рыдая, униженно просила прощения. Она просто действовала не подумав, «потому что слышала про такие вещи от безграмотных (а может, что и похуже) людей». В дальнейшем она будет осторожнее. Пэррис устроил ей жесткую выволочку, которую решил повторить перед паствой после воскресной проповеди. Этот ее пирожок натворил немало бед. «Через него (судя по всему) дьявол восстал среди нас, — объявил Пэррис перед причастием 27 марта, — и ярость его неистова и ужасна, и, когда все утихнет, знает только Бог». Он заклинал прихожан готовиться к «сатанинским каверзам и уловкам». С кафедры, в темной рясе с белоснежным жестким льняным воротничком, Пэррис призывал собравшихся стать коллективным свидетелем проступка Мэри Сибли и подвергнуть «нашу сестру беспощадному остракизму за то, что она совершила». Может ли он устроить по этому поводу голосование? Все согласились. Повернувшись к беременной на поздних сроках Сибли, Пэррис спросил, будет ли она — если признает свой грех и раскаивается — говорить. Нужно было публичное признание вины. Сибли эмоционально извинилась. Пэррис продолжал: «Братья, если вы удовлетворены, подтвердите это поднятием рук». Все (мужчины) подняли руки, и этот раз оказался последним в 1692 году, когда в деревенском молельном доме царило единодушие.
Дома Пэррис отругал и слуг. И без того накаленная атмосфера, должно быть, возмущенно искрила. Однако в тот момент у священника имелись и более важные дела. Хотя его дочь с племянницей наделали много шума, разобрать, что конкретно они пытались сказать, было невозможно. Дьявольский же пирожок сработал: в течение нескольких следующих дней Бетти и Абигейл назвали имена. Не одна, а три ведьмы окопались в Салеме. Девочки четко их видели. К концу того хмурого февраля — дождь шел стеной всю неделю, затапливал поля и превращал деревню в стремительную грязную реку — эти ведьмы уже рассекали воздух на своих палках.
Деревня Салем существовала во многом благодаря собственному страху попасть в засаду. Старейшее поселение в Массачусетском заливе и едва ли не столица Новой Англии, городок Салем получил свое имя в 1629 году [69]. Славная цветущая полоска земли длиной в полтора километра, дышавшая соленым морем и благоухающими соснами, считалась в колонии одним из самых приятных мест для проживания. Чудесная салемская гавань уступала только бостонской, городок вел оживленную торговлю с Европой и Вест-Индией. Гавань расположилась на полуострове, окруженном бархатными зелеными холмами и пасторальными гротами; здесь быстро развивались рыбный промысел и судостроение. Когда на английский престол в 1685 году взошел новый король, событие шумно отмечали не только в Бостоне, но и в Салеме — это был второй из двух массачусетских городов с населением больше двух тысяч человек. Более тихий и менее открытый, Салем при этом ничуть не уступал Бостону в изысканности: он мог похвастаться своими крашеными остроконечными многоэтажными домами и несколькими недавно сколоченными состояниями.
Уже в 1640 году фермеры начали продвигаться на север и запад, уходили от процветающего порта за живописные холмы в поисках пригодных для возделывания земель. Их разбросанное по окрестностям поселение стало деревней Салем (сегодня — Данверс). Вскоре предприимчивые жители деревни (в округе их называли салемскими фермерами) начали лоббировать создание собственных управленческих структур. И хотя их семьям, конечно, не нравилось топать по пять-десять миль в сильный снегопад, чтобы посетить собрание в молельне, дело было не только в этом. В 1667 году деревенские жители направили петицию в законодательное собрание Бостона. Стоит ли им таскаться в город Салем ради участия в военном патруле? Это жутко далеко и особенно тяжко в темноте, «в дикой местности, которая так плохо расчищена и кое-где совершенно непроходима» [70]. Многие жили в полутора километрах от ближайших соседей. Дальние походы фермеров вселяли ужас в сердца их жен, «особенно если учесть, какие страшные происшествия случались в подобных ситуациях раньше в этой местности, с участием индейцев (и не только), ночью, когда мужья оставляли женщин одних».
Более того, продолжали они с неопровержимой логикой, не богохульство ли — так далеко идти с оружием, чтобы патрулировать город в мирное время? Городские старейшины утверждали, что опасность никуда не делась (власть имущие не желали уменьшать ни налогооблагаемую базу, ни территорию). Но разве не более уязвимы фермеры — в сельской местности с пятью десятками изолированных хозяйств, в то время еще даже без молельного дома, — чем горожане, живущие компактно и более обеспеченно в Салеме, где больше народу и немало прекрасных домов? Наверняка город может обеспечить себе патрулирование без помощи деревни. Горожане возразили, что совсем недавно французский корабль смог незамеченным войти в порт ночью. И как же такое возможно? — смеялись в ответ деревенские, отлично знавшие, что безобидное судно заметили задолго до сумерек. Мы живем на линии фронта. Так не разумнее ли городским приезжать патрулировать нас, чем наоборот? В итоге фермеры одержали верх, хотя не обошлось без штрафа Натаниэлю Патнэму, одному из самых богатых людей в деревне, за «оскорбительное поведение и нападки» на власти города.
Страсти снова разгорелись спустя несколько лет, когда город Салем решил построить себе более просторный молельный дом. Мы не будем за это платить, объявили непреклонные деревенские, пока вы не поможете нам построить собственную молельню. Они снова и снова требовали себе независимый приход, и добились своего в самом конце 1672 года. Город предоставил им подержанную кафедру, скамью со спинкой и молельные скамейки — вероятно, из потрескавшихся дубовых досок. Два Салема очень друг друга раздражали: деревня злилась, потому что была обязана обращаться к городу для решения правовых вопросов, и решались они крайне туго; город был недоволен, потому что деревенские бесконечно между собой конфликтовали и не умели сами улаживать разногласия. В то же время у города никак не получалось избавиться от назойливого интереса фермеров к делам их церкви. Почему нельзя держать свою неприязнь при себе? В общем, складывалось ощущение, что они готовы были друг друга уничтожить. Вскоре после приезда семейства Пэррис городские лидеры фактически посоветовали деревенским оставить их в покое.
Официально деревня наняла первого своего пастора в 1672 году. Прибывший сюда через шестнадцать лет Сэмюэль Пэррис был уже четвертым. Каждый из четырех оказался с разной степенью неловкости, но одинаково глубоко вовлечен в события 1692 года, когда их пути пересеклись. Один буквально жил на слушаниях, второй их записывал, третий вернулся в образе могущественного мага. Недавний выпускник Гарварда Джеймс Бэйли прочитал свою первую салемскую проповедь в октябре 1671 года. Ему едва исполнилось двадцать два, он всего несколько недель как женился. Местное сообщество отнеслось к нему по-разному. Новый пастор был неопытен, агрессивен, невнимателен и воображал, что должность от него уже никуда не денется. Одна женщина, гостившая у него три недели, клялась в суде, что ни разу не слышала, чтобы Бэйли читал или обсуждал с семьей какую-нибудь часть Писания. Его личная жизнь, без сомнений, была весьма напряженной. Прихожане, обещавшие построить ему жилье, не выполнили обещания. Пастор построил дом самостоятельно, где они с молодой женой, судя по всему, до 1677 года потеряли двух дочерей. Мнения общества на его счет разделились. Обстановка так накалилась, что прихожане не могли договориться даже о том, кто будет принимать окончательное решение насчет его судьбы. Тридцать девять членов церковной общины поддержали Бэйли. Шестнадцать высказались против, и среди них несколько самых влиятельных мужчин.
Бэйли достаточно хорошо вписались в местный колорит. С ними приехала и двенадцатилетняя сестра жены пастора, которая через пять лет выйдет замуж и вольется в доблестный клан Патнэмов. Ее мужем станет Томас Патнэм — младший, сын богатейшего человека в деревне и племянник престарелого Натаниэля. Вообще Салем в немалой мере состоял из Патнэмов, с ними посредством браков были связаны и Мэри Сибли, импульсивная пекарша, и терапевт Уильям Григс. Две молодые пары — супруги Бэйли и Томас Патнэм с женой — очень сдружились. Что не помешало другим Патнэмам нападать на Бэйли, а может быть, даже подстегивало их. Сэмюэл Пэррис знал, о чем говорил, когда одним воскресным днем 1692 года, как раз перед начавшимся в его доме кошмаром, вещал с кафедры о том, что «большая ненависть нередко исходит от ближайшего окружения» [71]. И цитировал из Марка, 13: 12: «Предаст же брат брата на смерть, и отец — сына; и восстанут дети на родителей и умертвят их».
Салемские фермеры несли свои горести и непримиримые обиды в городскую церковь, а иногда доходили и до суда. В то же время Бэйли подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации — и выиграл дело [72]. Суд постановил оставить его в должности, однако привести решение в исполнение не смог. И хотя большинство членов конгрегации продолжали поддерживать молодого пастора, к концу 1679 года он понял, что будущего в Салеме у него нет, и переехал на другой конец деревни. Через год специально сформированный комитет назначил его преемника. Джордж Берроуз, красивый, миниатюрный и темноволосый, хотя и был старше, но в Гарварде, где окончил магистратуру, учился несколько хуже Бэйли. Будучи внуком знаменитого священника, он успел послужить в нескольких приграничных приходах, а в самом последнем из них героически отражал нападение индейцев. Ему было двадцать восемь.
И снова главную роль сыграли Патнэмы. Берроуз с семьей жил в их доме большую часть 1681 года и переехал в пасторский дом (где в будущем обоснуются Пэррисы) только осенью. Хорошо зная, с какими противоречиями и разочарованиями сталкиваются новоанглийские приходы, Берроуз добавил в свой контракт пункт об арбитраже. Там говорилось, что «в случае возникновения любых разногласий обе стороны должны апеллировать к третьей стороне, дабы уладить спор мирным путем» [73]. И все равно ему не удалось избежать суда: такое ощущение, что одна церковная группировка просто обязана была портить жизнь другой. С самого начала Берроузу не выплачивали жалованье. Когда его молодая жена умерла вскоре после переезда в только что построенный священнический дом, ему нечем было заплатить за похороны. 10 апреля 1683 года жители деревни пожаловались в окружном суде, что Берроуз уже месяц не проповедовал. Он спешно паковал вещи — ожидал, что придется уехать прямо на той же неделе, — но отказывался объясняться (возможно, он не желал говорить, потому что Джон Патнэм сначала одолжил ему денег, а потом, когда Берроуз не смог их вернуть, начал угрожать, что арестует его за долги [74]. Деревня оказывалась виновной в обоих случаях — прежде всего потому, что не платила своему пастору). Берроуз продолжал отмалчиваться, предпочитая не связываться со склочной общиной. Я пришел к тебе, чтобы спросить, объяснял один настойчивый гончар, как деревня может процветать, «когда брат против брата и сосед против соседа, и все спорят и сражаются друг с другом?» [75] Наш пастор, напомнил ему гончар, должен быть нашим рупором и защитником, светочем разума для нас. Берроуз же вовсе не стремился устраивать беседы или охлаждать деревенские страсти. Он проповедовал, как считал нужным. За его здравую, хотя и грубую критику суд сделал гончару внушение. Той же весной Берроуз уехал.
В феврале 1684 года местный церковный комитет пригласил в Салем преподобного Деодата Лоусона. В отличие от своих предшественников Лоусон родился в Британии. Он прибыл в колонию пятью годами ранее из Норфолка, где его отец был пастором с кембриджским дипломом. С рождения обреченный стать священником — Деодат, говорил он, значит «отданный Богу» [76], — Лоусон где-то получил формальное образование, хотя и без степени. Он запросто писал на греческом и латыни, причем изысканным почерком. Помогли и престижные семейные связи в Лондоне, где до эмиграции, в начале 1670-х, он успел недолго поработать учеником процветающего торговца скобяным товаром и — еще меньше — королевским врачом. Отслужив меньше двух из положенных семи лет в пасторате на Мартас-Винъярд, в 1682 году Лоусон вернулся к мирским занятиям в Бостоне и поселился с женой и двумя маленькими детьми в Салеме. Тогда ему было чуть за тридцать. Третий ребенок, дочь, родилась и умерла в деревне, там же неожиданно скончалась и жена. Питая слабость к драме и формальному стилю речи, он обладал чуткостью к тонкостям смыслов и мог быть прагматичным — восхвалял семейную молитву ровно такой продолжительности, чтобы она не оказывалась затянутой. «Господь не прельщается многословием», — заявлял Лоусон, хотя лучше бы он считал иначе: его хроники — единственное описание тех событий, оставленное нам их очевидцем.
Жители деревни договорились поставлять новому пастору дрова, но в итоге заплатили ему и порекомендовали добывать себе горючее самостоятельно. Если это его и раздосадовало, Лоусон не оставил неприязненных комментариев. Ему нравилось делать приятное. Через два года службы вопрос о его будущем расколол общину. Если его посвятить в сан, город наконец-то откроет у них заветную собственную церковь, а заодно и откажется от земли, на которой стоит пасторский дом, — извечного камня преткновения Новой Англии. Патнэмы поддерживали посвящение, некоторые другие семьи ему противились из теологических соображений — Лоусон в каком-то смысле их разочаровал — или просто из-за того, что он был человеком Патнэмов. И снова фермеры представили дело на суд менее горячих голов из города Салема, власти которого пришли в ужас от их «злобных высказываний», «глубокой предубежденности и несомненной враждебности» [77]. Почему люди так старались испортить жизнь своим ближним? Именно в этот момент отцы города еще раз призвали деревенских не тревожить их бесконечными взаимными обвинениями. «Если вам нравится беспричинно беспокоиться, просим хотя бы не беспокоить нас», — заявили они. Лоусон решил уехать, пока отношения окончательно не испортились. Сами фермеры устыдились своего поведения и решили подчистить журнал записей. В 1687 году Томас Патнэм переписал журнал — из него исчезло десятилетие распрей вокруг Берроуза и Бэйли, — посчитав, что эти ядовитые заметки могут навредить деревне в будущем.
Без собственной церкви и гражданской власти деревня была беспомощна, когда дело касалось разрешения общинных разногласий. С проблемами в церковной политике сталкивались далеко не в одном Салеме. Считалось, что отношения между пастором и паствой должны походить на супружеские [78]. На практике, разумеется, идиллия перемежалась вспышками ссор. Пуританин посвящал жизнь наблюдению и вопрошанию и пастора своего держал в цепких объятиях. Многие священники добавляли в свои контракты пункт, дающий им возможность сбежать. Инкриз Мэзер, самый видный представитель новоанглийского духовенства, знаменитый отец Коттона, вытребовал себе право покинуть бостонский приход, если Господь позовет его в другое место, если ему будут недостаточно платить или если он пострадает от «травли» собственных прихожан. Найти работу было непросто, непросто было и удержаться на ней: пасторов увольняли, посвящения откладывали. Один терпеливый священник ждал двадцать семь лет. На посвящении в 1720 году недовольные начали поливать участников церемонии водой с хоров и швыряться предметами. Ссоры вспыхивали, даже когда паства любила своего пастыря. За два года до того вечера, когда Джон Хейл из Беверли вел ночное бдение с Пэррисами в их более просторном и лучше обставленном, чем его, доме, ему было приказано ехать капелланом в Квебек в составе экспедиции против индейцев и французов. Паства возражала, и дело дошло до суда. В итоге Хейл все-таки поплыл с ополченцами.
Жалованье пастора колебалось от шестидесяти до ста фунтов в год: этого было более чем достаточно, и такая сумма ставила духовного отца в один ряд с самыми обеспеченными из его прихожан — если, конечно, он ее получал. Добровольные взносы не так давно сменились на обязательные, что многие воспринимали в штыки (из них служители церкви составляли меньшинство). Констебль, собиравший налоги, сбежал от постоянных насмешек и периодических побоев, а заодно от топоров и ушатов кипящей воды. Салемский констебль имел болезненное столкновение с временным заместителем [79], [80], [81]. Нежелание народа поддерживать священнослужителей сильно последних огорчало [82]: пасторы, гремел Мэзер в 1693 году, чувствуют себя обворованными и голодающими. Во время затянувшейся кампании по выбиванию оплаты своего труда топсфилдский пастор объявил на городском собрании о своей надежде на то, что пасторат сгорит дотла вместе с некоторыми прихожанами. Священники хорошо знали, кто из них сколько получает, и не могли принимать размер оплаты на свой счет как личное оскорбление. Коттон Мэзер высчитал свой ежедневный доход. Ожидания с обеих сторон казались безосновательно завышенными. В потоке взаимных обвинений было уже не разобрать, что началось раньше: сложности со сбором пасторской зарплаты или жалобы в духе «я не получаю от проповедника того, за что плачу». Что одним казалось неблагодарностью, другие считали вымогательством.
Неутомимый салемский гончар, ранее пристававший с вопросами к Берроузу, сокрушался: пастор, мол, говорит с кафедры что пожелает, а община должна за это платить. Обратное также было справедливо. Прихожане отдавали кто что мог: бочонок устриц, бушель гороха, фунт льна, улей с пчелами [83], [84] — либо же работали на пастора, например, сажали у него бобы или забивали скот. Это основательно размывало границы иерархии, которые для некоторых были невероятно важны. «Вы, сэр, проповедник, который здесь служит?» — спрашивал приезжий в соседнем городке Роули. «Я, сэр, проповедник, которому здесь служат», — следовал ответ [85]. Коль скоро прихожане вставали, когда пастор входил в молельный дом, где у его семьи имелась собственная скамья, коль скоро фермеры побаивались своего образованного проповедника, оставалось неясным, кто на кого работает. Как выразился один современный ученый, невозможно было определить: пастор — он для своей паствы служитель, родственная душа или представитель «какой-то туманной и далекой церковнической галактики»? [86].
Протестуя против варварского морения священнослужителей голодом, Коттон Мэзер все же должен был признать: в свое ходатайство об их содержании он мастерски вплел некоторые суждения, «которые могли представить пасторов более достойными людьми, чем, возможно, кое-кто из них являлся» [87]. Даже при избытке духовников огромное количество проповедей оставались посредственными. Хватало и спящих прихожан на церковных скамьях. Пуританин был чрезвычайно чуток, невероятно внимателен, невротично бдителен в том, что касалось состояния его души, — однако не обязательно оставался таковым в церкви. Некоторые будут «сидеть и спать на самой лучшей проповеди в мире», — клокотал Инкриз Мэзер [88]. Без сомнений, кое-кто дремал и во время этого его выступления в 1682 году (справедливости ради отметим, что у новоанглийского фермера, вероятно, просто не было лучшей возможности поспать). Мэри Роулендсон, чей рассказ о пребывании в индейском плену в 1675 году наделал много шума по всей Новой Англии, периодически клевала носом во время проповедей собственного мужа.
Через два месяца после вступления в должность Сэмюэл Пэррис жаловался на вялость своих прихожан, не демонстрировавших должных чувств. Они «без толку перешептывались, клевали носом и всхрапывали» [89]. Отметив «бессмысленно блуждающие взгляды», он не упомянул, однако, об ореховой скорлупе, сыпавшейся с хоров, о паясничанье на лестницах, о плевках, смехе, флирте и вырезанных на скамьях надписях; о тычках локтями под ребра, пинках коленом под зад и периодических ударах в нос; одна женщина как-то уселась на колени соседа, который отказался подвинуться на скамье. Новоанглийский молельный дом был местом благопристойным, но оживленным. Той весной Марта Кэрриер грубо толкнула посреди псалма двенадцатилетнюю девочку. Именно в церкви вы узнавали, почему у вашей сестры глаза распухли от слез и что пойман пират, а в Андовере убили льва. Служба, главное событие недели, была средоточием социальной и духовной жизни. Будучи единственным средством регулярного общения, она выполняла также просветительскую и журналистскую функции. В среднем за жизнь прихожанин в Новой Англии прослушивал около пятнадцати тысяч часов проповедей [90]. Редко (если когда-либо вообще) случалось, чтобы столько людей буквально думали в унисон. Многие делали записи. Многие потом долго обсуждали услышанные наставления. Отголоски произнесенного Пэррисом с кафедры еще несколько недель витали в воздухе. Его слушали. Но необязательно так жадно, чтобы не заметить метку дьявола под языком у зевнувшего на соседней лавке соседа.
Сэмюэл Пэррис впервые проповедовал в Салеме в ноябре 1689 года. Приехал в деревню он с весьма скромным пасторским опытом [91]. Он родился в Англии в 1653 году, а большую часть юности провел на Барбадосе: Пэррисы были процветающими плантаторами. Хотя когда-то, возможно, он и выбрал пасторство своей профессией — Сэмюэл несколько лет посещал Гарвард, но бросил учебу в 1673 году из-за смерти отца, — его корни лежали в предпринимательстве. В двадцать лет унаследовав плантацию с семьюдесятью рабами, он вернулся на Барбадос. Там он с трудом справлялся с поместьем почти семьдесят гектаров и щедрым дядиным наследством. Через несколько лет он продал имущество себе в убыток, а к 1680 году появился в Бостоне, теперь уже в качестве вест-индского торговца. Пэррис женился. Поначалу дела шли хорошо, однако, несмотря на более благоприятный экономический климат Массачусетса, нежели барбадосский, карьера Пэрриса терпела неудачу за неудачей. Целый год он провел в судебных тяжбах по поводу сомнительного кредита. В общем, в мире финансов он преуспел не больше, чем в торговле. Возможности появлялись постоянно. Он упустил их все.
В 1688 году, когда на него наткнулась салемская делегация, Пэррис был членом первой Бостонской церкви и отцом троих детей. Неясно, как и почему он пришел к пасторству: обычно священнослужители оставляли кафедру ради мирских дел, не наоборот. Раньше он считал себя торговцем и джентльменом, заслуживающим личного миниатюрного портрета. Почти красавчик, с резкими, острыми чертами, широко расставленными глазами, черными волосами до плеч и чувственным ртом, Пэррис производил впечатление. Он единственный житель деревни, лицо которого нам известно. Его старший брат служил пастором в Англии, дядя проповедовал в первой Бостонской церкви. Сэмюэл сам успел немного послужить в удаленной массачусетской деревеньке. Он выступал на неформальных собраниях верующих и близко общался с некоторыми местными священнослужителями, в том числе со своим двоюродным братом из Милтона. Получив предложение ехать в Салем, Пэррис колебался. «Работа предстояла огромная», — писал он [92]. Он позже сообщит фермерам о своем решении. У него имелись все основания сомневаться, даже если он ничего и не знал о происходившем в Салеме (что маловероятно). Его непосредственный предшественник Деодат Лоусон принадлежал к той же бостонской конгрегации. У них были общие друзья. Долгие пляски вокруг Пэрриса, незаинтересованного кандидата без степени бакалавра, в то время как иные выпускники-магистры Гарварда не могли найти себе кафедру, многое говорили и о Салеме, и о его будущем пасторе. Ни одна из сторон не горела желанием сотрудничать.
Начавшиеся в итоге переговоры шли долго и трудно. Несмотря на несостоятельность в бизнесе, переговоры Пэррис обожал. В свои тридцать он был более стреляным воробьем, чем все предшествовавшие ему пасторы. Он больше путешествовал, однако почти не имел опыта жизни в глуши, которую окрестил «бедной маленькой деревушкой» [93]. Пуританский Бостон [94] шумел всеми своими восемью тысячами жителей, пестрел ленточками и оборками, шелестел серебристыми кружевными накидками и алыми юбками — в общем, ничем не походил на сельский Салем. Тут палитра была совершенно иной: приглушенные оттенки зеленого, грязно-лилового и насыщенного красновато-коричневого. И оба они живо контрастировали с Барбадосом. Деревня сделала лучшее предложение, какое только могла сделать, оно полностью отвечало ситуации на рынке. Пэррис, опытный торговец, не впечатлился. Назвав условия, предложенные салемской стороной, «скорее разочаровывающими, чем воодушевляющими» [95], он, в свою очередь, выдвинул восемь собственных. Самые непростые из них касались дров. Если борьба священника за уважительное к себе отношение плавно перетекала в дискуссию о заработной плате, то борьба за дрова сразу поджигала фитиль. Их доставка ложилась на общину тяжелым грузом, и каждый раз, когда она срывалась или партия топлива оказывалась некачественной, в этом улавливали затаенный намек. «Разве эта древесина не слишком мягкая?» — вопрошал пастор, пока фермер разгружал свою телегу. «А разве мы порой не получаем слишком мягкие проповеди?» — парировал тот [96].
Пэррис хотел, чтобы его обеспечивали дровами. Деревенские же снова предпочитали вносить средства в фонд, откуда он сможет их брать. У них не практиковалось общинное пользование землей, доставать древесину было нелегко. Уже к 1692 году это представляло постоянную всеобъемлющую проблему для Новой Англии. Рубка деревьев, использование и экспорт древесины жестко регулировались. В общем, из деревни летели предложения и контрпредложения, отношения портились. Упрямый мужчина с хрупким эго, Пэррис не соглашался на создание фонда. Цены на дрова могли взлететь. Дискуссия длилась почти весь 1689 год — именно в тот год колония скинула англиканского губернатора, назначенного короной, за чем последовали серьезные беспорядки, участившиеся стычки с индейцами и публикация «Памятных знамений» Мэзера, куда входил рассказ об околдованных Гудвинах. «После длительных уговоров, — вспоминал позже Пэррис, — я сказал, что попробую поработать у них один год, и на этом дискуссия подошла к концу» [97].
Переговоры еще продолжались, а Пэррис с женой Элизабет, тремя детьми и рабами уже въехали в пасторский дом на деревенской развязке. На восьмидесяти сотках стоял удобный двухэтажный коттедж с гигантским дымоходом и четырьмя каминами. Пэррис соорудил просторную пристройку позади четырех побеленных комнат; детей, видимо, поселили наверху, как и прислугу. Через полтора года умер молодой темнокожий раб, переехавший вместе с ними. А потом, в один ветреный вторник в середине ноября, свершилось событие исключительной важности как для деревни, так и для ее нового пастора: Сэмюэла Пэрриса посвятили в должность в присутствии нескольких соседних священнослужителей, среди которых был Джон Хейл и два преподобных из города Салема. Пэррис говорил об Иисусе Навине и новой эре. С этим посвящением у деревни теперь появилась возможность совершать важнейший обряд причастия. Новый пастор, признавший проблемы селян, успокоил их. Годы прозябания во мраке закончились. Господь развеял туман своих упреков, и фермеры отныне могут двигаться вперед без волнений и сомнений. В это заявление Пэррис включил и себя. Здесь очень много работы, но он будет усердно ее выполнять. В соответствии с традицией он предупредил, что будет сердечен с одними, но суров с другими. «Вы должны нести мне свою любовь, много любви», — инструктировал Пэррис своих прихожан. В менее ортодоксальной манере он сделал акцент на поклонении собственной персоне: «Конечно, должно любить всякого пастора Христова, однако меня вам следует любить больше (если получится, несмотря на огромную разницу между мной и другими)» [98].
У кого-то получилось, у кого-то нет. Тут он им не помогал. Множество поселений вставляли палки в колеса множеству священников, но мало кто из последних был так суров со своей паствой, как Пэррис. Он мог быть нудным, упрямым, угрюмым. Если имелись какие-то стандарты, он действовал в строгом соответствии с ними. Кучу энергии Пэррис вкладывал в мелочи, имел страсть к порядку, приводившую к хаосу. Когда у жены портного Иезекиля Чивера в начале 1690 года начались роды, Чивер без разрешения схватил лошадь из соседского стойла, видимо, чтобы съездить за повитухой. Сосед подал протест. Дело дошло до Пэрриса, который провел целых три собрания по этому поводу. Он потребовал принести публичное извинение, что Чивер с готовностью сделал. Пэррис посчитал его «незначительным» и заставил новоиспеченного отца еще раз извиниться перед прихожанами в молельне на следующей неделе. Он был из числа людей, которые считают, что только они способны адекватно справиться с задачей, а потом жалуются, что никто им не помог. Он был мелочен, в отличие от престарелого пастора города Салема, который сопровождал Пэрриса во вступлении в сан, — тот, как говорили, «ронял утешения, словно капли росы» [99].
В каждую проповедь Пэррис пытался впихнуть слишком много, а в итоге мог выжать предмет проповеди досуха и совершенно измотать слушателей. Он знал, что частенько не оправдывал ожиданий, но отказывался это признавать. Оловянные кружки на алтаре такие уродливые. Нельзя ли их заменить? (У более богатых сообществ имелась серебряная алтарная посуда.) Он привез с собой несколько вещей, нечасто встречавшихся в деревенском Салеме: собственную серебряную кружку, письменный стол и зеркало. Он мог похвастаться личным гербом — редкостью у массачусетских пасторов. Пэррис взрослел на Барбадосе, в богатейшей колонии английской Америки, находившейся тогда на пике своего могущества. Он повидал прекрасные дома и пышное гостеприимство. Салем выглядел убого и, с учетом численности семейного поместья на Барбадосе, наверняка казался ему слишком безлюдным. Очень скоро новый пастор попытался присвоить себе дом и участок. Маневр был не то чтобы неуместным, но уж слишком поспешным: поселения делали подобные подарки своим пасторам лишь после долгой службы. Жители деревни не согласились [100].
Не прошло и года с его посвящения, а Пэррис уже составил список жалоб, который решил зачитать своим прихожанам. Дважды поднимался шум, который не дал ему закончить. В итоге он излил свою скорбь на особой встрече в приемной пастората. Ни дом, ни изгородь, ни пастбище, ни жалованье, ни поставки дров — ничто не удовлетворяло потребностям Сэмюэла Пэрриса. Построенный восемь лет назад коттедж требовал немедленного ремонта. Изгородь сгнила и грозила вот-вот упасть. Густой кустарник заполонил две трети пастбища. Пастор не мог существовать без жалованья. Разговор о дровах он оставил на десерт: после нечеловеческих усилий с его стороны наконец пришли две маленькие партии. На дворе стоял конец октября. Без дров, предупредил он паству, не будет им никакого Слова Божия. «Я не могу проповедовать без серьезной подготовки. Я не могу готовиться без тепла. Я не могу спокойно жить без изучения Писания», — объяснил Пэррис [101]. Он потребовал быстрого рассмотрения каждого из вопросов, а также «человеколюбивого христианского ответа в письменной форме». Деревенский воздух зазвенел от ледяной обиды, напряженного ожидания и отчаяния, и домашние пастора не могли не почувствовать этого на себе. Семья принимала рассерженных посетителей, слышала разговоры на повышенных тонах и яростный топот ботинок. Пастор нашел своих прихожан в высшей степени непочтительными людьми. К написанной петиции он добавил строчку в своем фирменном стиле — надменной жалости к себе: «Разрешите заметить, что если вы продолжите упираться, то ваше поведение доведет меня либо до могилы, либо до какого-нибудь другого места». Он догадывался, что прихожане были добрее к его предшественникам. Никто из последних так не оконфузился. Никто из них, вероятно, не был так восприимчив к холоду, как он, почти десять лет проживший в тропиках.
Жители деревни не раз встречались, чтобы обсудить затруднительное положение своего пастора. Жалованье ему не выплачивали уже несколько месяцев; уже осенью 1690 года зашла речь о его смещении. Специальный комитет, собиравший средства для оплаты его труда, в конце 1691 года проголосовал против. К тому же у него закончились дрова. В проповеди Пэрриса начала пробираться горечь. В его доме тем временем становилось все холоднее и холоднее, и он объявлял об этом с кафедры. Если бы не заезжий дьякон из города, в последний момент организовавший доставку, то он бы просто замерз, проинформировал прихожан пастор 8 октября. Он не стал призывать их сжалиться над его семьей, остро осознававшей проблемы кормильца и тоже наверняка дрожавшей под ударами разгулявшейся непогоды: ноябрь принес бешеные снегопады и дикие ветра. Пэррис сообщил членам комитета, навестившим его в начале месяца, что они должны заботиться о нем лучше, чем о других. 18 ноября он, выбравшись из сугроба, пожаловался, что «дров ему едва хватит до завтра» [102]. Как назло, зима в тот год выдалась на редкость морозной. Замерзал и хлеб на алтарных тарелках, и чернила в ручках, и сажа в камине. Дымоход плевался ледяной пылью. Пэррис читал проповедь, а в ответ хрипло кашляли, нестройно шмыгали носами и шаркали серьезно обмороженными ногами. 3 января 1692 года, к всеобщему облегчению, он сам оборвал проповедь. Было попросту слишком холодно, чтобы продолжать [103].
Даже без деревенских дрязг у Пэрриса имелись все основания жаловаться. Работа была изматывающей, и он был не особенно к ней готов. Пришлось принять на себя сразу несколько обязанностей. Пастор «маленькой деревеньки» наставлял паству, потом стриг свою кобылу, после чего шел чинить садовую изгородь, которую бросал, чтобы председательствовать на церковном собрании. Пэррис вполне мог повесить у себя в доме карту мира, мог прослыть деревенским интеллектуалом, переводившим в Гарварде Ветхий Завет на иврит и греческий, но в той же степени он посвящал себя прополке репы, сбраживанию сидра и охоте на белок. «Так странно заниматься пасторской службой и одновременно управлять фермой», — причитал один массачусетский священник [104]. Пэррис, в былые времена торговавший недвижимостью, а нынче вынужденный распахивать собственное поле, должно быть, чувствовал то же самое. Сама по себе пасторская служба выматывала и тянулась бесконечно. «Из всех церквей под небесами ни одна не требует от пастора такого служебного разнообразия, как церковь Новой Англии», — сетовал Коттон Мэзер, которого не прельщала идея пасторских посещений прихожан. Пэррис же призывал прихожан требовать религиозного инструктажа на дому. Он был писарем, судьей, советником, поверенным. Он держал посты и проводил крещения, организовывал лекции и вел переговоры с соседними конгрегациями. Он утешал больных и скорбящих родственников погибших — за лето 1689 года четыре семьи потеряли сыновей в стычках с индейцами. Пастор в Марблхеде подсчитал, что за восемь лет у него ни разу не выдалось более половины выходного подряд. Поэтому хватало причин выбиться из сил даже при благоприятных обстоятельствах, которых у Пэрриса не имелось. Заведомо настроенный на конфронтацию, он все чаще без устали говорил о ранах Христовых. Задолго до безжалостной зимы 1692 года он, как чувствовалось, был лучше подготовлен к катастрофе, чем к пасторской службе.
Помимо всего, приходилось еще заботиться о духовном просвещении собственной семьи — именно этот пункт в свое время сильно навредил Бэйли. Утром и вечером Пэррис молился и читал отрывки из Писания своим домашним, включая рабов: их души тоже были на его попечении. Он собирал семью перед очагом, вместе они пели псалмы и раз в неделю устраивали катехизис. Дети многих священников субботними вечерами слышали репетицию завтрашней проповеди, воскресенье заканчивалось разбором прошедшей службы. Упор Пэррис делал на христианские обязанности. Человек рождается во грехе и начинает паломничество во имя прощения; идет духовная битва, битва святых с проклятыми; церковные таинства превыше всего. Родитель-пуританин был занят в течение всего дня: Мэзер, например, бесконечно придумывал для своих сыновей и дочерей какие-то упражнения. Пэррис, будучи не настолько творчески одаренным, больше внимания уделял образованию детей, которое не отделялось от их духовного благополучия. Задолго до того, как у девочек появились первые тревожные симптомы, за их душами велся постоянный контроль с ежедневным досмотром: состояние новоанглийской молодежи, похоже, вызывало у взрослых серьезную озабоченность. Пастор искренне надеялся, что его паства была не менее бдительной, и боялся, что это не так. Он без конца твердил, что семейный уклад разваливается, риторически вопрошал: что происходит сегодня с детьми? На собрании кембриджских пасторов Пэррис даже призвал всех задуматься, что можно по этому поводу сделать [105].
Будучи на пять лет старше мужа, Элизабет Пэррис, еще до замужества состоявшая в первой Бостонской церкви и на своей салемской церковной скамье окруженная пятью женщинами с фамилией Патнэм, разделяла с Сэмюэлем эту ношу. От нее требовалось неуклонно проявлять преданность долгу и сострадание к соседям. После неприятностей 1692 года дел прибавилось; в любых обстоятельствах она читала и обсуждала Библию с приходскими детьми — ответственность за их обучение лежала на ней. Базовая грамотность входила в число обязательных требований для Новой Англии, закрепленных в законодательном акте 1647 года об основании школ, которому Массачусетс был обязан своими успехами в сфере образования. У этого закона имелась и защитная функция. Считалось, что «одна из главных целей „старого искусителя“, Сатаны, — держать человека подальше от Писания» [106]. Поэтому самое главное — перехитрить мерзавца, не попасться в его демонические сети, ведь даже ледяной новоанглийской зимой можно почувствовать на щеке его горячее дыхание. Житель города Салема, не учивший собственных детей читать, обнаруживал на двери молельни объявление, в котором предлагалось отдать его детей в услужение тому, кто станет их учить [107]. Базовая грамотность была условием необходимым, но вряд ли достаточным. Один будущий священник трижды от начала до конца прочитал Библию, когда ему еще не исполнилось и шести лет [108]. Многие до совершеннолетия делали по двенадцать кругов и могли наизусть цитировать длинные отрывки из Писания.
Идеальная пуританская жена держится в тени, и Элизабет Пэррис тому пример: нам мало что от нее осталось, помимо инициалов на почерневшей оловянной тарелке для сбора пожертвований. О Пэррисе-отце известно несколько больше. Он внушал прихожанам: «Мудрые родители не потерпят, чтобы дети играли с едой» [109] — и заявлял, что благоразумная мать пользуется «розгой и порицанием». Возможно, он был более свиреп за кафедрой, чем за обеденным столом, однако сложно представить, чтобы его дети когда-либо оказывались правы в споре со своим бескомпромиссным, непрощающим отцом, если и прихожанам это редко удавалось. Пэррис никогда не игнорировал чужие промахи, срывал замки с запретных тем и никогда не останавливался на одном аргументе, если имел в запасе три. Еще один намек на его родительский стиль — сокращенная январская проповедь. Пока жители деревни пытались сгибать и разгибать окоченевшие пальцы на руках и ногах, пока ставни бились на адском ветру, Пэррис наполнял сумрачную молельню поучениями о страданиях, которые якобы учат бдительности, усмиряют и направляют. Господь посылает страдания, вещал пастор, как родители, которые, «когда видят, что дети слишком смелы с огнем или водой, поднесут их близко к огню или к воде, словно бы желая сжечь их или утопить» [110]. Естественно, ни один родитель не будет делать ничего подобного. Он лишь стремится «внушить им благоговение и страх, чтобы они в будущем держались от опасностей подальше» [111].
Промерзший пасторский дом скоро с головой окунется в благоговение и страх. И не он один. В то самое время, когда февральский «ведьмин пирожок» указал Абигейл и Бетти на их мучительниц, двенадцатилетняя Энн Патнэм, дочь Томаса Патнэма, верного сторонника Пэрриса, вдруг начала содрогаться и задыхаться. А в пяти километрах от нее забилась в конвульсиях Элизабет Хаббард, шестнадцатилетняя племянница доктора Григса. Когда она возвращалась домой из поездки, за ней по февральскому снегу следовало какое-то существо. Теперь она осознала, что это был никакой не волк. Все четыре девочки точно знали, кто бил их и щипал. До конца 1692 года Сэмюэл Пэррис больше ни разу не упоминал о дровах.
[60] Samuel Willard. Samuel Willard’s Account of the Strange Case of Elizabeth Knapp in Groton // Mather Papers, MHS.
[59] Thomas Ady. A Candle in the Dark. Boston, 1656. P. 120.
[58] Anthony S. Patton. The Witch Doctor // Harvard Medical Alumni Bulletin. Winter 1999. P. 34–39. Robinson. The Devil Discovered. P. 117–118.
[57] Harriet S. Tapley. Early Physicians of Danvers // Historical Collections of the Danvers Historical Society 4, 1916. P. 73–88. О сердце ежа: Lawrence Hammond. Diary Kept by Captain Lawrence Hammond, 1677–1694. Cambridge: John Wilson and Son, 1892. О зачаточном состоянии медицины: George Francis Dow. Every Day Life in the Massachusetts Bay Colony. Boston: Society for the Preservation of New England Antiquities, 1935. P. 174–198; Patricia A. Watson. The Angelical Conjunction: The Preacher-Physicians of Colonial New England. Knoxville: University of Tennessee Press, 1991). Z. Endicott Book of Remedies // Frederick Lewis Gay Papers, Ms. N-2013, MHS.
[56] Sanford J. Fox. Science and Justice: The Massachusetts Witchcraft Trials. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1968. P. 55. Были и «мудрые, нежные, преданные делу» терапевты, но это были врачи от бога. Часто терапевтов готовили для пастырства.
[55] Calef in Burr. P. 242. Мэзер писал, что порядка пятидесяти свидетелей собрались вокруг Мерси Шорт в 1693 году: The prayer and psalms, CM in Burr. P. 276.
[54] О случае в Коннектикуте см. краткое и элегантное исследование: Richard Godbeer. Escaping Salem: The Other Witch Hunt of 1692. New York: Oxford University Press, 2005. P. 25. Описывая один случай после Салема, Мэзер тоже делал упор на собрании «незаинтересованных свидетелей». О том, насколько редко больных оставляли одних, см., например: Peter Thacher diary, P-186, MHS. О постелях больных, Hall, Worlds of Wonder. P. 197.
[53] Позже в 1692 г. в Коннектикуте отец одной бьющейся в конвульсиях девочки специально приглашал гостей: ему было важно, чтобы они увидели эти неестественные ужимки и прыжки. Он хотел, чтобы все поняли: это не постановка.
[52] Autobiography of the Rev. John Barnard // Proceedings of the MHS, vol. 5 (1836). P. 187. Пэрриса не помнили бы сегодня, если бы он только читал проповеди.
[51] О домашних обязанностях пуритан: Alice Morse Earle. Child Life in Colonial Days. Stockbridge, MA: Berkshire House, 1993; David Freeman Hawke, Everyday Life in Early America. New York: Harper and Row, 2003.
[50] Richard Bernard. A Guide to Grand-Jury Men. London: Felix Kyngston, 1629. P. 45.
[71] SPN. P. 184. О трактовке Коттона Мэзера: cm Diary, 2. P. 581.
[70] B&N. P. 229–231. Петиция от 1667 года.
[69] См. бесценное сочинение: Richard Trask. The Devil Amongst Us: A History of the Salem Village Parsonage // Danvers Historical Society (1971): P. 1–12; Richard P. Gildrie. Salem, Massachusetts, 1626–1683: A Covenant Community. Charlottesville: University Press of Virginia, 1975. Gildrie. Salem Society and Politics in the 1680s // EIHC114, October 1978. P. 185–206. Много мелких деталей в переписке семьи Хиггинсон: MHS, 1838.
[68] Parris in B&N. P. 278; «что она совершила»: Пэррис в приходской книге, запись от 27 марта.
[67] Джон воспользовался старым английским рецептом, который был в ходу по обе стороны Атлантики (и открыто осуждался И. Мэзером в IP. См. Roger Thompson. Salem Revisited // Journal of American Studies 6, December 1972. P. 332. Вариант этого эксперимента проводился во время салемских слушаний: R, 318 (тогда целитель предположил, что наутро ведьма будет мертва). Пэррис высказался недвусмысленно: это была идея Сибли, исполнитель — Джон. У него не было причин преуменьшать роль Титубы, тем более что она во время обсуждаемого происшествия уже сидела в тюрьме. Однако это не помешало ей предстать перед нами в роли изготовительницы ведьмина пирожка (JH in Burr. P. 413; Lawson in Burr. P. 162). Хейл либо запутался в собственных воспоминаниях, либо самостоятельно получил от Титубы какую-то информацию (JH, 44). Пэррис позже извинится за поведение своих слуг — во множественном числе.
[66] Goodwin in Burr. P. 131; «школа благочестия»: CM Diary, 2. P. 265.
[65] CM Diary, 1. P. 471.
[64] SPN. P. 188–190.
[63] Мэзер о сходстве: Burr. P. 136; «Совершенно обычная вещь»: David C. Brown. The Salem Witchcraft Trials: Samuel Willard’s Some Miscellany Observations // EIHC122 (1986). P. 228. Инкриз Мэзер утверждал, что можно одновременно подхватить обе эти напасти: IM в IP. P. 198. Лучше всего об этом: David Harley. Explaining Salem: Calvinist Psychology and the Diagnosis of Possession // American Historical Review 101, April 1996. P. 307–330. Дэвид Харли отмечает, что «в Новой Англии тогда не было традиции одержимости бесами» (313). Майкл Долтон перечисляет семь признаков того, что человека околдовали: Michael Dalton. The Country Justice. Boston, 1678. IM предлагает шесть признаков одержимости. Они пересекаются. Ричард Рэйзвелл и Питер Дендл заявляют, что симптомы идентичны: Richard Raiswell and Peter Dendle. Demon Possession in Anglo-Saxon and Early Modern England // Journal of British Studies 47, October 2008. P. 738–767.
[62] Если и имела место серьезная дискуссия о разнице между колдовством и одержимостью, то нам о ней ничего не известно. Не все улавливали или хотя бы пытались уловить эту разницу — симптомы большей частью совпадали. Мэзер отмечал их «близкое сходство» и даже соединил два понятия в заглавии своих «Памятных историй». Одно могло повлечь за собой другое. «Совершенно обычная вещь, — говорил пастор в разгар гротонского дела, — когда одержимость передается через колдовство» (здесь он соглашался со своим отцом Инкризом, который верил, что можно подхватить сразу обе хвори). Подыскивая объяснение происходящему, Пэррис с самого начала подозревал одержимость бесами. Считалось, однако, что одержимый не испытывал физических страданий — а на телах девочек виднелись следы явного физического воздействия. Довольно скоро обнаружились доказательства колдовских чар, что не могло не порадовать Пэрриса: одержимый, по собственной воле открывавший себя для нечисти, был виновен. Околдованный — нет.
[61] JH in Burr. P. 413.
[49] Magnalia, 2. P. 396–403. Такие эпидемии разражались как минимум трижды до того: Koehler, Search for Power. P. 175. С тех пор как Мэзер описал историю Гудвинов, произошел еще один случай колдовства, а у детей Гудвинов приступы повторились. «Воображаемый конь»: MP. P. 29. «Мучительные припадки» не были редкостью: см. RFQC, 3. P. 54 и Demos, Entertaining Salem. P. 166–172; считалось, что их насылает дьявол. По словам Джошуа Муди, обеих женщин Гловер осудили и посадили в тюрьму: Joshua Moody, letter to IM, MHS. Осужденная Гловер — скорее всего, Мэри: Massachusetts Archive Series, vol. 35. P. 95–96, 254, Massachusetts State Archives.
[48] Robert Calef in Burr. P. 342.
[47] JH in Burr. P. 413. Хейл говорил, что эти симптомы полностью совпадали с симптомами у Гудвинов; Мэзер в Magnalia, 2. P. 409 описывает их более выраженными.
[46] Титуба сообщила в показаниях 2 марта 1692 года, что колдовать они начали примерно за шесть недель до того: R, 135.
[45] Цит. по: Karlsen. The Devil. P. 100; ранние подозрения насчет Кэрриер: R, 734.
[44] Hugh Stone in Magnalia, 2. P. 356–362.
[43] 540 RFQC, 5. P. 290.
[42] Некоторым из хихикавших позже повесят на шеи таблички с надписью «Я стою здесь из-за своего сладострастия и распутства» .
[41] John Dunton. John Dunton’s Letters from New England. Boston: Prince Society, 1867. P. 293.
[40] См. Emerson W. Baker and James Kences. Maine, Indian Land Speculation, and the Essex County Witchcraft Outbreak of 1692 // Maine History 40, Fall 2001. P. 159–89. Потери противоположной стороны были еще более ужасными. По самым оптимистичным подсчетам, коренное население Новой Англии составляло около 100 000 человек в 1600 году. К концу столетия (когда англичан в Америке уже было порядка 90 000) эта цифра сократилась до 10 000.
[104] Cited in David H. Flaherty. Privacy in Colonial New England. Charlottesville: University Press of Virginia, 1972. P. 135. Об охоте на белок: Joseph Green diary, DIA 72, PEM. См. Также Peter Thacher diary, P-186, MHS; Autobiography of the Rev. John Barnard. P. 219, 233; CM. A Monitory Letter, 1700.
[103] Возможно, Пэррис отменял январские проповеди из-за холода — а возможно, из-за странного оживления в рядах публики, которое уже вполне могло начаться.
[102] Record book, 18 November 1691, DAC. The rattling coughs: Earle. The Sabbath. P. 53–63; Winslow. Meetinghouse Hill. P. 56.
[101] SP’s October 28, 1690, list of proposals, Simon Gratz Collection, the Historical Society of Pennsylvania. О приходской книге Пэрриса: Marilynne K. Roach. Records of the Rev. Samuel Parris // New England Historical and Genealogical Register 157, January 2003. P. 6–30 (DAC).
[100] Hall. Faithful Shepherd. P. 193. Поселение Беверли подарило Хейлу дом гораздо меньших размеров и два акра земли после тридцати лет службы.
[99] Dunton. Dunton’s Letters. P. 255. Он цитировал Нойеса. О Хиггинсоне: Proceedings of the MHS, vol. 16 (1902). P. 478–520.
[98] SPN, 51. Interview with David Hall, September 21, 2013.
[97] SP. A General Account. W. L. Clements Library, University of Michigan.
[96] Alice Morse Earle. The Sabbath in Puritan New England. Charleston, SC: Bibliolife, 2008. P. 140. Если в доме было два камина, то в год вам требовалось 30 кордов дров (корд — мера, равная 3,63 м³) — либо 4000 м² (40 соток) дерева на корню: Hawke, Everyday Life. P. 55. Штраф за срубленное дерево диаметром больше 61 см составлял 100 фунтов, что в два раза превышало годовой доход пастора: Journal of Lords of Trade, 2 September 1691, CO 391/7, 42–44, PRO. По новой хартии все деревья такого размера считались собственностью королевского флота.
[95] A General Account of the Transaction between the Inhabitants of Salem Village and My Self, Samuel Parris. W. L. Clements Library, University of Michigan.
[94] Perry Miller and Thomas H. Johnson, eds. The Puritans: A Sourcebook of Their Writings. New York: Harper, 1963, 1. P. 60. О палитре Новой Англии: David Hackett Fischer. Albion’s Seed. New York: Oxford University Press, 1989. P. 140. Фишер называет преобладавший в ней цвет «гарвардским грязно-багровым».
[111] В таком же ключе Коттон Мэзер считал необходимым готовить свою восьмилетнюю дочь к его неотвратимой смерти, и в итоге пережил ее на двенадцать лет.
[110] SPN. P. 183, 193.
[109] SPN. P. 236 о еде. P. 318 о розге. CM: Some Special Points, Relating to the Education of My Children // Miller and Johnson. The Puritans, 2. P. 724–727. Упражнения для детей появляются то тут, то там в дневниках Коттона Мэзера.
[108] Autobiography of the Rev. John Barnard. P. 178. Двенадцать кругов: William L. Joyce et al., eds., Printing and Society in Early America. Worcester, MA: AAS, 1983. P. 22.
[107] RFQC, 5. P. 378.
[106] The Old Deluder Act of 1647 // Records of the Governor and Company of the Massachusetts Bay in NE (1853), vol. 2. P. 203.
[105] Proceedings of the MHS, vol. 17 (1879). P. 263.
[82] Willard to IM, July 10, 1688, MHS; жульничающие и недоедающие: CM. New England’s Choicest Blessing, 1679. P. 8; CM. A Monitory Letter Concerning the Maintenance of an Able and Faithful Ministry, 1700; Konig. Law and Society. P. 98–108.
[81] См. George Francis Dow. History of Topsfield, Massachusetts. Topsfield, MA: Topsfield Historical Society, 1940). P. 320–330.
[80] RFQC, 9. P. 448.
[79] Многие сочувствовали одному фермеру, чей дом на севере от салемской деревни стоял на границе между Топсфилдом и Ипсвичем. Когда констебль подходил с одной стороны, фермер перемещался в другую часть дома (в конце концов констебль Уайлдс уладил проблему силой. Взяв с собой нескольких крепких друзей, он поймал одну свинью фермера и объявил вопрос закрытым. Вскоре он обнаружит, что ловить ведьм — дело гораздо менее простое и ясное).
[78] Silverman. Life and Times of Cotton Mather. P. 332.
[77] B&N. P. 344–345.
[76] Lawson, October 6, 1713, Ms. Rawlinson, D839, Bodleian Library. Не сохранилось записей о том, что Лоусон учился в Кембридже, Оксфорде или Тринити-колледже в Дублине или окончил какой-то из этих вузов — хотя он и утверждал, что посещал Кембридж, бывший центром пуританского обучения. Моя благодарность Сюзанне М. Стюарт (Suzanne M. Stewart) из NEHGS и Тиму Уэйлсу (Tim Wales) из Англии за обстоятельные поиски информации о Лоусоне. О его речевом стиле: см. May 22, 1680, Massachusetts Archives Collections, vol. 39. P. 658, Massachusetts State Archives. «Господь не прельщается»: Lawson. The Duty and Property of a Religious Householder. Boston, 1692. Также см.: Charles Edward Banks. The History of Martha’s Vineyard. Boston: George H. Dean, 1911, vol. 2. P. 149–150.
[75] B&N. P. 171; также см. Perley. History of Salem, vol. 2. P. 172. Берроуз был не единственным, кто занимал деньги у прихожан, не желавших платить нанятым служащим.
[74] RFQC, 9. P. 30–32, 47–49.
[73] Salem Village Book of Transactions, November 25, 1680, DAC. О все более частом использовании контрактуализма в договорах со священниками: Hall, Faithful Shepherd. P. 187–194.
[72] RFQC, 7. P. 248–249.
[93] SPN, 84.
[92] Cited in Samuel P. Fowler. An Account of the Life, Character, Etc. of the Reverend Samuel Parris of Salem Village. Salem: William Ives, 1857, 1. Не было ничего необычного в том, чтобы подчеркнуть сложность задачи, хотя обычно это делалось иначе — с целью указать на несоответствие требованиям. См. Memoir of Rev. John Hale // Proceedings of the MHS, vol. 7 (1838). P. 257.
[91] См. Gragg, Quest for Security и Gragg. The Barbados Connection // New England Historical and Genealogical Record 140, April 1986. P. 99–113; Gragg. Samuel Parris: Portrait of a Puritan Clergyman // EIHC119, October 1983. P. 209–237. Об экономическом климате: Carl Bridenbaugh. Cities in the Wilderness. New York: Capricorn Books, 1964; Richard S. Dunn. The Barbados Census of 1680: Profile of the Richest Colony in English America // William and Mary Quarterly 26, 1969. P. 3–30. Честно говоря, время Пэррису досталось отвратительное. Когда он вернулся на Барбадос, там начались погодные катаклизмы, а под конец его пребывания разразилась эпидемия оспы. Торговля в Новой Англии стала почти невозможной, так как губернатор Андрос задушил ее своими законами о мореплавании. Interviews with David Hall, November 29, 2012, and September 21, 2013.
[90] Stout. New England Soul, 4. По подсчетам Стаута, среднестатистические 7000 проповедей за жизнь прихожанина равняются 15 000 часов прослушивания.
[89] SPN, 290.
[88] IM, Practical Truths Tending to Promote the Power of Godliness, 1682.
[87] CM Diary, 1. P. 351.
[86] Gildrie. The Profane. P. 148. Также о содержании пасторов: Samuel Swett Green. The Use of the Voluntary System in the Maintenance of Ministers. Worcester, MA: Charles Hamilton, 1886.
[85] Claude M. Fuess. Andover: Symbol of New England. Andover, MA: Andover Historical Society, 1959. P. 105. Холл считает историю апокрифической: Hall, Faithful Shepherd. Однако описанные чувства вполне настоящие.
[84] Samuel Eliot Morison. Harvard College in the Seventeenth Century. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936, 1. P. 103–106.
[83] Гарвардский взнос — примерно пятьдесят пять фунтов за четыре года обучения — выплачивался по такой же схеме, обычно пшеницей и солодом. Среднестатистический новоанглийский отец отправлял сына в Кембридж с запасом пастернака, масла и, как это ни прискорбно, козлятины. Полтуши говядины весом 64 кг покрывали год обучения. Другими словами, четыре курса в университете равнялись стоимости небольшого домика.
[38] Он цитировал слова Цезаря о скифах, от которых, по мнению Мэзера, произошли коренные американцы. Некоторые считали их очень далекими потомками одного из колен Израилевых.
[37] Magnalia, 2. P. 515.
[36] Magnalia, 2. P. 537. Четыре вооруженных индейца: RFQC, 4. P. 230. Сгоревший дом: Charles H. Lincoln, ed., Narratives of the Indian Wars, 1675–1699. 1913; repr., New York: Barnes and Noble, 1959. P. 83.
[35] SS Diary, 1. P. 331. Бакстер задолго до того заметил, что молния чаще попадает в церкви, чем в замки. На это наблюдение Мэзер ссылается в: A Midnight Cry. Boston, 1692. Также он настаивает, что молнии предпочитают бить в дома пасторов: Magnalia, 2. P. 313.
[34] SS Diary, 2. P. 750. Это работало в обе стороны. Мэзер утверждал, что, когда индейцы впервые увидели человека на лошади, они «приняли двух этих существ за одно»; MP, 7.
[33] R, 244; перенос верстовых столбов: R, 258–259; кастрюля: R, 412; метла: R, 409.
[32] Magnalia, 2: 537–540. См. также Marshall W. S. Swan. The Bedevilment of Cape Ann // EIHC117, July 1981. P. 153–177.
[31] О зловещей тишине: Ekirch. At Day’s Close. О хвосте бобра: John Giles. Memoirs of Odd Adventures, Strange Deliverances, Etc. in the Captivity of John Giles. Cincinnati: Spiller and Gates, 1869. P. 40; «отвратительная возня и рычание»: John Josselyn. New-England’s Rarities. Boston: William Veazie, 1865. P. 48; вопль толпы: SS Diary, 1. P. 509; стая голубей: CM in Silverman, Selected Letters. P. 34. По словам Джосслина, они были такими толстыми, что могли заслонить солнце. Жуткий рев: SS Diary, 1. P. 288; треск досок: Gildrie, The Profane, xi; RFQC, 9. P. 580–584; размножающиеся черепахи: Giles. Memoirs. P. 42.
[30] Детали полета взяты из показаний Фостер и Кэрриер, их детей и внуков: R. P. 467–475; Hale in Burr. P. 418; WOW. P. 158. Об особенностях ландшафта: Cronon. Changes in the Land. P. 22–31. Joshua Scottow. A Narrative of the Planting of the Massachusetts Colony, Anno 1628. Boston, 1694; Hull, Diaries. P. 225; interviews with Richard Trask, November 28, 2012, and February 8, 2015. Глэнвилл перепечатал рассказ о шведском происшествии из: Anthony Horneck. An Account of What Happened in the Kingdom of Sweden. London: St. Lownds, 1682. P. 10. Чарльз Мак-Кэй упоминает об огромной высоте: Charles MacKay. The Witch Mania (extracted from Memoirs of Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. London, 1841). P. 550. Об Андовере и шотландцах: Abbot. Our Company. О непроходимой дороге: RFQC, 9. P. 69.
[29] cm Diary, 1. P. 144.
[39] Daniel Gookin, цит. по: Carroll, Puritanism and the Wilderness. P. 207. Округ Эссекс потерял больше убитыми, чем вся остальная колония. «Думаю, ни один город в этой провинции не пострадал в этой войне так, как Салем», — писал Джон Хиггинсон — младший своему брату в 1697 году: Higginson Family Papers, MHS Collections, 1838. P. 202. О войне короля Филипа: Jill Lepore. The Name of War: King Philip’s War and the Origins of American Identity. New York: Vintage, 1999.
3
Творение чудес
Несколько дней после эксперимента Мэри Сибли с «ведьминым пирожком» округ Эссекс заливало чудовищными дождями [114]. Реки раздулись от тающего снега и вышли из берегов, затапливая дома, слизывая с земли скот, мельницы и мосты, размывая только-только возделанные поля. Деревня превратилась в грязное бурлящее болото. Пообщавшись со своим пастором, Томас Патнэм не убоялся непогоды и выехал с тремя друзьями в город Салем 29 февраля. Девочки теперь знали имена своих мучителей. В понедельник фермеры средних лет в заляпанных грязью плащах предстали перед двумя городскими судьями, дабы выдвинуть официальные обвинения в колдовстве. Через несколько часов деревенский констебль уже стучал своей черной тростью с медным набалдашником в дверь дома, стоявшего в полутора километрах к юго-западу от пастората. У него имелся ордер на арест Сары Гуд. Ей предписывалось явиться к властям на следующее утро и ответить за двухмесячные издевательства над двумя девочками в доме Пэрриса, дочерью Томаса Патнэма и племянницей доктора Григса. В Массачусетсе XVII века грех шел рука об руку с преступлением: перечень самых страшных злодеяний, караемых смертной казнью, составлялся непосредственно по Библии [115].
Нищенка и фактически бродяжка, Сара Гуд была вроде местной страшилки [116]. Можно было подумать, что она забрела в деревню прямо со страниц сказок братьев Гримм, но те еще не родились. Сара притащила с собой историю безжалостного социального падения. Когда ей было восемнадцать, отец-француз, зажиточный владелец гостиницы, покончил с собой. Все его внушительное состояние перешло к ее отчиму. Когда ей было чуть за двадцать, внезапно умер ее муж, оставив жене свои долги. Последовали судебные иски, лишившие Сару всего. К вящему недовольству благочинных, трудолюбивых соседей, Гуд и ее семья подолгу жили подаяниями, обретаясь по сараям и полям. Женщина даже не всегда делила кров с новым мужем Уильямом. Недавно же появилась в пасторате вместе с пятилетней дочерью. Пэррис чем-то угостил девочку, и Гуд удалилась очень недовольная, что-то бормоча себе под нос. Эта встреча с растрепанной неприветливой соседкой всерьез растревожила обитателей дома. Помощь бедным была хронической проблемой Массачусетса, где ресурсов не хватало, а праздность представлялась большинству жителей загадкой. Бедняков предпочитали отселять подальше от города. Оба Салема тогда как раз столкнулись с этой ситуацией: война короля Филипа оставила огромное количество вдов и сирот. Если мы сами будем заботиться о своих неимущих, снова пытались выторговать себе независимость салемские фермеры, может быть, город освободит нас от выплат в фонд ремонта и содержания дорог?
Таким образом, Сара Гуд уже какое-то время была раздражающим фактором для салемских семейств. Три года назад ее семья осталась без жилья, и одна добродетельная пара приютила их у себя. Гуд оказалась настолько «беспокойным жильцом, враждебным и злонамеренным» [117], что через полгода хозяева выставили ее: они больше не могли выносить эту женщину ни минуты. Гуд отплатила им за доброту оскорблениями и угрозами. Той же зимой их скотина стала без видимой причины болеть и умирать. Когда Гуд об этом узнала, то заявила, что ей плевать, даже если они лишатся всего поголовья. Когда очередной фермер отказался пустить ее в свой дом, опасаясь, что у нее оспа, — без сомнений, было в этой женщине что-то нечистое, — она начала орать и изрыгать проклятия. Если они не одумаются, мол, уж она придумает, как их отблагодарить! Естественно, на следующее утро корова у той семьи умерла «неожиданным, ужасным и крайне необычным образом». Брат констебля Херрика лично прогнал ворчащую Гуд, искавшую у него приюта. Так как она продолжала слоняться по его владениям, он велел сыну следить, чтобы она не проникла в сарай. У нее была привычка курить трубку (множество женщин в Массачусетсе открыли для себя радость табакокурения), что могло привести к пожару. Гуд поклялась, что Херрики тоже заплатят за недостаток гостеприимства. Возможно, она лишь туманно намекала: у нас есть ее слова — но услышанные другими, а не сказанные ею самой. В любом случае общение с ней никому не доставляло ни малейшего удовольствия. Более того, вскоре пропало несколько ценных коров Херриков. В общем, у всех трех семейств очень скоро появится повод вспомнить об этих зловещих эпизодах.
В десять часов утра 1 марта констебль доставил Сару Гуд на допрос в таверну Ингерсола. Если у деревни было сердце, то билось оно в таверне Ингерсола. Это заведение, расположенное в двух шагах от молельни, чуть южнее пасторского дома, на подъеме дороги на Андовер, собирало у себя паству Пэрриса, которая подкреплялась там в перерывах между воскресными проповедями. В то утро остро ощущалось отсутствие некоторых персонажей. Марта Кори, соседка Сары, решила не приходить и пыталась удержать мужа — даже расседлала его лошадь. Тщетно: Джайлс Кори не пропустил ни минуты длившихся целую неделю разбирательств. Когда приехали судьи из города, было очевидно, что таверна Ингерсола не может вместить всех желающих. Слушание перенесли в аскетичный, щетинившийся стропилами молельный дом, и в лучшие-то свои деньки бывший мрачным местом, а теперь, после нескольких лет запустения, и вовсе превратившийся в темницу. Салемские фермеры долго откладывали ремонт, лишь заколачивая досками разбитые окна. Помещение в итоге стало таким темным, что впору было признать его непригодным для какого-либо использования. Тем не менее в воздухе ощущалось что-то пьяняще праздничное. В колонии не было театра — он считался «постыдным излишеством» [118]. Хотя уже были написаны все пьесы Шекспира, ни одна из них пока не дошла до Северной Америки, куда первый орган доберется только через девятнадцать лет. В лихорадочном возбуждении этого памятного вторника растворились все правила, все иерархические законы — как в грядущие недели внезапно будут сняты все запреты, обязательства и указы о введении комендантского часа. Фермеры отлично знали свои места на темных деревянных скамьях — при обсуждении спорных вопросов процесс рассаживания был весьма болезненным и велся по унизительному алгоритму сообразно возрасту, уровню доходов и количеству земли в собственности [119]. Тем утром, однако, на своих местах никто не сидел.
Председатели процесса — мировые судьи Джонатан Корвин и Джон Хэторн — расположились за столом перед кафедрой [120]. Эти многоуважаемые господа почитались в числе первых лиц Салема. Темноволосый Хэторн, успешный торговец землей и сообразительный капитан ополчения, жил в прекрасном особняке. Будучи таким же опытным и ж
