автордың кітабын онлайн тегін оқу Науки о человеке: история дисциплин
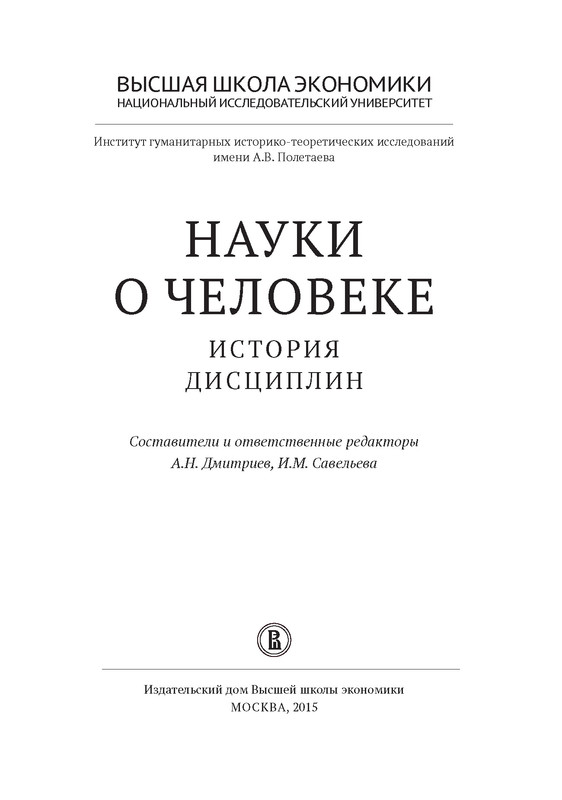
УДК 3
ББК 60
Н34
Текст монографии подготовлен при финансовой поддержке программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2011-2013 гг.
Рецензенты:
доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН Н.С. Автономова; доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теории дискурса и коммуникации филологического факультета МГУ Т.Д. Венедиктова
Н34 Науки о человеке: история дисциплин: коллект. моногр. / сост. и отв. ред. А. Н. Дмитриев, И. М. Савельева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — ISBN 978-5-7598-1209-8 (в пер.).
Коллективная монография посвящена анализу проблематики дисциплинарности, которая в XXI в. вновь активно привлекает внимание исследователей. В книге по-новому освещены вопросы преемственности в гуманитарных и социальных дисциплинах, перераспределение фундаментальных и прикладных сфер в этих областях, обмен идеями и концептуальными моделями между различными научными сообществами. Авторы исследования — ученые из России, Франции, США, Швеции и других стран — всесторонне раскрывают проблемы истории и социологии социогуманитарного знания, обращаясь к мало изученным ранее вопросам академической иерархии и механизмам вытеснения «миноритарных» направлений, явным и теневым практикам закрепления приоритета тех или иных дисциплин и школ.
Издание адресовано широкому кругу исследователей — историкам, социологам, философам, культурологам, специалистам по науковедению, истории науки и истории идей, а также преподавателям высших учебных заведений и студентам гуманитарных специальностей.
УДК 3
ББК 60
ISBN 978-5-7598-1209-8
© Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт гуманитарных историко-теоретических исследований, 2015
© Оформление. Издательский дом Высшей школы экономики, 2015
Приложение © Warburg Institute, 1950
Глава 4 © Duke University Press, 1999
Глава 10 © Duke University Press, 2013
Электронное издание подготовлено компанией «Айкью Издательские решения» (www.iqepub.ru)
Содержание
Введение. А. Дмитриев. Дисциплинарные порядки в гуманитарных и социальных науках
1. Дисциплинарность в науках о природе и науках о человеке
2. Современность и классика
3. Дисциплины в их истории: проблема периодизации
4. Рефлексия дисциплинарности
5. Структура монографии
РАЗДЕЛ I. ПОРЯДКИ И СТРУКТУРЫ ЗНАНИЯ: ОТ ГУМАНИЗМА К ПРОСВЕЩЕНИЮ
Глава 1. П. Соколов. ГЕНЕАЛОГИЯ МЕТОДА В НАУКАХ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ МИРЕ
Глава 2. Ю. Иванова. «ИСТОРИЯ ИДЕЙ» И «ГРАЖДАНСКАЯ НАУКА»: ГРАНИЦЫ ДИСЦИПЛИНАРНОСТИ В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ
Глава 3. Н. Осминская. ВСЕОБЩАЯ НАУКА, ЭНЦИКЛОПЕДИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ НАУК В РАННЕЙ ФИЛОСОФИИ Г.В. ЛЕЙБНИЦА
РАЗДЕЛ II. ЗОЛОТОЙ ВЕК ДИСЦИПЛИНОСТРОИТЕЛЬСТВА
Глава 4. Л. Дастон. ДИСЦИПЛИНИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИН: АКАДЕМИИ И ЕДИНСТВО ЗНАНИЯ
Глава 5. П. Резвых. МИФОЛОГИЯ КАК ПРЕДМЕТ И ДИСЦИПЛИНА В РОМАНТИЧЕСКОЙ ALTERTUMSWISSENSCHAFT
Глава 6. В. Боярченков. НАУКА РУССКИХ ДРЕВНОСТЕЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Глава 7. В. Берелович. МОРФОЛОГИЯ ЗАЧИНА: ЖАНР ПРЕДИСЛОВИЯ К ОЧЕРКУ РУССКОЙ ИСТОРИИ (ОТ ТАТИЩЕВА К БАГАЛЕЮ)
Глава 8. М. Тисье. ВЫСОКОСТАТУСНАЯ ДИСЦИПЛИНА, НЕЯСНАЯ НАУКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РОССИЙСКОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.
Глава 9. Г. Юдин. НАУКОУЧЕНИЕ ЭДМУНДА ГУССЕРЛЯ И КРИЗИС ТЕОРИИ РАЗДЕЛЕНИЯ НАУК
Глава 10. И. Герасимов, М. Могильнер, А. Семёнов. РОССИЙСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ В ИМПЕРСКОМ КОНТЕКСТЕ
Глава 11. А. Ясницкий. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ ПСИХОЛОГИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ в.
Глава 12. А. Филиппов. СОВЕТСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ КАК ПОЛИЦЕЙСКАЯ НАУКА
Глава 13. Р. Тоштендаль. ДИСЦИПЛИНЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ В ПРАКТИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЯХ И В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ок. 1850-1940 гг.)
РАЗДЕЛ III. «ПОСЛЕ ДИСЦИПЛИН» ИЛИ НОВАЯ ДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ?
Глава 14. Г. Юдин. СОЦИОЛОГИЯ ПРОФЕССИИ И СОЦИОЛОГИЯ КАК ПРОФЕССИЯ
Глава 15. Б. Степанов. «КАК БЕЗЗАКОННАЯ КОМЕТА...»: КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПОИСКАХ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Глава 16. И. Савельева. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ: ДИСЦИПЛИНА ИЛИ ПРОФЕССИЯ?
Глава 17. В. Файер. АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЕПАРАТИЗМ: ЛИНГВИСТИКА И ЯЗЫКОЗНАНИЕ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Глава 18. М. Дёмин. ДИЛЕММА ПРОФЕССИИ: СОВЕТСКИЕ ИНСТИТУТЫ И СОВРЕМЕННАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В РОССИИ
Глава 19. Р. Капелюшников. СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Глава 20. О. Кирчик. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ИЕРАРХИИ И ЛОКАЛЬНЫЕ ПОРЯДКИ ЗНАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Глава 21. А. Дмитриев, О. Запорожец. ДИСЦИПЛИНАРНЫМ ПРИНЦИП И АНАЛИТИКА «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЯ»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. А. Дмитриев.
ПРИЛОЖЕНИЕ. А. Момильяно. ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ И ЛЮБИТЕЛИ ДРЕВНОСТЕЙ (1950)
1. Введение
2. Истоки антикварских исследований
3. Спор о ценности исторических свидетельств в XVII-XVIII вв.
4. Конфликты между антикварами и историками в XVIII и XIX вв.
APPENDIX I. Джон Лиланд, королевский антиквар
APPENDIX II. Избранные исследования по доримской Италии (ок. 1740-1840)
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
ПРИМЕЧАНИЯ
Введение. А. Дмитриев. Дисциплинарные порядки в гуманитарных и социальных науках
Эта книга посвящена дисциплинарности и разным формам ее реализации в развитии наук о человеке. Под дисциплинарностью мы понимаем характерную и устойчивую взаимосвязь определенной области знания (той или иной науки в ряду прочих), специфической образовательной ячейки (особого института, факультета или кафедры/департамента) и отдельной сферы занятий (некоторой академической профессии, специальности). Дисциплинарность может выступать и как принцип указанного соединения компонентов, и как определенный исторический и социальный феномен, характерный именно для модерных обществ. Дисциплина при этом осознается как явление множественное: в отличие от мудрости, знания или науки вообще, каждая дисциплина никогда не тотальна, она партикулярна. Охватывая собственную, выделенную по особым характеристикам сферу, она всегда существует только в ряду прочих дисциплин.
Предлагаемая вниманию читателей монография — попытка общего описания эволюции разных отраслей знания именно как дисциплин, академических или университетских. Это подразумевает и анализ отдельных дисциплин на определенном отрезке их эволюции, и обращение к более систематическим проблемам дисциплинарного развития. Формат дисциплинарного устройства наук давно кажется представителям социогуманитарного знания первичным, или само собой разумеющимся: самоидентификация ученых, рубрикация книг и академической периодики, номенклатуры специальностей или набор университетских департаментов / факультетов привычно строятся в самых разных странах или сообществах по базовым блокам, соответствующим спискам наук, которые непременно включают философию, историю, науку о языке и т.д. Между тем правомочность и полнота этих списков не раз подвергались сомнению и ревизии (особенно с 1970-х годов), а сам дисциплинарный подход при более детальном рассмотрении, как будет продемонстрировано далее, обнаруживает свою историческую локализацию[1]. Ведь, по мнению большинства исследователей, он становится ключевым принципом организации науки не раньше первой половины XIX в.[2], а прежние системы дифференциации знания соотносятся со знакомым нам дисциплинарным делением лишь отдаленно. «Свободные искусства» Средневековья[3] и исходное членение университета по факультетам[4], специализация гуманистических штудий[5] и само понятие disciplina (не имевшее поначалу явных ученых коннотаций[6]), а также многочисленные способы классификации знания, изобретения или переизобретения новых отдельных наук, особенно популярные в раннее Новое время, — все это было только предвосхищением нынешнего, социально определенного устройства «древа познания».
Дисциплины складываются в период так называемой второй научной революции в рамках университетов, благодаря системе специализации, работе семинариев и лабораторий[7]. Ведущей страной этого процесса в «долгом девятнадцатом веке» принято считать Германию[8], хотя для Великобритании маркером дисциплинарного деления может считаться появление в 1810-1830-е годы университетских департаментов (помимо традиционных колледжей или факультетов)[9]. Во Франции это была деятельность академий и специализированных высших школ[10]. И все же связь с прошлыми делениями знания и представление о традициях научного описания человеческого мира были и остаются до сих пор существенными — и потому нам представляется в книге особенно важным подчеркнуть исторические истоки дисциплинарности, нередко упускаемые из виду ее исследователями (в первую очередь теми, кто занят социальными, а не традиционными гуманитарными дисциплинами).
Сам выбор сюжета этой коллективной монографии нуждается, на наш взгляд, в некотором разъяснении. Почему именно феномен научной дисциплины и дисциплинарность как таковая заслуживают детального анализа? Каким этот анализ может и должен быть, и наконец, что это означает — думать о дисциплинарности здесь, в России, и сейчас, в начале XXI века? Эти вопросы, а главное, ответы на них важны не только для довольно узкого круга специалистов по истории или социологии науки. Тема дисциплинарности, объединившая авторов нашей книги, охватывает практически все стороны бытия науки, а не только внутренний ход ее развития, который был в центре внимания классического науковедения (от «Истории научных идей» Уильяма Уэвелла середины XIX в. до «Структуры научных революций» Томаса Куна)[11].
Главная особенность книги — соединение углубленного историко-научного анализа, опирающегося на классические работы по истории идей раннего Нового времени (в духе традиции Аби Варбурга или Арнальдо Момильяно), с социологическим подходом и новейшими достижениями историографии социальных наук. В горизонте социологии знания мы будем опираться на работы широкого исследовательского диапазона от известных трудов Фрица Рингера или Пьера Бурдьё до функционалистских исследований Нормана Сторера или Ричарда Уитли. В соответствии с этим в книге по-новому освещены вопросы преемственности в гуманитарных и социальных дисциплинах, перераспределение фундаментальных и прикладных областей, обмен идеями и концептуальными моделями между различными дисциплинарными и национальными академическими сообществами.
Нам представляется, что ведущим путем рефлексии проблем дисциплинарности в гуманитарном знании должен быть путь исторический, позволяющий увидеть, как складывались базовые представления о дисциплинах, их специфических методах, сфере анализа, формах соединения — и противопоставления — друг относительно друга. Именно этот ведущий исторический принцип будет реализован авторами монографии в рамках базовых науковедческих подходов: эпистемологического, социологического, включающего организационно-институциональный анализ, культурологического и антропологического (изучение дисциплинарных практик).
Во введении особое внимание будет уделено не только процессу разделения социогуманитарного знания на разные отрасли (и науки), но и более короткой истории осмысления самого принципа дисциплинарности. Однако начать этот обзор кажется целесообразно не ab ovo, от истоков, а с указания на ситуацию той самой современности, которая и формирует запрос на новые комплексные исследования дисциплинарного развития. Исходным пунктом здесь будет обращение к естественно-научным и социогуманитарным версиям реализации дисциплинарного принципа.
1. Дисциплинарность в науках о природе и науках о человеке
В отличие от наук о природе, науки о человеке (разные отрасли знания о человеческом мире, а также взаимосвязи между ними) куда реже становятся предметом целостного рассмотрения, которое бы одновременно учитывало действие исторических, социологических и эпистемологических факторов[12]. Ведь наука как таковая (начиная с XIX в. и до сих пор) нередко по умолчанию ассоциируется с естествознанием, и большинство общих теорий научного развития, которыми мы располагаем на сегодняшний день, ориентированы именно на дисциплины природоведческие[13].
Нужно также указать, что речь о науке и научности в современном мире заходит чаще всего в связи с англоязычным понятием science, которое отнюдь не всегда включает традиционный круг занятий гуманитариев (для общего обозначения которых нередко употребляется английское слово scholarship[14]). В смысле этой многоохватности наше понимание наук о человеке (human and social science) ближе к немeцкому Wissenschaft, которое применяется и к естественным, и к гуманитарным наукам[15] (а дисциплина как профессия передается по-немецки как Fach). Соответственно историко-филологическое знание, философия и т.д. в английском словоупотреблении передается также общим понятием humanities (близко к упомянутому выше scholarship)[16]. Стоит также учесть важную акцентировку в современном понимании human sciences — по аналогии с social sciences — именно модерного компонента, связанного с антропологией, социальной географией и важнейшей ролью психологии и наук о поведении (то же касается и французского sciences de l’homme)[17]. Для изучения дисциплинарности в гуманитарных науках, на наш взгляд, недостаточно простого переноса объяснительных моделей из опыта изучения наук естественных. Как учесть специфику и разнообразие знаний о человеке в перспективе анализа дисциплинаризации и выстроить обобщающий нарратив, избегая и соблазна мерить их меркой только «строгого знания», и разного рода редукционизма? Современная эпистемология науки должна принимать во внимание особенности концептуальной работы и типизации в различных гуманитарных областях, которые выступают также и средствами дисциплинарных разграничений и самоорганизации форм познания[18].
Очень показательно, что сам дисциплинарный принцип организации знания далеко не сразу, а лишь примерно с 1990-х годов становится одной из ведущих тем современного науковедения. Как показывает история, базовые основания развития той или иной науки и научного знания в целом нечасто становятся предметом специального и детального рассмотрения. Эту закономерность (или парадокс) уже более полувека назад особо отметил Томас Кун, который в начале 1960-х отнес рефлексию над основаниями к периодам революционной смены парадигм, нарушающей привычный ход накопления знания в рамках «нормальной науки». В этом смысле изучение дисциплинарности как формы институционализации знания — по «нормальной модели» (исследовательская область — специальности — дисциплина), предложенной Норбертом Маллинзом и Ричардом Уитли еще в середине 1970-х годов[19], — уже явно не позволяет охватить сложность современного и исторического деления наук о культуре или наук о природе (см. подробнее в заключительной главе монографии о социологических трактовках дисциплинарности).
Дисциплинарность, безусловно, является одним из таких фундаментальных принципов деления поля знания, в том числе социального и гуманитарного. Означает ли нынешнее обостренное внимание к дисциплинарности, что само развитие наук о человеке в XXI в. вступает в революционную стадию развития, период турбулентности и потрясения основ? Скорее, большинство оценок современной ситуации в гуманитаристике указывает на длительное теоретическое затишье, наступившее после периода обновления середины 1960 — начала 1980-х годов. Это нештатное (выходящее за рамки куновской модели) обострение рефлексии над базовыми принципами, в частности внимание к дисциплинарности, на достаточно стабильной фазе когнитивного развития дополнительно указывает на невозможность прямого проецирования закономерностей естествознания на эволюцию гуманитарных наук. Хотя, надо сказать, что сегодня внимание к дисциплинарности вырастает и в науках о природе, особенно после некоторого спада интереса к феномену поли- и трансдисциплинарности, к любому нарушению дисциплинарных границ — веянию, несомненно модному в 1990-е годы и в начале 2000-х годов[20]. Очень важно, что сейчас тема проницаемости границ дисциплин (и даже разграничения науки и не-науки), которую еще 10 лет назад чаще всего истолковывали в антисциентистском или релятивистском ключе, начинает анализироваться как важный фактор поддержания и нового воспроизводства, переопределения этих границ в режиме «новой дисциплинарности» — уже в начале XXI в. (Терри Шинн[21]). А ведь еще 10-20 лет назад многим представлялось, что речь в данном случае идет скорее о феномене прошлого — о быстро устаревающей интеллектуальной практике, связанной с уже уходящими, стабильными и фиксированными формами организации знания. Однако после постмодернистского «натиска» культурных исследований ныне, во втором десятилетии XXI в., уже можно смело говорить о своеобразном ренессансе дисциплинарного принципа. Для конца 2000-х годов характерен рост интереса к феномену дисциплинарности в самых разных академических сообществах — в качестве примера достаточно указать на специальный номер авторитетного журнала «Critical Inquiry» (с участием Джудит Батлер, Марио Бьяджоли и других признанных авторов), французский сборник «Quest-ce qu’une discipline?», компаративный труд антиковеда Джеффри Эрнеста Ричарда Ллойда с анализом китайского материала[22]. Авторитетные отечественные исследования феномена дисциплинарности (А.П. Огурцов, Э.М. Мирский, Б.А. Старостин, М.К. Петров и др.)[23] публиковались еще с конца 1970-х годов и целиком ориентировались на опыт западного науковедения времен расцвета структурно-функционалистской парадигмы (хотя и с учетом критики ее со стороны феноменологов или сторонников этнометодологических подходов). При этом в центре анализа оставались философско-методологические стороны познания, в первую очередь связанного с естественно-научными дисциплинами. Содержательные работы отечественных специалистов по методологии и философии науки, появившиеся в 2000-е годы (В.М. Розин, А.В. Юревич[24]), в целом также не выходят за эти рамки.
При этом и для социологических изысканий (неважно, в традиции Роберта Мёртона, Пьера Бурдьё или программы Science and Technology Studies [STS]), и для историко-научного анализа образцом во многом остаются работы, выполненные на материале естествознания. Давние дебаты о двух культурах (сциентистской и гуманитарной) времен работы Чарльза Питера Сноу (1962) или недавние «научные войны» (в связи с критикой постмодернистских установок в науке после разоблачении «аферы Сокала») только подтверждают важность обращения специалистов по истории гуманитарного знания к компаративным аспектам становления современных наук о природе. Ведь осмысление разных социальных и гуманитарных наук на протяжении последних двух веков, несмотря на все усилия поборников герменевтических или субъектно-ориентированных подходов, выстраивалось именно с оглядкой на образцы, нормы и практики наук естественных[25]. Эволюционистский подход к истории наук и дисциплин (понимаемых как изменчивые и конкурирующие биологические виды — у Дэвида Халла[26]), рост когнитивных наук на стыке теорий информации и изучения коммуникации, обществознания, нейробиологии придают дебатам о дисциплинарности новый импульс, далеко уводя их за пределы давней дилеммы «внутреннего» или «внешнего» объяснения[27]. Кроме того, начиная со времен Просвещения и романтизма, социогуманитарные дисциплины оказываются связаны, с одной стороны, с естественными науками в целом как более успешными и «продвинутыми», a с другой стороны, с динамикой философии (и как одной из гуманитарных наук в кругу прочих, и одновременно — как общей сферы рефлексии эпистемологических и мировоззренческих оснований)[28].
Общая тенденция к «сциентизации» социогуманитарного знания, особенно в конце ХХ столетия, уравновешивается или компенсируется обратным движением — укреплением фикционального момента, который связан с социальным воображением, фантазией и художественным творчеством (когда одна волна или очередной «поворот» в гуманитаристике действует не однолинейно, а накладывается на иные схожие тенденции[29]). При этом понимание гуманитарных дисциплин как искусств, а не только наук, по известной формуле Art and Science, свидетельствует отнюдь не об их слабости или незрелости, но и об определенной гибкости в моменты кризиса общества или роста антисциентистских настроений[30]. И в истории знания близость искусствоведения или филологии к новейшим художественным течениям (как в русском формализме, например) вполне сочетались с установками именно на научную инновацию — против застывшего академизма, что означало переопределение и укрепление, а не «сворачивание» или ликвидацию дисциплинарного принципа.
2. Современность и классика
Последовательно исторический подход и анализ не означает отказа от рациональной реконструкции содержательной общей логики движения разных дисциплин или даже всего поля знания о человеке. Неизбежный презентистский момент, необходимость принимать во внимание современный контекст развития и постановки той или иной научной проблемы не должен, разумеется, сводиться к «вигскому» приоритету актуальных ценностей в процессе историописания (об опасности которого предупреждал в свое время Герберт Баттерфильд). К сожалению, отставание общеметодологической рефлексии гуманитарных наук (из-за господства догматического и вульгаризованного марксизма) сказалось и в том, что в отечественном науковедении дилемма «презентизм — антикваризм» была разработана еще в 1990-е годы только в плане историографии естествознания[31]. Но, как справедливо указывал в свое время А.В. Полетаев в книге о феномене гуманитарной классики, приоритет в этих разработках принадлежит Роберту Мёртону и с наибольшей полнотой эта дилемма была эксплицирована на примере анализа социальной теории[32].
В различных версиях историографии наук о человеке реализовались обе эти логики. В социальном или экономическом знании отчетливее всего проявилась презентистская модель постижения своего академического прошлого[33], в то же время изучение традиционных гуманитарных штудий издавна выстраивалось согласно хронологической канве, как набор детально проработанных «кейсов»[34]. В нашем исследовании эти подходы сопрягаются на основании принципа историзма, который не сводится только к набору разных и несоизмеримых контекстуалистских реконструкций прошлого, но ориентирован на поиск и постижение общей логики развития социогуманитарного знания[35]. Но это сопряжение нельзя реализовать без учета истории дисциплинарного принципа и опыта его рефлексии.
В ходе предпринятого коллективного исследования была подтверждена базовая идея А.В. Полетаева и И.М. Савельевой о необходимости выработки для многомерного анализа прошлой социальной реальности своего набора социальных и гуманитарных дисциплин (точнее, аналитических подходов) для каждой из крупных исторических эпох, по крайней мере в европейской истории — для древности, Средневековья и модерна. Более того, речь идет не просто о наших современных дисциплинах (сложившихся в XIX-XX вв.), «приспособляемых» под раскрытие внутренней специфики минувшего, ибо такое приспособление на деле подразумевает серьезную внутреннюю ценностную и методологическую перестройку и самих дисциплин, и их общего поля. «Исторический поворот» в социальных науках последних десятилетий демонстрирует важность диахронной перспективы видения и предмета и метода для разных дисциплин в поле наук о человеке[36].
Эта историцистская переориентация и усложнение современного аналитического инструментария подразумевает также обращение к тем познавательным комплексам и структурам социального самопознания и самопредставления, которые были выработаны, например, в XVII столетии или в период романтизма. Комплексы прошлых научных и социальных идей — не просто предыстория мысли, которую можно заключить в скобки, они действенны и за пределами своих собственных эпох. Особенно это касается, во-первых, востребованности в разные периоды ХХ и в начале XXI столетий классических методологических и философских работ раннего Нового времени (например, Декарта, Вико или Гоббса), во-вторых, актуальности историко-научного самосознания для развития конкретных социогуманитарных дисциплин[37].
Эти параллельные течения — видоизменения научной классики и историко-дисциплинарная рефлексия[38], анализируемая в данном коллективном труде, — дополнительно закрепляют порой кажущиеся «неустойчивыми» гуманитарные дисциплины. Именно поэтому для нас важна преемственность нашей монографии с предыдущими исследованиями Института гуманитарных историко-теоретических исследований, посвященными феномену классики и в гуманитарных, и в социальных науках[39]. Учет диахронного измерения в эволюции социогуманитарного знания важен для реализации нашего замысла, поскольку дает возможность рассматривать динамику разных наук в их содержательных пересечениях и на общих институциональных площадках (например, в рамках университета эпохи Просвещения или в советской академической системе). Это во многом позволяет избежать эклектики и погони за едва достижимой полнотой описания, когда в жанре энциклопедических очерков разные дисциплинарные истории с их шаблонами и стереотипами непроблематично сополагаются друг рядом с другом (к истории философии механически добавляется история исторической науки, затем следует история социологии, история психологии и т.д.[40]). Искомый синтез не может быть абсолютно нейтральным или симметричным, выстроенным в неких искусственно заданных науковедческих координатах, абстрагированных от эволюции как конкретных дисциплин, так и общенаучной или философской рефлексии. Ведь и сам разговор о дисциплинарности неизбежно разворачивается на том или ином специализированном, уже дисциплинарном языке, в зависимости от выбранного ракурса или самоидентификации исследователя — специалист по методологии науки (читай — естествознания) или философии знания, историк или антрополог обычно рассуждают о критериях и факторах дисциплинарного развития в «своих» понятийных категориях. Традиционно в качестве ведущих конструктивных принципов развития дисциплины выделяются, с одной стороны, когнитивная, содержательная сторона ее эволюции (парадигмальные установки, специфика метода и подхода, присущие той или иной области знания) — ее изучают, скорее всего, специалисты по истории или эпистемологии науки от неокантианцев до критиков и сторонников Томаса Куна или Имре Лакатоса[41]. Институциональные рамки (номенклатура университетских подразделений, академических кафедр, квалификационных и коммуникативных ячеек) является предметом занятий историков науки и образования, но в первую очередь — социологов, так или иначе связанных с традициями Роберта Мёртона или Пьера Бурдьё[42]. Одной из активно исследуемых в последние десятилетия сторон развития науки является опосредующая сфера особых, отличительных и устойчивых исследовательских практик, ассоциируемых именно с той или иной дисциплиной. Процессы дифференциации специфических способов деятельности в той или иной науке, техник изучения именно «своего» материала исследует социология науки, ориентированная на антропологические методы описания (здесь выделяют признанные уже классическими работы конца 1970 — середины 1980-х годов — книги Бруно Латура и Стива Вулгара о «лабораторной жизни» и Карин Кнорр-Цетины о выработке [manufacturing] научного знания)[43]. Но и более новые обобщающие работы по истории наук о человеке отчетливо тяготеют к дисциплинарной идентичности их авторов — в случае Дональда Левине это социология[44], в самой обстоятельной книге об эволюции human sciences явно сказывается психологическая специальность Роджера Смита[45], работа Брюса Мазлиша о «неточных науках»[46] написана именно историком, а вышедшая недавно по-английски монография голландского лингвиста Ренса Бода[47], соответственно, отражает его интерес к знаковым системам, музыкологии, способам письма, риторике и коммуникации.
3. Дисциплины в их истории: проблема периодизации
Существует несколько способов описания хронологии гуманитарных и социальных наук, включая работы по динамике разных национальных научных сообществ. Нас интересовала не история отдельных наук как таковая (часто отсчитываемая с античности), но развитие их в качестве дисциплин, в соотнесении и взаимодействии друг с другом. А это существенно меняет и акценты стандартного историко-научного исследования, и привычную периодизацию, подразумевает плюрализм потенциальных картин прошлого. Вслед за авторитетным исследователем истории социальной теории Йоханом Хейлброном[48], описывающим режимы дисциплинарности на основе идей Бурдьё, отметим три базовых этапа развития современных наук о человеке — как «классических» (филология, история), так и «новых», вроде социологии или психологии.
1. Это «эпоха водораздела» (Sattelzeit — по Козеллеку), 1750-1850 гг., когда происходит становление исходных постулатов дисциплинарного развития в основных отраслях науки о человеке. Наследие классического века[49], просветительские рационалистические доктрины о «человеческой природе» и эмпирическом разнообразии нравов, а также романтический подход (Гердер) с элементами историцистского мышления — приложение этих общих познавательных установок к разнообразному конкретному материалу дало возможность реализоваться специализированной учености в университетах и академиях Европы, Америки и России. Постулирование научности нового знания о человеке (в отличие от традиционного «знаточества», прежней любительской деятельности обществ и ассоциаций), расширение и специализация поля исследований, обращение к статистическим и географическим данным — все это позволило выстраивать ландшафт знаний о человеке уже по определенным кластерам[50]. Особенно значимым было распространение специализации и профессиональной модели в системе высшего образования, благодаря рецепции реформ Гумбольдта и схожих новаций в европейских странах[51]. Первенство в деле дисциплинаризации принадлежит скорее историко-филологическим дисциплинам (в частности, благодаря системе семинаров)[52]. Именно тогда формируются словари ключевых понятий современных дисциплин, складывается представление о взаимном соответствии между теми или иными отраслями знания и факультетами, академическими кафедрами и определенными профессиональными сообществами. Социология (и психология, понятая как продолжение физиологии) отделяются — под знаком позитивизма — от прежних наук о человеке и начинают им противостоять, постепенно обретая признание и на институциональном уровне[53].
2. 1890-1920-е годы — период интенсивного онаучивания и модернистских импульсов, оказавших влияние на формирование главных исследовательских программ в поле наук о человеке[54]. Новые социальные науки (социология и наука о политике), экономика, широко использующая математические модели, и экспериментальная психология укрепляют свой методологический статус и публичный престиж — что приводит к созданию новых департаментов и факультетов или переориентации уже существующих. Рубеж веков ознаменовался конфликтами (правда, скорее идеологическими, чем дисциплинарными) между сторонниками традиционной гуманитарной учености и приверженцами новых, «точных» стратегий в науках о человеке; особенной возмутительницей спокойствия была именно социология, как правило, связанная с прогрессистскими общественными тенденциями и политическими движениями[55]. Добавим — это было и время кризиса, особенно после Первой мировой войны, и неокантианского идеализма и эволюционистского позитивизма[56]. К концу этого периода важно также отметить рост интереса к историцистским построениям, целостным моделям и таким разным доктринам, как феноменология и марксизм[57].
3. Период после 1945 г., когда складывается современная и привычная нам сеть институций и методологических представлений о содержании и границах главных гуманитарных и социальных дисциплин. Главной моделью организации науки становится формат Big Science — не только в подражание естественным наукам, но и в связи с практическим использованием результатов академической работы, широким распространением экспертных исследований, прикладными запросами государства всеобщего благосостояния[58]. На этом этапе в гуманитарных науках особенно выделяется рост популярности структуралистских или функциональных моделей с постепенным нарастанием критики сциентистских допущений и аксиом 1960-х годов[59]. Особенное влияние, помимо экономики, приобретают дисциплины, занимающиеся психологической проблематикой, поведенческими аспектами социального, экономического развития, а также антропология, в ином свете представляющая базовые постулаты прежних представлений о человеке[60]. И логика комплексной реконструкции настоящей и прошлой социальной реальности, и политика фондов, существенно влияющих на приоритеты социогуманитарного знания в западном мире во второй половине ХХ в., ориентируют на создание и распространение различных форм междисциплинарного взаимодействия или продвижение проектов на стыке нескольких исследовательских областей[61].
Выделяя эти три базовых периода, Йохан Хейлброн отталкивался и от функционалистского анализа (Никлас Луман, Рудольф Штихве[62]), и от историко-познавательных периодизаций раннего Фуко («Слова и вещи»), стремясь переосмыслить эти подходы к дисциплинарности в духе исторической социологии научного развития. Однако, на наш взгляд, Хейлброн недостаточно учитывал несходство динамики, с одной стороны, наук об обществе и, с другой стороны, «чисто гуманитарных» дисциплин, а также слишком бегло коснулся эволюции методологических идей. Именно эта задача исторического и социологически насыщенного описания, не сводимая к выстраиванию линейной, единой и всеобъемлющей модели «дисциплинаризации» знания, и стояла перед авторами книги.
Мы опирались на целый ряд исследований, которые позволяют увидеть картину развития ключевых социогуманитарных дисциплин, существенно отличающуюся от той, что до сих пор представлена в большинстве учебников (методология которых сложилась еще в 1970-1980-е годы). В качестве ориентиров для нашей монографии следует назвать и зарекомендовавшие себя методологически выверенные работы Мартина Куша о психологизме[63] или Курта Данцигера о субъекте как ключевой категории психологической науки в XIX столетии[64], и монографические исследования отдельных дисциплин по странам — таковы работы Стефана Коллини и Ребы Соффер (для Великобритании)[65], Лорана Мюкьелли и Оливье Дюмулена (для Франции)[66], Бернда Фауленбаха и Петера Шёттлера (для Германии)[67]. Отдельно стоит упомянуть пионерскую работу Вольфа Лепениеса («Три культуры», 1985)[68] о становлении социологической традиции в разных национальных сообществах и исследование Петера Вагнера («Социальные науки и государство», 1990)[69] о влиянии потестарных институтов (в их интервенционистской ипостаси) на обществознание ХХ в.
4. Рефлексия дисциплинарности
Если теперь, опираясь на представленную выше схему эволюции режимов дисциплинарности, попытаться выделить главные этапы рефлексии дисциплинарности, то бросится в глаза характерное отставание теоретической мысли от соответствующей практики дисциплиностроительства. Ведь в отличие от самих дисциплин, формирование базовых историографических традиций в большинстве наук о человеке пришлось уже на первые десятилетия ХХ в. Хотя первые обобщающие труды по истории классических штудий, систематические историко-философские очерки, появились еще в «классическую эпоху», а в период Просвещения даже становились учебными руководствами[70], все таки эта сфера историко-научных штудий несла на себе печать прежней вспомогательной (или дилетантской) работы ученых на отдыхе. Занятия историей своей науки еще не были тогда специфическим средством продвижения и укрепления своей дисциплины. Пожалуй, именно с философии в немецких университетах уже с середины XIX в. начинается использование историографии конкретной науки для повышения ее статуса — и именно как отдельной дисциплины, а не пропедевтического курса всей совокупности знаний[71]. Другой пример дает история, где изучение прошлого исторической науки в XIX в. в разных национальных традициях работало скорее на самосознание профессии (или на представление науки о прошлом как формы национального самосознания), чем на методологическое совершенствование ремесла[72]. Здесь, как и в филологии, появление компаративных сюжетов в истории своей дисциплины означало выход на новую ступень дисциплинарной рефлексии[73]. В этом качестве следует рассматривать книги швейцарского историка Эдуарда Фютера (1976—1928)[74] и британца Джорджа Пибоди Гуча (1873-1968)[75]; сюда можно отнести и «Главные течения русской исторической мысли» (1896) Павла Милюкова, а также сводную книгу американца Генри Элмера Барнса (1889-1968) по историографии[76]. В 1920-е годы появляются работы Эдвина Боринга об истории экспериментальной психологии[77], книга Питирима Сорокина о течениях социологической мысли (1928)[78] и обобщающий труд Ульриха фон Вилламовица по истории античной филологии[79]. К этому кругу обобщающих трудов можно отнести и опубликованную посмертно «Историю экономического анализа» (1954) Йозефа Шумпетера. Эти работы еще не образуют никакого общего горизонта (например, истории знания о человеке в целом); скорее фоном, чем прямым образцом для них может служить историография естественных наук. Интересно, что именно тогда американский историк Джордж Сартон предпринимает решающие усилия по институционализации истории науки — собственно говоря, истории естествознания — и ставит вопрос о целостной картине развития представлений о природе, вопреки растущей специализации и дифференциации[80].
Конец 1930-х годов стал временем разработки (усилиями Отто Нейрата и его единомышленников, эмигрировавших из Вены в США) той энциклопедической модели «единства науки» на основе позитивистских постулатов и приоритета естествознания, которая еще несколько десятилетий пользовалась немалой популярностью и в Европе, и в Северной Америке[81].
Следующий пик теоретической разработки проблем дисциплинарности (в области ее истории) пришелся на конец 1950 — первую половину 1960-х годов. В этот период предметом публичного внимания стал «спор о двух культурах» писателя и популяризатора науки Чарльза Сноу и литературного критика Фрэнка Р. Ливиса в Великобритании[82], вышла книга Томаса Куна «Структура научных революций», а Мишель Фуко написал «Слова и вещи» — книгу, посвященную «археологии гуманитарных наук» и сразу ставшую интеллектуальным бестселлером. Указанные работы немедленно получили известность далеко за пределами локальных научных и культурных сообществ, в которых были созданы[83]. Преодолев и цензурные препоны «второго мира», они завоевали признание также по ту сторону «железного занавеса». И ученым вообще, и гуманитариям в частности[84], эти книги предложили актуальный и социально ангажированный язык самопонимания, развернутый в прошлое, словарь рабочих понятий и ряд ярких, узнаваемых метафор, теоретически нагруженную характеристику истоков и оригинальных черт структурализма, завоевывающего себе все больше поклонников[85]. Работа Фуко, например, превзошла масштабный и долголетний (но на ее фоне явно старомодный) проект по изучению гуманитарных наук его старшего современника — французского философа Жоржа Гусдорфа (1912-2000)[86]. Показательно, что у Куна, начиная с послесловия (1970) к его главной книге, идея дисциплинарной матрицы фактически заменяет ключевое прежде понятие парадигмы; оно так и не стало ключом к историко-научным описаниям главных наук о природе (физики, химии, математики) XIX в.[87], зато открыло дорогу разностороннему изучению академических практик. Последующие два десятилетия именно приложение идей Куна к истории той или иной гуманитарной науки (даже если ответ о возможности применения понятия «научная революция» был, как правило, скептическим) уже само по себе стало показателем растущей однородности языка дисциплинарной рефлексии[88]. Устойчивый рост институциональных показателей научного развития во всем мире, технизация и стандартизация работы, выход вперед социальных дисциплин и психологии (behavioral sciences[89]) также способствовали развитию исторического «самосознания» разных подразделений гуманитарного знания. И развитие социологии науки, и рост популярности социологических методов у гуманитариев (все равно, у последователей ли Франкфуртской школы, у социоаналитического подхода Бурдьё или в духе «сильной программы» социологии знания) демонстрировали важный сдвиг от исходного эпистемологического полюса самопонимания науки к «популяционным» моделям ее развития[90]. Заимствованное из биологии понятие «популяции» отсылает не к эволюционистским моделям Стивена Тулмина[91], а к видению науки в первую очередь с точки зрения конкуренции и столкновения групповых интересов, перераспределения власти, контроля ресурсов. Описание развития прошлого социальных наук в смысле «экологии дисциплин» уже в начале 1970-х годов[92] стало важным свидетельством отхода от традиционных историко-научных нарративов в пользу комплексного науковедческого анализа (с обращением к социологии науки, организационным теориям и т.д.). Уже к середине века, по сути, отходит на периферию содержательной рефлексии проблематика классификации наук, ранее столь занимавшая умы ученых и философов от Бэкона и Ампера до Больцано и Спенсера[93], — она сменяется комплексом вопросов о социальной организации науки, в том числе и по дисциплинарному признаку[94].
В 1980-е годы наступает время сознательной координации и объединения усилий ученых разных стран для целостной реконструкции истории наук о человеке. И первенствующую роль тут играют социальные науки (перехватив гегемонию у классических гуманитарных) — именно вокруг истории социологии и эволюции социальной теории концентрируются основные усилия историков знания, философов[95]. Это, конечно, связано и с количественным ростом научных и вузовских структур, готовящих специалистов соответствующего профиля. С 1960-х годов появляются специализированные общества (или секции больших дисциплинарных ассоциаций), а также журналы по истории наук о человеке — вначале по психологии и экономике (в США — «Journal of the History of the Behavioral Sciences» с 1965 г., «History of Political Economy» с 1969-го, в Великобритании — «Journal of the History of Economic Thought» с 1979-го, «History of Human Sciences» — c 1988-го, во Франции — «Revue d’Histoire des Sciences Humaines» с 1999 г.), затем и по истории социальных наук, а также сериальные издания по истории исторической науки. С одной стороны, на сегодняшний день широта и качество обсуждения творчества классиков социологии (Маркса, Вебера, Дюркгейма)[96] намного превосходят «традиционную» разработку наследия Ранке, Дройзена, Гумбольдта или Шлейермахера[97] и становятся вполне сопоставимы с экзегетическими «индустриями» изучения великих философов, вроде Платона, Гегеля или Витгенштейна[98]. С другой стороны, обращение к истории понятий в европейском контексте (от Квентина Скиннера и Райнхарда Козеллека до Лютца Данненберга, включая и метафорологию Ханса Блюменберга[99]) существенно расширяют поле историко-методологической рефлексии у гуманитариев.
Важную роль в глобальной интеграции социального знания уже после стабилизации дисциплинарных комплексов играют англоязычные энциклопедии — 15-томная «Encyclopaedia of the Social Sciences» (под редакцией Эдварда Селигмена и Элвина Джонсона) 1930-х годов, затем «International Encyclopaedia of the Social Sciences» под редакцией Роберта Мёртона и Дэвида Шилза (1968) и, наконец, новейшая «International Encyclopaedia of the Social and Behavioral Sciences» (2001, под редакцией Нейла Смелзера и Пола Белтса — в 26 томах[100]). Итоговым для этого периода можно считать немецкую монографию Петера Вагнера и несколько важных сборников под его редакцией[101]. Однако уже к середине 1990-х при всем бесконечном изобилии материала и первоначальном энтузиазме участников это впечатляющее начинание — построение компаративной истории общественных дисциплин за последние два века — постепенно застопорилось; в частности, остался невостребованным и амбициозный проект «социологии философий» Рэнделла Коллинза[102]. Почему это произошло? Одно из возможных объяснений, на наш взгляд, — слишком явный акцент на роль общественных и государственных факторов в развитии социальных наук в ХХ в. Следуя этой очень перспективной методологии, обогащенной достижениями Бурдьё и Рингера, можно упустить специфику и автономию когнитивного развития дисциплины, которое далеко не всегда может быть объяснено, даже в конечном счете, лишь социальными факторами. «Социальное объяснение» оказалось в начале XXI в. слишком широким понятием, для удовлетворительной реализации которого нужно было учесть микросоциальную среду научных школ и институций, зависимость и одновременно дистанцирование ученых от идеологической конъюнктуры, соотношение формальных и неформальных факторов, проблематику несоответствия и сложной взаимопереводимости «эпистемических культур» (Карин Кнорр-Цетина) в разных дисциплинах.
Дальнейшие исследовательские траектории, которыми двинулись в своей эволюции сторонники социальной истории социальных наук, указывают на «слепые зоны» прежнего подхода и возможные будущие аналитические стратегии. Прежде всего, это анализ систем оценок и интерсубъективных режимов взаимодействия (следуя идеям Люка Болтански и Лорана Тевено), в том числе и в работе академической экспертизы[103], анализ границ разных областей и неоднородных (иерархических, в том числе имперских) порядков знания. Заслуживает внимания попытка «наведения мостов» между теориями множественной модерности (Йохан Арнасон, Шмуэль Эйзеншадт), исторической семантикой в духе Козеллека и новой философией современности, учитывающей вклад позднего Фуко и Хабермаса, у шведского теоретика Бьорна Виттрока[104] и Петера Вагнера.
Один из самых перспективных подходов к рассматриваемой проблематике принадлежит Эндрю Эбботу, который последовательно пытается пересмотреть саму дилемму «эпистемология vs. социология» в анализе дисциплинарной динамики и анализирует профессиональное сообщество, системы присвоения степеней и взаимодействие ученых сообществ с более широкой аудиторией[105]. Поэтому вопрос о сообществах и границах[106], а также о сложном эпистемическом устройстве дисциплинарных комплексов становится насущным в современной ситуации и указывает на недостаточность таких полярных (и заслуженно популярных с 1980-х годов) подходов, как социоанализ Бурдьё или системный подход Лумана. Ни распределение специфического капитала, ни иерархизация или дифференциация устройства тех или иных научных областей, как нам кажется, не в состоянии представить ключевой механизм дисциплинарной динамики в прошлом или настоящем, они могут лишь объяснить отдельные ее стороны.
Заметной чертой дисциплинарной рефлексии 2000-х годов в отходе от крайностей социал-конструктивизма или акторно-сетевого подхода Бруно Латура стало также обращение к историческим достижениям философии науки (у Дж. Заммито[107]), интерес к исторической онтологии и «стилям научного рассуждения» у представителей так называемой Стэнфордской школы — Яна Хакинга, Питера Галисона и их единомышленников[108].
Эта теоретическая нагруженность новых подходов к дисциплинарности, обилие конкретных работ, журналов и перспективных проектов по тем или иным дисциплинам[109], а также растущий интерес к ранненововременной проблематике, проявленные за последние два десятилетия, обещают возможность будущих новых синтезов[110] — в том числе на основе активно разрабатываемой социальной истории знания[111]. Пока же снова следует обратить внимание на насущную необходимость взаимодействия вырвавшейся вперед историографии социальных наук с историографией наук гуманитарных. Именно в домене историографии гуманитарного знания в последние десятилетия происходят важные перемены, в частности — обогащение видения прошлого гуманистических штудий за счет раскрытия их теснейших связей с соответствующими проблемами юриспруденции, теории логики и риторики[112], медицинского мышления[113], политической философии и анализа систем коммуникации[114] и колониального знания[115].
Критическая рефлексия дисциплинарных канонов и практик коснулась и политической науки (попытка использовать методологию Куна у Ш. Волина[116]), антропологии, истории искусства и других отраслей знания[117]. Кажется, на этой основе по новому можно будет переосмыслить — спустя полвека — базовые постулаты «Слов и вещей» Мишеля Фуко об исторической связи жизни, языка и труда в их рефлексивном отображении в эволюции протодисциплинарного знания[118].
Особенно стоит отметить разделяемый авторами монографии интерес к предложенным еще в «додисциплинарную» эпоху органицистским или вероятностным логикам объяснения, которые периодически оказываются востребованными и действенными на новых поворотах развития социогуманитарного знания[119]. В числе таких моделей следует упомянуть гоббсову проблематику социального порядка (у Парсонса), сохранение переосмысленного античного образа полиса как модельного для разработки политической теории и философии (Ханна Арендт, Лео Штраус)[120] укажем и внимание к антропологии эпохи Просвещения (Джон Заммито[121]), актуальную значимость понятийно-правовых моделей раннего Нового времени и возрождение интереса к риторике социальной науки (Дрейдре МакЛоски, Аллен Мегилл[122]).
5. Структура монографии
Три раздела книги выстроены следующим образом:
Раздел I. Анализ дисциплинарности, исходящий из современной перспективы, позволяет удержать ее проблематичное единство и видеть ее истоки. Поэтому авторы первой части монографии обращаются к XVII—XVIII вв., когда разные элементы знания о человеке еще только складываются в дисциплинарные комплексы и не являются науками в привычном нам статусе (а не смысле)[123]. В главе Павла Соколова рассматривается проблематика метода применительно к тем областям знания и опыта, которые ранее веками (согласно Аристотелю) не могли быть предметом систематического, научного рассмотрения. И только с середины XVI столетия усилиями философов и ученых складываются предпосылки эпистемологического упорядочивания сферы человеческого опыта. В главе Юлии Ивановой предметом исследования становится история идей и гражданская наука (как самостоятельные области складывающейся «науки о контингентном»). Наталья Осминская на примере Лейбница подробно показывает становление идей единства и сложно структурированной иерархии знаний к концу XVII столетия, которые затем были реализованы в работе берлинской Академии наук.
Речь идет о таких принципах распределения знания и дифференциации методов, которые становятся своего рода прообразом будущих разделительных дисциплинарных перегородок.
Раздел II. В главах второго раздела книги показано, сколь разнонаправленными были тенденции в дисциплинарном поле социогуманитарных наук последних двух веков. С одной стороны, это поле испытывало воздействие одновременно и романтической, и сциентистской установок, а с другой — оно складывалось под прямым влиянием прагматических императивов рационализации управления и национального строительства. Одна из центральных тем, возникающих в связи с принципом дисциплинарности применительно к XIX в., — проблема дезинтеграции таких синкретических дисциплинарных формаций, как просветительская «естественная история», которая ранее интегрировала принципы изучения природного мира и социальной реальности.
В исследовании Лорен Дастон, известной недавними глубокими работами по истории научной объективности, показана роль коллективных установок и традиционных структур (особенно академий наук), периодических изданий, университетской дидактики для закрепления дисциплинарных принципов[124]. В центре исследования Петра Резвых — немецкие ученые дискуссии эпохи романтизма о статусе мифологии как особой исследовательской области (потом она станет предметом новых дисциплин и познавательных стратегий — сравнительного религиоведения, искусствоведения, философии религии и психоанализа). В главе, написанной Владиславом Боярченковым, речь идет о самоопределении русской науки о древностях между аналитическими, описательными и «вспомогательными» (относительно историографического гранд-нарратива) стратегиями в середине XIX столетия. Владимир Берелович избирает анализ риторики научного текста как способ изучения эволюции русской и украинской исторической мысли — под знаком ее онаучивания. Мишель Тисье в своей главе показывает сложное соотношение теоретических и практических задач в развитии российского правоведения конца XIX — начала ХХ вв. Он обращает внимание на то, что, с одной стороны, юридическая профессия и юридический факультет были наделены в России высоким социальным статусом и популярностью, а с другой стороны, теоретические разработки российских ученых (вроде Льва Петражицкого) шли в изоляции от эволюции права как практической специальности. Обращаясь к актуальным темам географии научного знания, Марина Могильнер, Илья Герасимов и Александр Семёнов рассматривают эволюцию дореволюционной российской социологии не только с точки зрения научных инноваций, но и как коллективный идейный поиск решений для дилемм имперского развития. К эпистемологической проблематике возвращается Григорий Юдин, который подчеркивает в феноменологическом проекте Эдмунда Гуссерля характерное и неотрефлексированное раздвоение на общую регулятивную (метанаучную) идею упорядочения всех дисциплин, с разработанной иерархизацией этих сфер («региональные онтологии» и т.д.), и на отдельную программу обновления философии как одной из множества наук. Комплексный, гетерогенный характер развития психологии, вопреки позднейшим унифицирующим историко-дисциплинарным нарративам, показывает на примере отечественной науки Антон Ясницкий, обращая внимание на множество исследовательских программ (психотехника, рефлексология, педология), из которых потом сложилась советская психология, уже после вмешательства властей в середине 1930-х годов. Исследование Александра Филиппова посвящено специфике развития советской социологии как науки, внешне вполне модернизированная практика которой на деле прямо отсылает к политическим и мировоззренческим установкам XVIII столетия. Завершает раздел обобщающая работа известного историка Рольфа Тоштендаля, который показывает важность профессионального фактора эволюции дисциплинарного поля на материале разных европейских стран.
Раздел III. Далее, в третьем разделе монографии, представлено взаимодействие двух разнонаправленных тенденций дисциплинарного развития. С одной стороны, это бурная «эмансипация» новых идей и направлений поверх привычной сетки дисциплин, в том числе углубляющийся разрыв между прежним устройством и новыми ориентирами интеллектуального развития. С другой стороны, для этого процесса во второй половине ХХ в. оказалась характерна устойчивость прежних форм организации знания, возрождение прежних симбиозов и дисциплинарных «консенсусов»: это показано на примере таких разных областей, как лингвистика, экономика и философия.
Открывается раздел главой Григория Юдина об осмыслении проблематики профессий в американской социологии 1950-1960-х годов, когда проблемой рефлексии становится и сама профессия социолога. В главе Бориса Степанова рассмотрена противоречивая динамика Cultural Studies, которые за полвека прошли путь от отрицания дисциплинарных канонов до признания в ряде академических сообществ и конкуренции с новыми «контрдисциплинами». Можно сказать, что представители Cultural Studies пытаются играть в области наук гуманитарных ту же роль незваных носителей социально-критической рефлексии, что и адепты Science & Technology Studies по отношению к наукам естественным. Оба критических направления пытаются быть больше чем дисциплиной и указывать «традиционным» оппонентам на их консерватизм, склонность к позитивизму, связь с патриархатом и капитализмом, а потому вызывают параллельную критику справа (дело Сокала, симметрично разворачивающиеся Science Wars и борьба вокруг гуманитарного преподавания в США конца 1990-х годов[125]). Работа Ирины Савельевой посвящена новым форматам функционирования исторической дисциплины в постиндустриальной цивилизации, что возвращает читателей к затронутой в статье В. Береловича проблематике взаимоотношения историка и его аудитории, а также ставит вопрос об изменчивости границы «науки» и «не-науки» применительно к гуманитарным профессиям. Далее Владимир Файер рассматривает коллизии внутри филологического цеха на примере лингвистов и языковедов из МГУ; притом для отечественных гуманитарных наук характерно сохранение (во многом из-за советских условий — как в негативном, так и позитивном смысле) филологии в качестве общей «зонтичной» дисциплины для отраслей знания о языке, литературе и тексте, тогда как в большинстве западных академических сообществ специалисты по языкам и литературе давно уже работают совершенно независимо, а название «филология» стало историческим — для обозначения прошлого науки, антиковедения или некоторых областей компаративного литературоведения[126]. Исследование Максима Дёмина посвящено эволюции университетской философии как профессионального сообщества при переходе от советской системы к постсоветской на рубеже 1990-х годов. Ростислав Капелюшников в своей работе аналитически описывает новейшие течения в экономической науке, отчасти построенные на импорте общих походов (но не объяснительных моделей) из наук о поведении. Он также рассматривает идейные предпосылки и политико-социальные следствия «поведенческой экономики», поскольку современные социальные дисциплины выступают и как экспертные инстанции. В главе Олеси Кирчик исследуются интернациональные факторы развития современной экономической науки и место российских экономистов в новых глобальных академических порядках. Завершает книгу совместная работа Оксаны Запорожец и Александра Дмитриева о социологическом анализе дисциплинарности в разнообразной исследовательской литературе, начиная с 1960-1970-х годов.
Приложение. Мы помещаем в приложении к нашей монографии перевод классической работы «Древняя история и любители древностей» великого итальянского исследователя Арнальдо Момильяно (1908-1987), опубликованной в журнале Института Варбурга в Лондоне (Момильяно покинул фашистскую Италию еще в конце 1930-х годов). Момильяно в этой своей давней статье фактически предвосхищает темы разграничения теоретических и практических аспектов дисциплинарной работы, которые станут предметом пристального внимания науковедов ближе к концу ХХ в.[127]
* * *
Появлению этой книги на свет способствовали благожелательное отношение и неизменная поддержка руководства НИУ ВШЭ и его Научного фонда. Особенно следует отметить заинтересованность, энтузиазм и неформальное, но очень существенное участие в реализации проекта сотрудников Института гуманитарных историко-теоретических исследований — Алексея Плешкова, Юлии Ивановой, Павла Соколова, Кирилла Левинсона и младших коллег — Александры Колесник, Анастасии Шалаевой, Сергея Матвеева, Александра Махова. Наш приятный долг — выразить им глубокую признательность и благодарность.
Предлагаемая вниманию читателей монография продолжает и аккумулирует результаты исследований ИГИТИ об университете как идее и институте, а также о феномене «национальной науки» в контексте мирового развития[128]. Все эти проекты и первоначальная идея книги появились на свет благодаря талантливому человеку и замечательному ученому, с которым нам выпало счастье работать, — Андрею Владимировичу Полетаеву. Обсуждая этот замысел и отдельные части работы, ее составители и сотрудники Института не раз внутренне задавались вопросом: «Как бы А.В. отреагировал на эту идею? Что бы сделал сейчас на нашем месте? Как переформулировал бы главную мысль?» Ведь раньше мы могли быть спокойны, ибо все наши сомнения, притязания или робость всегда усмирялись и уравновешивались иронией, эрудицией и великодушием Андрея Владимировича. Теперь его «неклассическое наследие» остается для нас важным ориентиром, точкой отсчета в жизненных поступках и исследовательских озарениях.
[1] Применительно к школьным «предметам» см.: Chervel A. L'histoire des disciplines scolaires. Réflexions sur un domaine de recherche // Histoire de l’éducation. 1988. No. 38. P. 59-119; Goodson I.F. School Subjects and Curriculum Change. Case Studies in Curriculum History. L.: The Falmer Press, 1987; The Formation of School Subjects. The Struggle for Creating an American Institution / T.S. Popkewitz (ed.). L.: The Falmer Press, 1987 и обзор: Vinao A. Les disciplines scolaires dans l’historiographie européenne. Angleterre, France, Espagne // Histoire de l’éducation. 2010. No. 125. Р. 73-98.
[2] См.: History and the Disciplines. The Reclassification of Knowledge in Early Modern Europe / D.R. Kelley (ed.). Rochester, NY: The University of Rochester Press, 1997; Valenza R. Literature, Language, and the Rise of the Intellectual Disciplines in Britain, 1680-1820. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, а также статью руководителя авторского коллектива, подготовившего шеститомную историю Гумбольдтовского университета в Берлине к его 200-летнему юбилею: Tenorth H.-E. Genese der Disziplinen — Die Konstitution der Universität. Zur Einleitung // Geschichte der Universität Unter den Linden. Bd. 4. Berlin: Akademie Verlag, 2010. S. 9-40.
[3] См. сборник: The Seven Liberal Arts in the Middle Ages / D.L. Wagner (ed.). Bloomington: Indiana University Press, 1983 и известную статью: Weisheipl J. Classification of the Sciences in Medieval Thought // Mediaeval Studies. 1965. Vol. 27. P. 54-90.
[4] Schneider J.H.J. Wissenschaftseinteilung und institutionelle Folgen // Philosophy and Learning. Universities in the Middle Ages / M.J.F.M. Hoenen, J.H.J. Schneider, G. Wieland (eds). Leiden; N.Y.; Köln, 1995. P 63-121. О кантовском «споре факультетов», за которым еще, по сути, не стояло дисциплинарных различий, см. статьи Рикардо Поццо: Pozzo R. Kant’s Streit der Fakultäten and Conditions at Königsberg // History of Universities. 2000. Vol. 16. P. 96-128; Pozzo R., Oberhausen M. The Place of Science in Kant’s University // History of Science. 2002. Vol. 40. No. 2. Р. 353-368.
[5] Grafton A., Jardine L. From Humanism to the Humanities. Education and the Liberal Arts in Fifteenth and Sixteenth-Century Europe. L.: Duckworth, 1986.
[6] См.: Augustine and the Disciplines: From Cassiciacum to Confessions / K. Pollmann, M. Vessey (eds). Oxford: Oxford University Press, 2005.
[7] Cohen I.B. Revolution in Science. Cambridge, MA.; L.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1985. Р. 91-102.
[8] О Берлинском университете начала 1810-х годов см.: Ziolkowski Th. Clio the Romantic Muse: Historizing the Faculties in Germany. Ithaca: Cornell University Press, 2004.
[9] Burke P. A Social History of Knowledge. Vol. I: From Gutenberg to Diderot. Cambridge: Polity, 2000. Р. 91-92 (ch. 5: Classifying Knowledge: Curricula, Libraries and Encyclopaedias).
[10] Delmas C. Instituer des savoirs d’État. L’Académie des sciences morales et politiques au XIXe siècle. Р: L’Harmattan, 2006; Fox R. The Savant and the State: Science and Cultural Politics in Nineteenth-Century France. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2012.
[11] Yeo R. Defining Science: William Whewell, Natural Knowledge, and Public Debate in Early Victorian Britain. Cambridge: Cambridge University Press, 1993; Snyder L.J. Reforming Philosophy: A Victorian Debate on Science and Society. Chicago: University of Chicago Press, 2006. В материалах авторитетного сборника о Куне (Thomas Kuhn / Th. Nickles (ed.). Cambridge, U.K.; N.Y.: Cambridge University Press, 2003) показано, что в своих работах Кун при главном внимании к эпистемологии последовательно обращался и к проблематике практики, социальных порядков, концептуальной метафорики в науке, открывая новые пути ее понимания.
[12] См. важные работы середины 1990-х годов об общем соотношении наук о природе и наук об обществе: The Natural Sciences and the Social Sciences: Some Critical and Historical Perspectives / I.B. Cohen (ed.). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1993; Cohen I.B. Some Contacts between the Natural Sciences and the Social Sciences. Cambridge (Mass.): Cambridge University Press, 1994.
[13] Dierse U. Das Begriffspaar Naturwissenschaft — Geisteswissenschaft bis zu Dilthey // Kultur verstehen. Zur Geschichte und Theorie der Geisteswissenschaften / G. Kühne-Bertram, H.-U. Lessing, V. Steenblock (Hrsg.). Würzburg: Königshausen & Neumann, 2003. S. 15-34; Hermann von Helmholtz and the Foundations of Nineteenth-Century Science / D. Cahan (ed.). Berkeley: University of California Press, 1993; Lenoir T. Instituting Science: The Cultural Production of Scientific Disciplines. Stanford, CA: Stanford University Press, 1997.
[14] History of Scholarship: A Selection of Papers from the Seminar on the History of Scholarship Held Annually at the Warburg Institute / C.R. Ligota, J.-L. Quantin (eds). Oxford: Oxford University Press, 2006.
[15] Это осознавалось уже в конце XVIII столетия: Meyer A. Von der Wahrheit zur Wahrscheinlichkeit: Die Wissenschaft vom Menschen in der schottischen und deutschen Aufklärung. Tübingen: Niemeyer, 2008. S. 46-50.
[16] О генезисе современных представлений о «humanities», преимущественно в американском изводе, см.: Harpham G.G. The Humanities and the Dream of America. Chicago: University of Chicago Press, 2011.
[17] В XVIII и XIX вв. в Европе аналогом современных наук о человеке был комплекс моральных и политических наук; знаменитое немецкое понятие Geisteswissenschaft появилось в переводе (1849) «Системы логики» Дж.Ст. Милля (1842) именно как аналог moral sciences (и было позднее детально разработано у Дильтея в его «Введении в науки о духе» (1883)). См.: Makkreel R., Luft S. Dilthey and the Neo-Kantians: The Dispute Over the Status of the Human and Cultural Sciences // The Routledge Companion to Nineteenth Century Philosophy / D. Moyar (ed.). L.: Routledge, 2010. P 554-597; Makkreel R. The Emergence of the Human Sciences from the Moral Sciences // Cambridge History of Nineteenth-Century Philosophy / A. Wood, S.S. Hahn (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P 293-322.
[18] Kellert S.H. Disciplinary Pluralism for Science Studies // Scientific Pluralism / S.H. Kellert, H.E. Longino, C.K. Waters (eds). Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006. P. 215-230; Biagioli M. From Relativism to Contingentism // The Disunity of Science: Boundaries, Contexts, and Power / Р. Galison (ed.). Stanford, CA: Stanford University Press, 1996. P. 189-207.
[19] Whitley R. Sociology of Scientific Developments // Perspectives in the Sociology of Science / S.S. Blume (ed.). Chichester: J. Wiley, 1977. P. 21-50; Уитли Р. Когнитивная и социальная институциализация научных специальностей и областей исследования // Научная деятельность: структура и институты. М., 1980. С. 218-257; Маллинз Н. Модель развития теоретических групп в социологии // Научная деятельность: структура и институты. М.: Прогресс, 1980. С. 257-282.
[20] Главными работами были исследования Джулии Томпсон Клейн: Klein J.T. Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice. Detroit: Wayne State University Press, 1990; Idem. Humanities, Culture, and Interdisciplinarity: The Changing American Academy. Albany: State University of New York Press, 2005; см. также: Repko A. Interdisciplinary Research: Process and Theory. Thousand Oaks: SAGE, 2011.
[21] Marcovich A., Shinn T. Where Is Disciplinarity Going? Meeting on the Borderland. Studies of Science and Technology // Social Science Information. 2011. No. 50 (3-4). P. 582-606.
[22] Critical Inquiry. 2009. Summer. Vol. 35. No. 4. (рус. пер. одной из статей: Пост Р. Дискуссии о дисциплинарности // Новое литературное обозрение. 2011. № 107. С. 12-31); Quest-ce qu’une discipline? / J. Boutier, J.-C. Passeron, J. Revel (eds). P, Éditions de L’EHESS, 2006; Lloyd G.E.R. Disciplines in the Making: Cross-Cultural Perspectives on Elites, Learning and Innovation. Oxford: Oxford University Press, 2009. Применительно к гуманитариям: Marcus S. Humanities from Classics to Cultural Studies: Notes Toward the History of an Idea // Daedalus. 2006. Vol. 135. No. 2. Р 15-21; Богданов К.А. Гуманитарий — где, когда и почему: социометрия и (русский) язык // Новое литературное обозрение. 2006. № 5. С. 18-29.
[23] Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки: ее генезис и обоснование. М.: Наука, 1988.
[24] Наиболее показательна здесь коллективная монография: Наука глазами гуманитария / под ред. В.А. Лекторского. М.: Прогресс-Традиция, 2005.
[25] Burnett G.D. A View from the Bridge: The Two Cultures Debate, Its Legacy, and the History of Science // Daedalus. 1999. Vol. 128. No. 2. Р. 193-218; Oexle O.G. Naturwissenschaft und Geschichtswissenschaft. Momente einer Problemgeschichte // Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Kulturwissenschaft. Einheit — Gegensatz — Komplementarität / O.G. Oexle (Hrsg.). Göttingen, Wallstein-Verlag, 1998. S. 99-151.
[26] Hull D. Science as a Process: An Evolutionary Account of the Social and Conceptual Development of Science. Chicago: University of Chicago Press, 1988.
[27] Schunn C.D., Crowley K., Okada T. Cognitive Science: Interdisciplinarity Now and Then // Interdisciplinary Collaboration: An Emerging Cognitive Science / S.J. Derry, C.D. Schunn, M.A. Gernsbacher (eds). Mahwah, NJ: Erlbaum, 2005. Р. 287-315.
[28] Galison P. Objectivity Is Romantic // Humanities and the Sciences / J. Friedman, P. Galison, S. Haack (eds). Washington: ACLS, 2000. P 15-43; Veit-Brause I. Scientists and the Cultural Politics of Academic Disciplines in Late 19th-century Germany: Emil Du Bois-Reymond and the Controversy over the Role of the Cultural Sciences // History of the Human Sciences. 2001. Vol. 14. No. 4. Р 31-56.
[29] В современной социологии обращение к необходимости «воображения» актуально со времен Ч.Р Миллса, но также релевантно и для классических текстов (сопоставление Макса Вебера и Томаса Манна, романа-репортажа и социологии Чикагской школы и т.д.). См.: Goldman H. Max Weber and Thomas Mann: Calling and the Shaping of the Self. Berkeley: University of California Press, 1988; Imaginative Methodologies in the Social Sciences: Creativity, Poetics and Rhetoric in Social Research / M.H. Jacobsen, M.S. Drake (eds). Farnham: Ashgate, 2014.
[30] Гумбрехт Х.У. Ледяные объятия «научности», или Почему гуманитарным наукам предпочтительнее быть «Humanities and Arts» // Новое литературное обозрение. 2006. № 5. С. 7-17.
[31] Кузнецова Н.И. Презентизм и антикваризм — две картины прошлого // Arbor Mundi. Международный журнал по теории и истории мировой культуры. М., 2009. Вып. 15. С. 164-196; Jardine N. Whigs and Stories: Herbert Butterfield and the Historiography of Science // History of Science. 2003. Vol. 41. P. 125-140.
[32] Классика и классики в социальном и гуманитарном знании / под ред. И.М. Савельевой, А.В. Полетаева. М.: Новое литературное обозрение, 2009. См. также: Welz F. Zum Verhältnis von Geschichte und Systematik der soziologischen Theorie nach Robert K. Merton // Österreichische Zeitschrift für Soziologie. Jg. 35. Nr. 3. S. 19-37.
[33] Для экономической науки ведущим остается подход «от современности», представленный, например, в известной работе Марка Блауга: Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / пер. с англ. 4-е изд. М.: Дело ЛТД, 1994. См. спектр разнообразных путей анализа истории экономической мысли в сборнике: Historians of Economics and Economic Thought: The Construction of Disciplinary Memory / S. Medema, W. Samuels (eds). L.: Routledge, 2001. Для историографии социологии важной была реплика Р. Джонса (на примере рецепции Дюркгейма): Jones R.A. On Understanding a Sociological Classic // American Journal of Sociology. 1977. Vol. 83. Р. 279-319. См. общий обзор: Turner S. Defining a Discipline: Sociology and Its Philosophical Problems from Its Classics to 1945 // Handbook of Philosophy of Anthropology and Sociology / S. Turner, M. Risjord (eds). Amsterdam: Elsevier, 2007. P. 3-69.
[34] Сюда входят и специфика античного наследия, и феномен медиевализма, и важность классики как идентификационного пункта для традиционных гуманитарных дисциплин. См.: Disciplining Classics // Altertumswissenschaft als Beruf / G.W Most (Hrsg.). Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 2002. S. 253-269; Die modernen Väter der Antike. Die Entwicklung der Altertumswissenschaften an Akademie und Universität im Berlin des 19. Jahrhunderts / C.G. King (Hrsg.). Berlin: de Gruyter, 2009.
[35] О необходимости «умеренного» и рефлексивного презентизма для истории идей и истории науки убедительно писал Карлос Шпёрхазе: Spoerhase C. Presentism and Precursorship in Intellectual History // Culture, Theory and Critique. 2008. Vol. 49. No. 1. Р. 49-72.
[36] См.: Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время: В поисках утраченного. М.: Изд-во «Языки русской культуры», 1997. О рождении термина «социальные науки» см.: Head B. The Origins of ‘La Science Sociale’ in France, 1770-1800 // Australian Journal of French Studies. 1982. Vol. 19. Р. 115-132; Wokler R. Ideology and the Origins of Social Science // The Cambridge History of Eighteenth-Century Political Thought / M. Goldie, R. Wokler (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Р. 688-710.
[37] Ср. показательный и отрефлексированный «двойной» интерес австралийского ученого Иэна Хантера и к истории гуманитарной теории второй половины ХХ в., и к эпохе Просвещения (промежуточным пунктом размышлений становится расхождение неокантианства и феноменологии в 1910-1920-е годы): Hunter I. Rival Enlightenments: Civil and Metaphysical Philosophy in Early Modern Germany. Cambridge: Cambridge University Press, 2001; Idem. The History of Theory // Critical Inquiry. 2006. Vol. 32. No. 4. Р. 78-112; Idem. Scenes from the History of Poststructuralism: Davos, Freiburg, Baltimore, Leipzig // New Literary History. 2010. Vol. 41. P 491-516.
[38] См. ее очерк на примере филологии: Hummel P Histoire de l’histoire de la philologie: étude d’un genre épistémologique et bibliographique. Genève: Droz, 2000.
[39] Классика и классики в социальном и гуманитарном знании / под ред. И.М. Савельевой, A.В. Полетаева. Классическое наследие. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010.
[40] Примеры удачного синтеза, в домене немецкоязычной историографии: Kultur und Kulturwissenschaften um 1900. Krise der Moderne und Glaube an die Wissenschaft / R. vom Bruch, F.W. Graf, G. Hübinger (Hrsg.). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1989; Kultur und Kulturwissenschaften um 1900 II: Idealismus und Positivismus. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1997, применительно к экономике и юриспруденции — Deutsche Geisteswissenschaften zwischen Kaiserreich und Republik. Zur Entwicklung von Nationalökonomie, Rechtswissenschaft und Sozialwissenschaft im 20. Jahrhundert / B. Schefold, K. W Nörr, F. Tenbruck (Hrsg.). Stuttgart: Steiner, 1994; Kersten J. Georg Jellinek und die klassische Staatslehre. Tübingen: Mohr-Siebeck, 2000; Krise des Historismus, Krise der WirklichkeitWissenschaft, Kunst und Literatur 1880-1932 / O.G. Oexle (Hrsg.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007; Glaeser J. Der Werturteilsstreit in der deutschen Nationalökonomie: Max Weber, Werner Sombart und die Ideale der Sozialpolitik. Weimar: Metropolis-Verlag, 2014.
[41] См.: Collini St. “Disciplinary History” and “Intellectual History”: Reflections on the Historiography of the Social Sciences in Britain and France // Revue de synthese. 1988. Vol. 3. No. 4. Р. 387-399.
[42] См., например: Pour une histoire des sciences sociales: hommage à Pierre Bourdieu / J. Heilbron, R. Lenoir, G. Sapiro (eds). P: Fayard, 2004.
[43] Latour B., Woolgar S. Laboratory Life. The Construction of Scientific Facts. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979; Knorr-Cetina K.D. The Manufacture of Knowledge: An Essay on the Constructivist and Contextual Nature of Science. Oxford: Permagon Press, 1981.
[44] Levine D.N. Visions of the Sociological Tradition. Chicago; L.: The University of Chicago Press, 1995.
[45] Smith R. The Fontana History of the Human Sciences. L.: Fontana, 1997.
[46] Mazlish B. The Uncertain Sciences. New Haven: Yale University Press, 1998.
[47] Bod R. A New History of the Humanities: The Search for Principles and Patterns from Antiquity to the Present. Oxford: Oxford University Press, 2013. Cм. также первый том из готовящегося трехтомника (второй том вышел в 2012 г.): The Making of the Humanities. Vol. I: The Humanities in Early Modern Europe / R. Bod, J. Maat, T Weststeijn (eds). Amsterdam, 2010.
[48] Heilbron J. A Regime of Disciplines: Towards a Historical Sociology of Disciplinary Knowledge // The Dialogical Turn: New Roles for Sociology in a Postdisciplinary Age / C. Camic, H. Joas (eds). Lanham: Rowman & Littlefield, 2004. P. 23-42.
[49] Boer den P. Neohumanism: Concepts, Ideas, Identities, Identification // The Impact of Classical Greece on European and National Identities / M. Haagsma, W den Boer, E. Moormann (eds). Amsterdam: Gieben, 2003.
[50] Diemer A. Die Begründung des Wissenschaftscharakters der Wissenschaft im 19. Jahrhundert: die Wissenschaftstheorie zwischen klassischer und moderner Wissenschaftskonzeption // Beiträge zur Entwicklung der Wissenschaftstheorie im 19. Jahrhundert: Vorträge und Diskussionen im Dezember 1965 und 1966 in Düsseldorf. Meisenheim am Glan: Hain, 1968. S. 3-62.
[51] См.: Humboldt International. Der Export des deutschen Universitaetsmodells im 19. und 20. Jahrhundert / R.Ch. Schwinges (Hrsg.). Basel: Schwabe, 2001.
[52] См. материалы блока по истории филологии первой половины XIX в. в: Новое литературное обозрение. 2006. № 82 (ст. М. Эспаня, Р.Ст. Тёрнера и Э. Графтона).
[53] См.: Plé B. Die “Welt” aus den Wissenschaften. Der Positivismus in Frankreich, England und Italien von 1848 bis ins zweite Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Eine wissenssoziologische Studie. Stuttgart: Klett-Cotta, 1996; Schneider C.M. Wilhelm Wundts Völkerpsychologie: Entstehung und Entwicklung eines in Vergessenheit geratenen, wissenschaftshistorisch relevanten Fachgebietes. Bonn: Bouvier, 1990; в интернациональном масштабе: Fuchs E. English Positivism and German Historicism: The Reception of “Scientific History” in Germany // British and German Historiography 1750-1950. Traditions, Perceptions, and Transfers / B. Stuchtey, P Wende (eds). Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 2000. P 229-250.
[54] Modernist Impulses in the Human Sciences, 1870-1930 / D. Ross (ed.). Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1994; Disciplinarity at the Fin de Siecle / A. Anderson, J. Valente (eds). Princeton, 2001.
[55] См. французский пример: Clark T.N. Prophets and Patrons: The French University and the Emergence of the Social Sciences. Cambridge, МА: Harvard University Press, 1973. P 186-194.
[56] См.: Bambach Ch. Heidegger, Dilthey, and the Crisis of Historicism. Ithaca: Cornell University Press, 1995 и рассуждения о связи кризиса неокантианства и перемен в историописании: Копосов Н.Е. Как думают историки. М.: Новое литературное обозрение, 2001.
[57] Из обширной литературы о гуманитарных науках периода нацизма отметим представительный сборник об эволюции литературоведения: Literaturwissenschaft und Nationalsozialismus / H. Dainat, L. Danneberg (Hrsg.). Tübingen: Niemeyer, 2003.
[58] Manicas Peter. The Social Sciences since World War II: The Rise and Fall of Scientism // The SAGE Handbook of Social Science Methodology / W Outhwaite, St.P Turner. (eds). L.: SAGE, 2007. P 7-31; The History of the Social Sciences since 1945 / R. Backhouse, P Fontaine (eds). N.Y.: Cambridge University Press, 2010.
[59] The Politics of Method in the Human Sciences: Positivism and Its Epistemological Others / G. Steinmetz (ed.). Durham; L.: Duke University Press, 2005.
[60] Политические аспекты этих научных процессов обсуждаются в недавнем сборнике: Cold War Social Science: Knowledge Production, Liberal Democracy and Human Nature / M. Solovey, H. Cravens (eds). N.Y.: Palgrave, 2012.
[61] На примере французского «Дома наук о человеке», созданного по инициативе Ф. Броделя и его соратников: Бикбов А. Институты слабой дисциплины // Новое литературное обозрение. 2006. № 1 (77). С. 340-363.
[62] Stichweh R. Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen. Physik in Deutschland, 1740-1890. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1984.
[63] Kusch M. Psychologism: A Case Study in the Sociology of Philosophical Knowledge. L.: Routledge, 1995.
[64] Danziger K. Constructing the Subject: Historical Origins of Psychological Research. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
[65] Collini S. Public Moralists: Political Thought and Intellectual Life in Britain, 1850-1930. Oxford: Clarendon Press, 1991; Soffer R. Discipline and Power: The University, History, and the Making of an English Elite, 1870-1930. Stanford, CA: Stanford University Press, 1995.
[66] Mucchielli L. La découverte du social. Naissance de la sociologie en France (1870-1914). P.: Éd. La Découverte, 1998; Dumoulin O. Le Rôle social de l‘historien. P.: Michel, 2003.
[67] Faulenbach B. Ideologie des deutschen Weges: Die deutsche Geschichte in der Historiographie zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. München: Beck, 1980; Geschichtsschreibung als Legitimationswissenschaft 1918-1945 / P. Schöttler (Hrsg.). Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1997.
[68] Lepenies W. Die drei Kulturen. Soziologie zwischen Literatur und Wissenschaft. München u.a.: Hanser, 1985.
[69] Wagner P. Sozialwissenschaften und Staat. Frankreich, Italien, Deutschland 1870-1980. Frankfurt a. M.: Campus-Verlag, 1990.
[70] Philologie und Erkenntnis. Beiträge zu Begriff und Problem frühneuzeitlicher “Philologie” / R. Häfner (Hrsg.). Tübingen: Niemeyer, 2001; Philologie als Wissensmodell / La philologie comme modèle de savoir / D. Thouard, F. Vollhardt, F. Mariani Zini (Hrsg.). Berlin; N.Y.: de Gruyter, 2010; Trevor-Roper H. History and the Enlightenment. New Haven: Yale University Press, 2010.
[71] Models of the History of Philosophy. Vol. II: From Cartesian Age to Brucker / G. Santinello (ed.). Dordrecht: Springer, 2011.
[72] Scattola M. Historia literaria als historia pragmatica. Die pragmatische Bedeutung der Geschichtsschreibung im intellektuellen Unternehmen der Gelehrtengeschichte // Historia literaria. Neuordnungen des Wissens im 17. und 18. Jahrhundert / F. Grunert, F. Vollhardt (Hrsg.). Berlin: Akademie Verlag, 2007. S. 37-63.
[73] Klein K.L. From History to Theory. Berkeley: University of California Press, 2011 (ch. 1: Rise and Fall of Historiography).
[74] Fueter E. Geschichte der neueren Historiographie. München; Berlin: R. Oldenbourg, 1911 (3. Aufl. 1936; Reprint: Zürich: Orell Füssli, 1985). О нем см. небольшую работу: Peyer H.C. Der Historiker Eduard Fueter 1876-1928. Leben und Werk. Zürich: Beer, 1982.
[75] Gooch G.P. History and Historians in the Nineteenth Century. L.: Longmans, Green, 1913; Shotwell J. T. An Introduction to the History of History. N.Y.: Columbia University Press, 1922.
[76] Barnes H.E. History of Historical Writing. Norman: University of Oklahoma Press, 1938 (ранним прообразом книги была большая статья Барнса 1919 г. об истории науки о прошлом в Американской энциклопедии).
[77] Boring E.G. A History of Experimental Psychology. N.Y.: Appleton-Century-Crofts, 1929 (2nd. ed. 1950). Cм. о контексте появления этой книги: Capshew J. Psychologists on the March: Science, Practice and Professional Identity in America, 1923-1969. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 25-28.
[78] Sorokin P.A. Contemporary Sociological Theories. N.Y.: Harper and Row, 1928.
[79] Wilamowitz-Moellendorff U. von. Geschichte der Philologie. Stuttgart; Leipzig: B.G. Teubner, 1921 (переиздана в 1998; переведена на англ. и итал. языки).
[80] См.: Pyenson L. The Passion of George Sarton: A Modern Marriage and Its Discipline. Philadelphia, 1995 и важную статью: Idem. Comparative History of Science // History of Science. 2002. Vol. 40. No. 1. March. P. 1-33.
[81] Galison P The Americanization of Unity of Science // Daedalus. 1998. Winter. Vol. 127. P. 4571; Reisch G.A. Disunity in the International Encyclopedia of Unified Science // Logical Empiricism in North America. Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Vol. 18 / G.L. Hardcastle, A.W Richardson (eds). Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003. P. 197-215; Nemeth Е. Logical Empiricism and the History and Sociology of Science // The Cambridge Companion to Logical Empiricism / A.W Richardson, T.E. Uebel (eds). N.Y.: Cambridge University Press, 2007. Р. 278-304.
[82] См. об истории этой дискуссии: Ortolano G. The Two Cultures Controversy: Science, Literature, Politics in Cultural Politics in Postwar Britain. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
[83] В настоящее время появились серьезные работы о французском контексте ранней теории науки у Фуко, связанном с влиянием Ж. Кангийема, А. Койре и феноменологической традиции: Chimisso C. Writing the History of the Mind: Philosophy and Science in France, 1900 to 1960s. Aldershot: Ashgate, 2008 и резюмирующий очерк: Basso E. On Historicity and Transcendentality Again. Foucault’s Trajectory from Existential Psychiatry to Historical Epistemology // Foucault Studies. 2012. September. Vol. 14. P. 154-178.
[84] Любопытно, что сам Кун задним числом подчеркивал особую значимость для своей главной книги именно гуманитарной философской рефлексии, развернутой в историко-научном плане. По его признанию, сочинения Макса Вебера и Эрнста Кассирера «описывали социальные науки очень близко к тому способу описания, который я надеялся предложить для физических наук» (Кун Т. Естественные и гуманитарные науки [1989] // Кун Т. После «Структуры научных революций» / пер. с англ. М.: АСТ, 2014. С. 299).
[85] Functions and Uses of Disciplinary Histories / P. Weingart, L. Graham, W Lepenies (eds). Sociology of the Sciences Yearbook. Vol. 7. Dordrecht: Reidel, 1983; Lovett B.J. The New History of Psychology: A Review and Critique // History of Psychology. 2006. Vol. 9. No. 1. Р. 17-37.
[86] Gusdorf G. Les Sciences humaines et la pensée occidentale. Vol. 1-12. Р: Payot, 1967-1985.
[87] О внутренних противоречиях понятия «дисциплинарной матрицы» у Куна см. замечания одного из самых тщательных исследователей его творчества: Hoyningen-Huene P. Reconstructing Scientific Revolutions: Thomas S. Kuhn’s Philosophy of Science. Chicago: University of Chicago Press. 1993. P 157-159.
[88] См. представительный сборник: Paradigms and Revolutions: Appraisals and Applications of Thomas Kuhn's Philosophy of Science / G. Gutting (ed.). Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1980 (в частности, в нем помещена и характерная статья Д. Холлинджера: Hollinger D. T.S. Kuhn’s Theory of Science and Its Implications for History // The American Historical Review. 1973. April. Vol. 78. No. 2. P 370-393).
[89] См.: Internationalizing the History of Psychology / A.C. Brock (ed.). N.Y.: New York University Press, 2006.
[90] См. выводы масштабного трехтомного исследования А.П. Огурцова по философии науки: Огурцов А.П. Философия науки: двадцатый век: Концепции и проблемы: в 3-х ч. СПб.: Мiръ, 2011.
[91] Тулмин С. Человеческое познание / пер. с англ. М.: Прогресс, 1984.
[92] См. статью Эдуарда Шилза о развитии социологии: Shils E. Tradition, Ecology, and Institution in the History of Sociology // Daedalus. 1970. Vol. 99. P. 760-825.
[93] См.: Dolby R.G.A. Classification of the Sciences. The Nineteenth Century Tradition // Classifications in Their Social Context / R.F. Ellen, D. Reason (eds). L.: Academic Press, 1979. P. 167193. О классификации наук у Конта: Petit A. Genèse de la classification des sciences d'Auguste Comte // Revue de Synthèse. 1994. Vol. 115. No. 1. Р. 71-102.
[94] «Лебединая песнь» этого жанра в СССР — трехтомная работа академика Б.М. Кедрова «Классификация наук» (1961, 1965, 1985), где в основу положена идея уровней движения материи. Российские дореволюционные варианты классификаций (Грот, Пачоский, Личков) систематизированы в кн.: Ивановский В.Н. Методологическое введение в науку и философию. Т. 1. Минск: Белтрестпечать, 1923. Ср., впрочем: Гражданников Е.Д. Метод построения системной классификации наук. Новосибирск: Наука (Сиб. отделение), 1987.
[95] См.: Lloyd Ch. Toward Unification: Beyond the Antinomies of Knowledge in Historical Social Science // History and Theory. Vol. 47. P. 396-412.
[96] Для интернациональной историографии социологии отметим четырехтомник: Geschichte der Soziologie: Studien zur kognitiven, sozialen und historischen Identität einer Disziplin. Bd. 1-4 / W Lepenies (Hrsg.). Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1981. О современном состоянии историографии в Германии: Neue Zugänge zur Geschichte der Geschichtswissenschaft / J. Eckel, Th. Etzemüller (Hrsg.). Göttingen: Wallstein, 2007.
[97] Впрочем, в последнее время появилось несколько нестандартных работ по интерпретации классиков гуманитарного знания: Marchand S. Down from Olympus: Archaeology and Philhellenism in Germany, 1750-1970. Princeton: Princeton University Press, 1996; Савельева И.М. Обретение метода // Дройзен И.Г. Историка. Лекции об энциклопедии и методологии истории. СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 5-23; Eskildsen K.R. Leopold Ranke’s Archival Turn: Location and Evidence in Modern Historiography // Modern Intellectual History. 2008. Vol. 5. Р. 425-453; August Boeckh: Philologie, Hermeneutik und Wissenschaftspolitik / C. Hackel, S. Seifert (Hrsg.). Berlin: BVM Berliner Wissenschafts-Verlag, 2013; Wimmer M. On Sources. Mythical and Historical Thinking in Fin-de-Siècle Vienna // Res. Journal for Anthropology and Aesthetics. Special Issue “Wet/Dry”. 2013. Vol. 2. No. 1. Р 108-124.
[98] У историков философии важной методологической точкой отсчета стала коллективная работа: Philosophy in History / R. Rorty, J. B. Schneewind, Q. Skinner (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 1984; у историков филологии — сборник: Philologie und Hermeneutik im 19. Jahrhundert: zur Geschichte und Methodologie der Geisteswissenschaften / H. Flashar, K. Gründer, A. Horstmann (Hrsg.). Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1979. У историков в конце XX — начале XXI вв. самыми масштабными проектами в смысле исторической саморефлексии дисциплины следует признать составленный после объединения Германии пятитомник: Geschichtsdiskurs: Grundlagen und Methoden der Historiographiegeschichte / W Küttler, J. Rüsen, E. Schulin (Hrsg.). Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch, 1992-1999, а также недавний англоязычный коллективный труд, где широко и систематически представлена не-западная наука: The Oxford History of Historical Writing. Vol. 1-5. Oxford: Oxford University Press, 20112012.
[99] См. статьи интернационального коллектива авторов в переведенном на русский язык сборнике: История понятий, история дискурса, история метафор / под ред. Х.Э. Бёдекера. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
[100] В этой энциклопедии статья о научных дисциплинах написана Рудольфом Штихве, о дисциплинах в социальных науках — Бьорном Виттроком.
[101] Wittrock B., Wagner P., Wollman H. Social Science and Modern State: Policy Knowledge and Political Institution in Western Europe II Social Sciences and Modern States. National Experiences and Theoretical Crossroads I P. Wagner (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
[102] Collins R. The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change. Cambridge: Belknap Press of Harvard University, 1998.
[103] Pachucki M.A., Pendergrass S., Lamont M. Boundary Processes: Recent Theoretical Developments and New Contributions II Poetics Today. 2007. Vol. 35. Р. 331-351.
[104] Wittrock B. History and Sociology: Transmutations of Historical Reasoning in the Social Sciences // Frontiers of Sociology. The Annals of the International Institute of Sociology. Vol. 11 / P. Hedström, B. Wittrock (eds). Leiden: Brill, 2009. P. 77-112.
[105] Abbott A. Chaos of Disciplines. Chicago: University of Chicago Press, 2001.
[106] Fuller S. Disciplinary Boundaries and the Rhetoric of the Social Sciences // Poetics Today. 1991. Vol. 12. P 300-325.
[107] Zammito J.H. A Nice Derangement of Epistemes: Post-Positivism in the Study of Science from Quine to Latour. Chicago: University of Chicago Press, 2004.
[108] Hacking I. Historical Ontology. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002. См. критические соображения М. Куша: Kush M. Hacking’s Historical Epistemology: A Critique of Styles of Reasoning // Studies in History and Philosophy of Science. 2010. Vol. 41. No. 2. Р. 158-173.
[109] Отметим выходящий с 2001 г. в издательстве SAGE «Journal of Classical Sociology», а также серию конференций 2009-2011 гг. международного исследовательского коллектива: The Disorder of Things: Predisciplinarity and the Divisions of Knowledge 1660-1850. <http://ideasandsociety.ucr.edu/disorder_of_things/index.html> и специальный номер журнала: Eighteenth-Century Studies. 2011. Vol. 45. No. 1. Следует упомянуть также новейший многообещающий проект по изучению международных связей в социальных и гуманитарных науках, связанный с наследием Пьера Бурдьё: <http://www.interco-ssh.eu/>.
[110] См.: Weingart P A Short History of Knowledge Formation // The Oxford Handbook of Interdisciplinarity / R. Frodemann, J. Thomson Klein, C. Mitcham ^ds). Oxford: Oxford University Press, 2010. P. 3-14; D’Agostino F. Disciplinarity and the Growth of Knowledge // Social Epistemology: A Journal of Knowledge, Culture and Policy. 2012. Vol. 26. No. 3-4. P. 331-350.
[111] Отдельно нужно отметить двухтомную монографию Питера Берка: Burke P. A Social History of Knowledge. Vol. 1-2. Cambridge: Polity Press, 2000; 2011.
[112] См. особенно работы Нэнси Стрьювер: Struever N.S. Rhetoric, Modality, Modernity. Chicago: University of Chicago Press, 2009; а также: Ward J.O. Rhetoric: Disciplina or Epistemology? Nancy Struever and Writing the History of Medieval and Renaissance Rhetoric // Perspectives on Early Modern and Modern Intellectual History: Essays in Honor of Nancy S. Struever / J. Marino, M.W Schlitt (eds). Rochester, N.Y.: University of Rochester Press, 2001. P. 347-374.
[113] Cм.: Siraisi N.G. History, Medicine and the Traditions of Renaissance Learning. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2007; Poovey M. A History of the Modern Fact: Problems of Knowledge in the Sciences of Wealth and Society. Chicago: University of Chicago Press, 1998; Kelley D.R. The Human Measure: Social Thought in the Western Legal Tradition. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.
[114] Blair A. Too Much to Know: Managing Scholarly Information Before the Modern Age. New Haven: Yale University Press, 2010.
[115] Livingstone D.N. Putting Science in Its Place: Geographies of Scientific Knowledge. Chicago: University of Chicago Press, 2003; Raj K. Relocating Modern Science: Circulation and the Construction of Knowledge in South Asia and Europe, 1650-1900. Houndmills; N.Y., 2003; Geographies of Nineteenth-Century Science / D.N. Livingstone, Ch.WJ. Withers (eds). Chicago: University of Chicago Press, 2011.
[116] Wolin S. Paradigms and Political Theories // Paradigms and Revolutions... P 160-191 (в этом уже упомянутом сборнике помещены схожие размышления Д. Холлинджера и М. Блауга о применимости понятия «парадигм», соответственно, к историографии и к экономической науке).
[117] Содержательные обзоры такого рода дисциплинарной рефлексии: Brown M.B. Conceptions of Science in Political Theory: A Tale of Cloaks and Daggers // Vocations of Political Theory / J.A. Frank, J. Tambornino (eds). Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000. Р 190-211; Iversen M., Melville S. Writing Art History: Disciplinary Departures. Chicago: University of Chicago Press, 2010; Konzert und Konkurrenz: die Künste und ihre Wissenschaften im 19. Jahrhundert / C. Scholl, S. Richter, O. Huck (Hrsg.). Göttingen: Universitätsverlag, 2010; Антропологические традиции: стили, стереотипы, парадигмы / под ред. и сост. А.Л. Елфимова. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
[118] Переосмысление роли раннего Фуко для методологии интеллектуальной истории в этом контексте: Maclean I. The Process of Intellectual Change: A Post-Foucaultian Hypothesis // Cultural History after Foucault / J. Neubauer (ed.). N.Y.: Walter de Gruyter GmbH, 1999. Р. 163-176; Davidson A. The Emergence of Sexuality: Historical Epistemology and the Formation of Concepts. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001.
[119] См. серию исследований по исторической разработке теории вероятности и приложению их в науках о человеке, особенно — экономике: это и коллективный труд: The Probabilistic Revolution. Vol. 1: Ideas in History; Vol. 2: Ideas in the Sciences / L. Krüger, et al. (eds). Cambridge, MA: The MIT Press, 1987, и отдельные монографии Л. Дастон, Ф. Мировски, Т. Портера: Daston L. Classical Probability in the Enlightenment. Princeton: Princeton University Press, 1988; Hacking I. The Taming of Chance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990; Porter Т. Trust in Numbers, The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life. Princeton: Princeton University Press, 1995.
[120] К античным истокам возводит генеалогию современной социальной теории Дж. МакКарти: McCarthy G.E. Classical Horizons: The Origins of Sociology in Ancient Greece. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 2003; Idem. Dreams in Exile: Rediscovering Science and Ethics in Nineteenth-Century Social Theory. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 2009. См. замечания о неоаристотелистских сюжетах современной европейской мысли: Volpi F. The Rehabilitation of Practical Philosophy and Neo-Aristotelianism // Action and Contemplation: Studies in the Moral and Political Thought of Aristotle / R.C. Bartlett, S.D. Collins (eds). Albany: State University of New York Press, 1999. P. 3-26.
[121] Zammito J.H. Kant, Herder, and the Birth of Anthropology. Chicago: University of Chicago Press, 2002.
[122] The Rhetoric of the Human Sciences / J.S. Nelson, A. McGill, D.N. McCloskey (eds). Madison: University of Wisconsin, 1987; Brown R.H. A Poetic for Sociology. Chicago: University of Chicago Press, 1989.
[123] Blair A., Grafton A. Reassessing Humanism and Science // Journal of the History of Ideas. 1992. Vol. 53. P. 529-540; Grafton A., Siraisi N. Introduction // Natural Particulars. Nature and the Disciplines in Renaissance Europe / A. Grafton, N. Siraisi (eds). Cambridge, MA: MIT Press, 1999. P. 1-21; The Shapes of Knowledge: From the Renaissance to the Enlightenment / D.R. Kelley, R.H. Popkin (eds). Dordrecht; Boston; L.: Kluwer Academic Publishers, 1991.
[124] Veit-Brause I. The Disciplining of History — Perspectives on a Configurational Analysis of Its Disciplinary History // Konferenser 37 — The Past of History. Stockholm: The Foundation Natur och Kultur, 1996. Р. 7-29.
[125] Гронас М. Диссенсус: Война за канон в американской академии 80-90-х годов // Новое литературное обозрение. 2001. № 51. С. 6-18.
[126] См. критический обзор работ Х.У Гумбрехта и С. Лерера: Ziolkowski J.M. Metaphilology. Rev.: The Powers of Philology. Dynamics of Textual Scholarship by Hans Ulrich Gumbrecht; Error and the Academic Self: The Scholarly Imagination, Medieval to Modern by Seth Lerer // The Journal of English and Germanic Philology. 2005. Vol. 104. No. 2. Р 239-272.
[127] О нем см. статьи в сборнике: Momigliano and Antiquarianism: Foundations of the Modern Cultural Sciences / P.N. Miller (ed.). Toronto: University of Toronto Press, 2007 (особенно работу С. Маршан).
[128] Национальная гуманитарная наука в мировом контексте: опыт России и Польши / под ред. Е. Аксер, И. Савельевой. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010.
РАЗДЕЛ I. ПОРЯДКИ И СТРУКТУРЫ ЗНАНИЯ: ОТ ГУМАНИЗМА К ПРОСВЕЩЕНИЮ
Глава 1. П. Соколов. ГЕНЕАЛОГИЯ МЕТОДА В НАУКАХ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ МИРЕ
История дисциплинарного принципа в раннее Новое время тесно связана с двумя поистине тектоническими процессами в истории европейской интеллектуальной культуры, один из которых — экспансия в область гуманитарного знания проблемы метода — был безошибочно распознан и досконально изучен историками науки уже очень давно[129], в то время как другой — известный под именем морализации модальностей — сделался полноценным предметом исследований лишь в последние годы[130]. И апология автономии метода в гуманитарных дисциплинах (прежде всего в истории, которую многие авторитетные теоретики, например Варфоломей Кекерманн, считали разделом логики), и валоризация моральной (исторической) модальности имели высшей целью разрешение апории науки о контингентном — достоверной и рациональной науки о мире исторического опыта, возникновение которой призвано было, в числе прочего, на радикально новых основаниях переопределить смысл и границы дисциплинарного принципа в гуманитарной сфере. То, каким образом помещение во главу угла модального принципа позволило привить частные дисциплины к стволу метафизики и вместо основанных на внешних принципах дисциплинарных классификаций создать модель «интегральной науки» (corpus integrae sapientiae), станет предметом нашего рассмотрения в следующем разделе; здесь же речь пойдет об эволюции на протяжении XV-XVII вв. эпистемологического статуса гуманитарного знания — эволюции, в результате которой одни гуманитарные дисциплины (история) добились автономии собственного метода, а другие (протестантская филология) и вовсе заявили притязание на обладание высшей достоверностью.
Одно из общих мест классической истории науки, впрочем, активно пересматриваемое в последние годы, состоит в том, что если до начала XVIII в. науки об обществе и истории оставались под пятой у метафизики, то уже с середины этого же столетия они попали в столь же безысходное рабство к естественным наукам. В такой трактовке те науки XVI-XVII вв., которые мы бы сейчас назвали гуманитарными, занимают место инертного, консервативного знания, чье развитие лишь следовало смене эпох в истории науки и само по себе не было способно инициировать парадигмальные трансформации в новоевропейской науке и философии. Основания для столь низкой оценки донововременного периода в истории гуманитаристики, разумеется, есть: так, в традиционной аристотелевской концепции науки — обладавшей, пожалуй, наибольшим влиянием на протяжении всего средневекового периода истории европейской интеллектуальной культуры — ни один из разделов гуманитарного знания формально не имел статуса науки (scientia), т.е. в соответствии со словоупотреблением того времени, аподиктического знания о вечных, необходимых и общезначимых истинах.
Разумеется, некоторые разделы гуманитарного знания, прежде всего грамматика и риторика, имели ряд атрибутов устоявшейся дисциплины: единое проблемное поле, устойчивую терминологию, дидактическую традицию, собственную институциональную территорию. Однако это не означает, что применительно к Средневековью можно говорить о «гуманитарных науках» в нововременном смысле: статус знания о таких «изменчивых и непостоянных объектах», как человеческие действия (res gestae), на протяжении всего этого периода оставался низким; причиной в значительной степени было суждение Аристотеля, в соответствии с которым «о случайном и единичном не может быть доказательства» (Anal. post. I, 31 87b 19), а предметом науки может быть лишь то, что присуще вещам необходимым образом. Философский авторитет Стагирита подкреплялся доктринальным авторитетом блж. Августина, который в своем сочинении «Восемьдесят три вопроса о различных предметах» предложил формулировку, превратившуюся в общее место средневековых рассуждений об эпистемологическом статусе истории: «Исторические истины таковы, что в них следует верить, но постичь их разумом невозможно»[131].
Проблема статуса исторических истин в средневековой науке возникала порой в довольно неожиданных контекстах, к примеру, в дискуссии о возможности теологии как демонстративной науки, соответствующей критериям, сформулированным Аристотелем во «Второй аналитике». Проблема эпистемологического статуса теологии заключалась именно в том, что данная дисциплина включает в себя значительное число исторических истин, каковые относятся к предметам «единичным и преходящим». Разрешение этой апории — «не может быть науки о единичных вещах, однако теология занимается единичными вещами» (scientia non est de singularibus; sed sacra doctrina tractat dе singularibus) — оказывалось возможным лишь благодаря тому, что исторические образы Священного Писания рассматривались как аллегории и символы вечных и непреходящих истин, каковые, безусловно, могли считаться предметом демонстративной науки. Это решение предложил Фома Аквинский (а вслед за ним и такие авторитетные схоластические учителя, как Ульрих Страсбургский и Генрих Гентский): исторические истины он низвел до уровня нравоучительных примеров, exempla, не относящихся к числу «необходимых положений» теологии[132]. Оппоненты св. Фомы, к примеру Петр Иоанн Оливи, справедливо указывали на разрушительные последствия предложенного им решения для самой теологии, ибо контингентные истины (такие, как сотворение мира или боговоплощение) составляют самое сердце христианского вероучения[133]. Однако ни категория исторического смысла (sensus historicus) в библейской экзегезе, ни понятие исторической истины (veritas historica) в историографии, ни contingentia в схоластической логике и метафизике не могли стать территорией формирования интегральной науки о социально-историческом мире. Не могла эта наука возникнуть и в лоне а- и антитеоретического гуманистического движения, принципиально не заботившегося о возведении studia humanitatis в ранг науки; конструктивные результаты критической работы гуманистов могли быть в полной мере использованы лишь позднее теми авторами, философские притязания которых не вызывают сомнений, — такими, как Петр Рамус (1515-1572) или Джамбаттиста Вико (1668-1744).
* * *
Роль Петра Рамуса в истории гуманитарной эпистемологии определяется прежде всего тем, что он, подвергнув радикальной ревизии аристотелевскую модель науки, существенным образом расширил область применения способности суждения (judicium), включив в нее, в числе прочего, и историю. В рамках рамистской концепции анализа (analysis ramea) сферой деятельности суждения становится описание (descriptio), а не доказательство (demonstratio): тем самым, история — согласно распространенному в науке раннего Нового времени определению, представляющая собой «описание без доказательства» (descriptio sine demonstratione)[134] — становится привилегированной материей метода[135]. Условиями возможности исторического метода у Рамуса были, во-первых, пересмотр аристотелевской иерархии достоверности аргумента, а во-вторых — экспансия метода за пределы оперирующей аподиктическими доказательствами scientia (напомним, что для таких авторов, как Варфоломей Кекерманн, невозможность собственного метода истории обосновывалась именно тем, что метод является «формой дисциплины»[136]).
Прежде всего, Рамус отверг традиционное, идущее от позднеантичного комментатора Аристотеля Александра Афродисийского, деление аристотелевой логики на аподиктическую, диалектическую и софистическую. По его мнению, такое деление игнорирует принцип гомогенности, соблюдение которого, согласно самому же Аристотелю, как раз является конститутивной чертой всякой науки. Рамус считает, что область необходимо истинных положений (наука) и область положений вероятных (мнений) не могут подчиняться разным принципам: у них должна быть единая логика — именно поэтому и не имеет смысла деление логики на аподиктическую и диалектическую. Этой тотальной логике Рамус предлагает вернуть ее древнейшее название — диалектика[137]. Он полагает, что диалектика отделилась от логики в результате того, что в логику стали включаться элементы риторики (что само по себе уже являлось нарушением принципа однородности дисциплины). Диалектика претерпела контаминацию с софистикой: «Когда к союзу разума и красноречия начали относиться с презрением и древний обычай упражнять одновременно ум и язык был предан забвению, диалектика стала вотчиной Софистики и младенческой болтовни»[138], и присущее ей изначально достоинство «царицы и богини всех наук» оказалось утрачено. В то же время, различение логики и риторики, с точки зрения Рамуса, необходимо, потому что оно зиждется на фундаментальном различии основных способностей человеческой души:
От природы человек наделен двумя всеобщими и универсальными дарованиями: Разумом [Ratio] и Речью [Oratio], и наука Разума — это диалектика, а Речи — грамматика и риторика[139].
Реабилитация диалектического аргумента позволяла истории выйти из тупика: если наука не тождественна аподейксису, то и история может претендовать на статус дисциплины с не меньшим основанием, чем сама метафизика.
Еще одна важная для истории гуманитарной эпистемологии новация Рамуса заключается в том, что его метод служит для упорядочения и «прояснения» знания, а не для достижения аподиктической истины, как scientia аристотеликов. Центральный раздел рамусовой диалектики — суждение, продвигающееся от аксиом (соединение двух аргументов, или топосов, в субъект-предикатной конструкции) посредством силлогизма к собственно методу, т.е. «дианойе однородных аксиом». Главная функция суждения (аксиомы, силлогизма и самого метода) — не построение доказательства, а организация материала, расположение его в надлежащем порядке. Применение метода уместно и тогда, когда приходится иметь дело с «общезначимыми и необходимыми» аксиомами, и тогда, когда речь идет обо всех тех вещах, «о которых мы намерены учить легко и ясно», как выражается Рамус. Поэтому в «Диалектике» Рамус говорит об универсальной роли метода, который следует применять не только в умозрительных науках, но и в таких областях знания, как история, риторика, поэзия, — т.е. при чтении сочинений любых авторов, к какой бы сфере знания или практики их тексты ни принадлежали[140].
Именно эта индифферентность метода к различению теоретической науки, искусств и разделов studia humanitatis, подобных истории, позволяла обосновать существенное расширение возможностей историографии. Во-первых, универсалистская трактовка метода сделала допустимым введение истории в новую «методологическую» модель науки наравне с теоретическими дисциплинами — такими, как философия, математика, физика, — потому что единство метода делало бессмысленным противопоставление «знания» и «доксы», «контингентного» и «необходимого», «доказательной науки» (scientia demonstrabilis) и уже упоминавшегося нами «описания без доказательства». Во-вторых, в историческом «материале» была открыта потенция к предметному упорядочению — к нахождению и применению метода в его освоении и при его изложении: история впервые предстала не только как последовательность событий или последовательность повествования о них, но и как система — система общих мест[141].
Уравнивания топического аргумента в правах с аподейксисом было, однако, недостаточно для возведения истории в ранг науки: коль скоро, согласно Аристотелю, всякая наука должна быть об общем (kat’holon), в истории необходимо было найти универсалии. В гуманистической историографии такие универсалии, как ни парадоксально, были: это было возможно благодаря сращению истории и риторики. Этот синтез был выгоден обеим сторонам: риторы охотно обращались к истории, чтобы почерпнуть из нее нравоучительные примеры, exempla, а историки благодаря риторике обретали общие понятия, universalia, — согласно Аристотелю, необходимое условие любой науки. Риторическая историография гуманистов получала возможность внести порядок в историческую стихию, подводя события и действия людей под готовые этические категории. Так, в знаменитом предисловии к «Истории Фердинанда, короля Арагонского» Лоренцо Валлы апология истории строится на отождествлении универсалий и нравоучительных примеров; авторитету Аристотеля противополагается авторитет Цицерона, называвшего историю «наставницей жизни». Рассуждение Валлы имеет своей предпосылкой титанический проект по ревизии всей восходящей к Аристотелю традиции европейской метафизики[142]. Валла развенчивает базовые понятия философского языка Аристотеля—Порфирия—Боэция: 10 категорий, шесть трансценденталий, предикабилии объявляются лингвистическими фикциями, плодом варварского искажения языка[143]. Основой критического импульса Валлы была интуиция, деструктивный потенциал которой был соразмерен ее теоретической неопределенности: апелляция к реальности «как она есть». При этом под категорию реальности Валла подводит целый ряд разноприродных инстанций: лингвистический узус (consuetudo, usus communis), здравый смысл, историческую действительность.
Примечательно, что базовые категории аристотелианской метафизики и стереотипы риторической историографии суть, согласно Валле, два вида одного и того же заблуждения. И нравоучительные примеры (exempla) в ренессансной придворной парадной историографии, и категории, предикабилии и трансценденталии схоластов суть следствие проекции ментальных операций на действительный мир. Чисто мыслительные дистинкции, производимые адептами метафизики, — к примеру, отделение качества от субстанции, игнорирующее то обстоятельство, что в реальных объектах то и другое пребывает в неразрывном единстве (так, «белизна» может существовать лишь в белых предметах, а не сама по себе), — родственны способу работы с эмпирическим материалом ренессансных историков-гуманистов, предпочитающих описывать не конкретных персонажей, а моральные характеры — королей «вообще» или шутов «вообще» (in genere). Очевидно, что для Валлы эти историографические универсалии ничуть не более реальны, чем метафизические универсалии схоластов. Валла понимает универсальное не как общезначимое, а как типическое выражение аутентичного исторического содержания (в этом смысл учения Валлы о «вымышленных речах»[144] — персонаж должен произносить речь не для того, чтобы преподнести нравственный урок, а для того, чтобы его речь отражала дух эпохи). Универсалии Валлы — это «голос самих вещей», своего рода автокомментарий исторических imagines agentes: суггестивное значение этих универсалий зиждется не на этической притягательности, а на аутентичности.
Инициированная Валлой ревизия статуса универсалий и, тем самым, аристотелевской науки в целом нашла продолжение в идее «науки о единичном» известного гуманистического писателя-цицеронианца Чинквеченто Марио Низолио (1488-1567). Низолио[145] поставил цель соединить «перекапывание диалектики» Лоренцо Валлы, диалектическую логику Рудольфа Агриколы и номиналистическую критику реальности универсалий (falsitas Universalium realium) в рамках единой антиметафизической программы[146].
По мнению Низолио, «Валла обрубил ветви, но сохранил в неприкосновенности ствол» варварской философии схоластов. Валла оказался недостаточно радикален в своей критике: он сделал значительный шаг вперед, продемонстрировав исключительно знаковую, нереференциальную природу базовых категорий европейской метафизики (шести трансцеденталий, пяти предикабилий и десяти категорий), однако, во-первых, не довел до конца деконструкцию этих понятий (например, сохранив из аристотелевских категорий категорию действия), а во-вторых, не сумел на новых, неметафизических, основаниях сформулировать положительную задачу философии, каковой, согласно Низолио, является «постижение всех единичных вещей» (comprehensio universorum singularium), точнее — «одновременное постижение всех единичных экземпляров каждого рода». Соответственно, главной операцией во всех науках и искусствах должна быть не абстракция, а «философское и риторское схватывание» (comprehensio philosophica et oratorica), которое Низолио определяет так:
Операция или действие нашего интеллекта, посредством которого человеческий ум охватывает все единичные экземпляры каждого рода одновременно и разом и создает из постигнутого им все науки и искусства, а также строит рассуждения и разного рода доказательства[147].
Строго говоря, «схватыванию» Низолио в схоластике соответствует первая операция интеллекта, т.е. «постижение простых содержаний», а вовсе не абстрагирование; единичная же вещь занимает место не универсалии, а понятия или, в риторико-диалектической традиции, аргумента. Критика Низолио бьет мимо цели — однако нам важна не справедливость предъявляемых им аристотеликам аргументов, а его собственная «теория науки». Согласно Низолио, коль скоро в природе нет ничего, кроме единичных вещей и состоящих из них множеств, предметом интеллекта должно быть именно единичное, а не химерическая универсалия: к примеру, медик постигает не универсальный нерв, а в одномоментном акте схватывает все множество нервов.
В то же время беспроблемность конструкции науки у Низолио основана на одной предпосылке: он полностью игнорирует историческое измерение социального мира — его «обновленная философия» не принимает в расчет существенную историчность человеческого существования. В значительной степени именно по этой причине scientia de singularibus Низолио оказалась несоразмерна проекту интегральной науки о социально-историческом мире, которая была призвана объединить в себе филологию, историю, герменевтику, риторику и «политику» в новом, возникающем именно в раннее Новое время, смысле этого слова. Неслучайно поэтому автор, заложивший основания гуманитарной эпистемологии в своей «новой науке», недвусмысленно понимаемой как история, — Джамбаттиста Вико — полностью игнорирует номиналистическую критику метафизики и без колебаний повторяет слова Аристотеля схоластов: «Наука должна быть об универсалиях» (scientia debet esse de universalibus)[148]. Именно динамическое отношение между «Вечной Идеей» мира человеческих наций и эмпирическим субстратом социальной жизни, а вовсе не статичное и недифференцированное множество единичных вещей, станет у Вико предметом его «новой науки».
В нашем анализе предыстории гуманитарной эпистемологии, основными этапами которой были, в избранной нами оптике исследования, постулирование единства метода у Рамуса, критика аристотелевских категорий с позиций неуловимой «реальности» у Валлы и реабилитация «науки о единичном» у Низолио, мы остановились на пороге барочных «гражданских наук» (scientiae civiles), воплотивших притязание на создание индифферентной к дисциплинарному принципу интегральной науки об историческом мире. Однако, прежде чем перейти к рассмотрению scientiae civiles, нам следует остановиться на противоположной тенденции в ранненововременной теории науки: эту тенденцию мы могли бы охарактеризовать как своего рода дисциплинарный монизм или, иначе, как претензию некоторых частных наук на метадисциплинарный статус.
* * *
В раннее Новое время структура дисциплинарного поля кажется едва ли не более ригидной, чем даже в классический период истории науки, — виной тому классифицирующий дискурс, господство которого утверждается в классицистическую эпоху, и большая строгость критериев дисциплинарной демаркации. Кристаллизации дисциплинарных границ способствовал целый ряд «внешних» факторов: расцвет — благодаря книгопечатанию — визуальных способов представления материала, экспансия пространственной метафорики в «массовой» научной литературе эпохи (индустрия loci communes), дихотомическое строение науки, пристрастие к классификациям и схемам, одним словом, все то, что принято называть геометризацией картины мира и рождением «пространственного воображаемого» (spatial imagery) в научном мышлении модерна. Жесткость дисциплинарных схем, в которых смешивались рамистские и аристотелевские критерии классификации, существенно деформировала те «гуманитарные» содержания, которые предполагалось вписать в их прокрустово ложе. Отсюда дробная специализация и синкретический характер тех гуманитарных «дисциплин», которым авторы барочных энциклопедий отводили место на задворках своих opera magna (в разделах с характерным названием «смеси дисциплин»), отсюда же и странное соседство этих дисциплин с такими экзотическими на наш современный вкус разделами знания, как табакология, проэмиография (наука о написании предисловий) и парадоксология. Парцелляция поля гуманитарного знания была обусловлена, разумеется, не только жанровыми особенностями барочной энциклопедии: свойственный дисциплинам филолого-герменевтического цикла в эпоху Высокой критики (да и позднее) демонстративный отказ от «теории» в пользу «техники» имел следствием их самоизоляцию и тщательную заботу о неприкосновенности своей территории от внешних посягательств (прежде всего, со стороны философов). В действительности, однако, вызывающий эмпирический изоляционизм филолого-герменевтических дисциплин и их сосредоточенность на технике в ущерб «теории» сами по себе предполагали очень важное эпистемологическое решение. Более того, «эрудитская» наука раннего Нового времени подчас выступала с чрезвычайно радикальными эпистемологическими притязаниями. Некоторые протестанты-апологеты критического искусства заходили так далеко, что считали возможным произвести принцип предельной достоверности — по образцу картезианского «незыблемого основания достоверности» (fundamentum inconcussum) — непосредственно из филологического принципа аутентичности.
Протестантская филология являет нам пример дисциплинарного интервенционизма «нового типа», т.е. такой дисциплинарной экспансии, образцом которой уже в Новое время можно считать, скажем, встретившую дружный отпор со стороны философов и логиков экспансию психологии в период хрестоматийно известного «спора о психологизме» (Psychologismusstreit) конца XIX — начала XX вв. Филология — в рассматриваемый период дисциплина с развитым самосознанием, жестко структурированным концептуальным аппаратом, логически обоснованной автономией и достаточно агрессивной стратегией поведения — начинает претендовать на то, чтобы занять место философии в обосновании единства гуманитарного знания. Рост «метафизических» притязаний филологии особенно отчетливо можно увидеть на примере библейской критики.
В протестантском богословии были заложены потенции к созданию полностью автономной концепции науки, опирающейся на собственный «несокрушимый фундамент». Этим «фундаментом» у таких авторов XVI в., как Джон Уитакер, стало положение о боговдохновенности Писания, обладающее статусом «не подлежащей доказательству аксиомы»[149], которая имеет ту же функцию, что начала для всех наук и искусств (quaemadmodum artes suis principiis nituntur). Термин axioma anapodeikton у кальвинистских богословов отсылает ко вполне определенным античным текстам — прежде всего, «Комментарию к Первой книге “Начал” Евклида» неоплатоника Прокла, греческий текст которого был издан в 1533 г. другом и корреспондентом Кальвина гуманистом Симоном Гринеем. Как полагал современник Уитакера, Антуан де ля Рош Шандье, из этой первой аксиомы о боговдохновенности Писания все остальные положения могут быть аподиктически выведены: «В Священном Писании нет ни одного места (locus), которое не обосновывалось бы первым положением: все места Писания получают свою силу от первой аксиомы»[150]. Позднее, в середине XVII столетия, Лодевейк Мейер, нидерландский эрудит и близкий друг Спинозы, отождествит axioma anapodeikton кальвинистов и «несокрушимое основание достоверности» Рене Декарта.
Однако для нас важно то, что самоочевидность (αύτοπιστία) для авторов популярных протестантских учебников общих мест, таких, как Уильям Уитакер или А. де ла Рош Шандье, отождествляется в самом буквальном смысле с аутентичностью текста: для того чтобы найти основание достоверности, следует обратиться к самой древней версии Библии. Именно этот текст должен стать нормой толкования и разрешения всех богословских трудностей. Уитакер в полемике с тридентскими защитниками авторитета Вульгаты отождествлял самоочевидность (αύτοπιστία) и аутентичность (αύθεντία)[151]. Этой позиции придерживались многие очень авторитетные протестантские богословы, например Франциск Гомар, полагавший, что только оригинальные еврейские и греческие тексты могут считаться «самоочевидными» в том же смысле, в каком мы говорим о самоочевидности геометрических аксиом. Известный эрудит и издатель авторитетнейшего в Республике ученых журнала «Acta eruditorum» Жан Леклерк приводит выдержки из канона некоей общины гельветских (т.е. швейцарских) протестантов, обращенные против нечестивых критиков, которые дерзают исправлять масоретскую Библию посредством Септуагинты, говорить об исторической изменчивости библейского текста или предполагать, что помимо масоретской версии Библии были еще и другие. За карикатурным образом швейцарских фанатиков стоит в действительности оппозиция конкурирующих эпистемологических принципов. Возведенному в абсолют принципу филологической аутентичности гельветские варвары-«аллоброги», как окрестил их Леклерк, лишь придали догматическое значение. Многие гуманистические филологи склонны были ставить филологию на место философии. Именно с этих позиций эрудиты отваживались бросить вызов новой философии — так, сын Исаака Казобона Мерик объединял в причудливый союз Бэкона с его эмпиризмом и Декарта с его критикой, полагая, что именно они ответственны за наступивший в его время (т.е. в конце 1660-х годов) упадок гуманизма. О таких филологах с философскими амбициями еще Галилей писал в письме к Кеплеру:
Этот род людей полагает, будто философия — это такая книга, на манер Энеиды или Одиссеи, и что истина может быть найдена не в мире и не в природе, а в коллации текстов (пользуясь их собственным языком)[152].
Впрочем, протестантские филологи-критики так и не смогли доказать философам пользу обращения к истокам; использование же философских методов как логико-технических средств интерпретации текста было слишком очевидно механическим и внешним, на что проницательно указал Бенедикт Спиноза в своем «Богословско-политическом трактате» (1670). Неудача предпринятой адептами «священной филологии» попытки отождествить смысл — базовую категорию гуманитарного знания — и филологическую аутентичность продемонстрировала невозможность построения гуманитарной эпистемологии из перспективы одной дисциплины, какими бы значительными ни были достигнутые ею критические успехи (разоблачение «Константинова дара», герметического корпуса и многое другое) и сколь ни была бы велика мощь ее методологического инструментария. «Монистская» модель интеграции гуманитарного знания потерпела неудачу. Словно в наказание за гордыню филология претерпела внутренне разделение: одна ее часть, эрудитское «пересчитывание слогов», превратилась в специализированную дисциплину (Fachwissenschaft), предшественницу немецкой «гелертерской» филологии, в то время как другая, образовав синтез с философией, сделалась основанием гуманитарной эпистемологии — «нового критического искусства», при этом пожертвовав, однако, дисциплинарной автономией. Но это произошло уже позднее: Джамбаттиста Вико в письме к Леклерку от 18 октября 1723 г. описывает все ту же диспозицию, которую мы могли наблюдать на протяжении всего XVII столетия: есть философы, убежденные во всемогуществе своего метода и потому совершенно игнорирующие историю, литературу и право, — и филологи, так привязанные к древним текстам, что считают преступлением малейшее отступление от их буквы[153]. И кто же, как не он, мог поставить столь неутешительный диагноз: ведь именно Вико стал тем человеком, который, создав подлинно новое критическое искусство, сумел положить конец этой «странной войне».
[129] Приведем лишь наиболее известные исследования: Gilbert N. Renaissance Concepts of Method. N.Y.: Columbia University Press, 1960; Schmidt-Biggemann W. Topica Universalis. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1983; Steiner B. Die Ordnung der Geschichte. Historische Tabellenwerke in der frühen Neuzeit. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2008.
[130] Knebel S.K. The Renaissance of Statistical Modalities in Early Modern Scholasticism // The Medieval Heritage in Early Modern Metaphysics and Modal Theory, 1400-1700 / R.L. Friedman, L.O. Nielsen (eds). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003; Struever N.S. Rhetoric, Modality, Modernity. Chicago: University of Chicago Press, 2009; Ivanova J.V. Impersonality, Shame, and Origins of Sociality, Or Nova scientia ex constantia philologiae eruenda // Investigations on Giambattista Vico in the Third. New Perspectives from Brazil, Italy, Japan and Russia / J.V Ivanova, F. Lomonoco (eds). Roma: Aracne, 2014. P. 109-122.
[131] «Существует три вида предметов веры. Первый вид — то, во что мы верим, но чего никогда не можем познать: такова история, охватывающая преходящие вещи и человеческие деяния. Другой — то, что мы познаем сразу вслед за тем, как уверуем в это: например, таковы все производимые людьми доказательства в науке о числах и в других дисциплинах. Третий — то, во что мы сначала верим, а впоследствии познаем это» (Augustinus. De diversis quaestionibus octoginta tribus I, 48 // Augustinus. Opera omnia. Vol. VI / J. Migne (ed.). P., 1867).
[132] Thomas Aquinas. Summa theologiae. Ia. Q. 1. A. 2. Ad. 2.
[133] См.: Piron S. Le métier de théologien selon Olivi. Philosophie, théologie, exégèse et pauvreté II Pierre de Jean Olivi — Philosophe et théologien I C. König-Pralong, O. Ribordy, T. Suarez-Nani (eds). Berlin; N.Y.: De Gruyter, 2010. P. 50.
[134] Определение Федора Газы из комментария к «Истории животных» Аристотеля, популярное среди европейских аристотеликов.
[135] История «более прочего пригодна для того, чтобы представлять ее при посредстве искусства суждения» (intra hanc artem [sc. judicium] commodissime continebitur) — читаем мы в «Диалектике» 1543 г.
[136] «Метода нельзя найти нигде, кроме как в дисциплинах, формой которых он и является. А коль скоро История — не дисциплина, то очевидно, что она не имеет и метода, т.е. собственной формы, отличной от форм иных дисциплин». Цит. по: Иванова Ю.В., Соколов П.В. Кроме Декарта: размышления о методе в интеллектуальной культуре Европы раннего Нового времени. М.: Квадрига, 2011. С. 221 (пер. В.Л. Иванова).
[137] «Диалектика — это искусство правильного рассуждения; о Логике говорится в том же смысле» (Petrus Ramus. Dialecticae libri duo. Spirae: Bernardus Albinus excudebat, 1591. P. 11).
[138] Ibid. P. 4.
[139] «Диалектика исследует все силы человеческого разума, направленные на постижение и упорядоченное расположение вещей; грамматика следит за соблюдением правил этимологии и синтаксиса в речи и на письме» (Idem. Rhetoricae distinctiones in Quintilianum. P.: A. Wechelum, 1559. P.18).
[140] «Метод может прилагаться не только к материи искусств и наук, но и к любым предметам, о которых мы намереваемся учить просто и ясно. Поэтому всякий раз, когда поэты, риторы, разного роды писатели предполагают научить чему-либо свою аудиторию, они желают действовать именно таким образом, хотя и не всегда вступают на этот путь и не всегда преуспевают на нем» (Idem. Dialecticae libri duo. P. 101).
[141] См.: Schmidt-Biggemann W. Topica universalis.
[142] Ревизия эта была осуществлена в первой книге «Перекапывания диалектики и философии» (Lorenzo Valla. Repastinatio dialecticae et philosophiae, 1439).
[143] Подробнее о критике Валлой Аристотеля см.: Nauta L. In Defense of Common Sense. Lorenzo Valla’s Humanist Critique of Scholastic Philosophy. Harvard: Harvard University Press, 2009. P 13-82.
[144] О понятии вымышленных, или «сочиненных», речей (orationes confectae) у Валлы см.: Janik L.G. Lorenzo Valla: The Primacy of Rhetoric and the De-Moralization of History // History and Theory. 1973. Vol. 12. No. 4. P. 389-404.
[145] В трактате «Об истинных началах и истинном основании философствования против псевдофилософов» (1553).
[146] Nauta L. False Friends. Semantics and Ontological Reduction // Renaissance Quarterly. 2003. Vol. 56. No. 3. P. 614.
[147] Nizolio M. De veris principiis et vera ratione philosophandi contra pseudophilosophos. Libri IV / Q. Breen (a cura di). Roma: Fratelli Bocca editori, 1956. P. 80.
[148] «Следующие Положения, с V по XV, дающие нам основания Истины, служат нам для рассмотрения этого мира наций в его Вечной Идее, так как именно таково свойство каждой науки, указанное Аристотелем: Scientia debet esse de Universalibus et Aeternis» (Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций / пер. с итал. А.А. Губера. М.: Ирис; Киев: REFL-book, 1994. C. 80).
[149] См.: Van Den Belt H. The Authority of Scripture in Reformed Theology: Truth and Trust. Leiden: Brill, 2008. P. 123.
[150] Ibid. P. 124.
[151] Ibid. P. 126.
[152] Цит. по: Grafton A. Defenders of the Text: The Tradition of Scholarship in an Age of Science, 1450-1800. Harvard: Harvard University Press, 1994. P. 2.
[153] The Correspondence ofGiambattista Vico, Jean Le Clerc, and Others, Concerning the Universal Right // Universal Right / G. Pinton, M. Diehl (transis and eds). Amsterdam: Editions Rodopi B.V, 2000. P. 725.
Глава 2. Ю. Иванова. «ИСТОРИЯ ИДЕЙ» И «ГРАЖДАНСКАЯ НАУКА»: ГРАНИЦЫ ДИСЦИПЛИНАРНОСТИ В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ
В раннее Новое время — эпоху, бывшую, согласно opinio communis исследователей, временем чрезвычайно интенсивной (хотя и не совсем схожей с привычной нам) дисциплинарной специализации, — были созданы также и первые последовательные альтернативы дисциплинарному принципу в гуманитарных науках. Понятие дисциплины применительно к раннему Новому времени может порождать различного рода аберрации, в особенности если принять (ошибочно) в качестве точки отсчета универсальные и бесконечно изменчивые классификации дисциплин в духе «Энциклопедии» И.Г. Альстеда, отражающие не столько «складки» барочного дисциплинарного ландшафта, сколько пансофические утопии их создателей-милленаристов. Термин «дисциплина» в этих многотомных сочинениях представляет собой лишь омоним по отношению к соответствующему понятию в Новое время. Однако предпосылка, из которой исходим мы в настоящем исследовании, состоит в том, что в XVII в. можно с полным правом говорить о процессе обретения некоторыми областями знания «дисциплинарного самосознания» — логически обоснованной автономии предмета и метода (disziplinäre Verselbstständigung, по выражению Арно Зайферта), а иногда и собственной институциональной ниши.
В предыдущей главе мы проследили историю становления гуманитарного метода — от критики схоластической метафизики Лоренцо Валлой и апологии «науки о единичном» у Марио Низолио до создания «новой науки» исторического опыта у Джамбаттисты Вико. Теперь же наша задача иная: мы предполагаем сделать предметом рассмотрения отношение между этим проектом интегральной — и оттого принципиально наддисциплинарной — науки о социально-историческом мире (scientia civilis, scienza nuova у Вико) и дисциплинарной матрицей, кристаллизация которой, как в гуманитарной, так и естественно-научной сфере происходит grosso modo в этот же период. Именно в раннее Новое время — эпоху барокко и раннего Просвещения — формируется оппозиция, сопровождавшая историю дисциплинарного принципа в гуманитарных науках на всем протяжении его истории. На одном полюсе этой оппозиции — «политика блестящей изоляции» специальных дисциплин, предпосылкой которой выступает именно незыблемость дисциплинарных границ, на другом — проект «гуманитарной эпистемологии», помещающий науки о социально-историческом мире «по ту сторону» дисциплинарного принципа. Противоречивые тенденции присвоения и взаимного непризнания порождали в интеллектуальном пространстве раннего Нового времени разнообразные коллизии как когнитивного, так и социологического порядка, среди которых одна из наиболее любопытных — возникновение терминологических омонимов. Наиболее, пожалуй, репрезентативный пример этой омонимии — «история идей», с самого возникновения своего в конце XVII столетия оказавшаяся в зазоре между историей философии как специальной дисциплиной и «гуманитарной эпистемологией». Другой, может быть, более известный пример — политика, дисциплинарное оформление которой происходит одновременно с возникновением универсалистских «гражданских наук», подобных scientia civilis Томаса Гоббса. Представляется, что отношения между гуманитарной эпистемологией и Fachdisziplinen в раннее Новое время лучше всего можно было бы исследовать именно на примере этих «дисциплинарных псевдоморфоз» — эволюции разделов «гражданских наук», омонимичных этаблированным дисциплинам. В настоящем очерке мы сосредоточимся на концепции «истории идей» и «гражданской науки» у Джамбаттисты Вико — одного из самых знаменитых оппонентов дисциплинарного принципа на рубеже Нового времени. Подобное исследование поможет нам на репрезентативном примере проследить противоречивое взаимодействие двух тенденций: дисциплинарной парцелляции и интеграции научного знания под эгидой философии (в случае Вико — христианско-платоновской метафизики).
* * *
Ранненововременная «история идей» оказывается превосходным индикатором, отражающим ключевые трансформации дисциплинарного принципа в преддверии высокого модерна. Прежде всего, «история идей» — наряду с антропологией, герменевтикой, статистикой и многими другими «новыми науками» — представляет собой новообразование, отражающее необыкновенную интенсивность процесса дисциплиностроительства в XVI — начале XVIII в. Изобретателем термина был крупнейший представитель протестантской критической истории философии Иоганн Якоб Брукер (1696-1770) — одно из первых его сочинений озаглавлено «История философского учения об идеях» («Historia Philosophicae Doctrinae de ideis»; в первом издании 1719 г. — «Опыт введения в историю логического учения об идеях» («Tentamen Introductionis in Historiam Doctrinae logicae de Ideis»)).
«История идей» Брукера не появилась, разумеется, ex nihilo. Общие истории философии и истории отдельных философских течений (sectae) создавались в XVII столетии по всей Европе. Свой вклад в историзацию философии внесла популярная концепция «универсальной истории» (historia universalis); самый известный ее представитель, редактор «Сокровищницы исторического искусства» (1679) Кристоф Милеус недвусмысленно утверждал, что «все роды наук произошли из истории и поэзии» (ex historia et poesia omnia doctrinarum genera dimanasse). Немаловажную роль в успехе истории философии сыграли принципы организации знания, получившие повсеместное распространение благодаря барочной энциклопедии: по удачному выражению Дональда Келли, рождение интеллектуальной истории — не что иное, как историзация энциклопедии[154]. Г. Бюде, автор «Элементов инструментальной философии» (1697), полагал, что всякий философ должен быть историком, а Бернар Лами в «Беседах о науках» (1684) высказывал мнение, что преподавание истории философии могло бы стать обязательным для всех. Впрочем, эти пожелания были актуальны лишь для его родной Франции: в Северной Европе, в Германии и Нидерландах история философии была возведена в ранг университетской дисциплины, хотя и пропедевтической — соответствующий предмет преподавался в качестве введения к естественным наукам. Помимо институциональной ниши история философии обретает в начале XVIII столетия и представительство в периодической печати: один из виднейших представителей дисциплины, К.А. Хойманн, на протяжении шести лет с 1715 по 1721 г. издавал в Галле специализированный журнал «Acta Philosophorum, das ist gründliche Nachrichten aus der Historia Philosophica», устроенный по образцу знаменитых лейпцигских «Acta eruditorum».
Однако история философии не была лишь одной специальной дисциплиной наряду с другими — ее притязания состояли в том, чтобы стать одновременно историческим и теоретическим фундаментом всего корпуса человеческих знаний. Воплощением этой тотализирующей претензии стала философия эклектизма, вновь открытая для ранненововременной Европы Юстом Липсием и Иоганном Герхардом Фоссием. Событие это, столь важное для интеллектуальной истории ранненововременной Европы, произошло почти случайно: в силу целого ряда совпадений вышло так, что в издании Диогена Лаэрция от 1657 г., подготовленном одним из виднейших представителей барочной эрудитской филологии, Фоссием, глава о секте эклектиков оказалась последней. Тем самым, согласно Фоссию, эклектическая школа как бы подводила итог развитию античной философии. Фаворизирующая исторический подход история идей декларативно отказалась от систематического принципа в философствовании; так, анонимный автор «Жизнеописаний Древних философов» (1702) пишет:
Этот [исторический — Ю. И.] метод предпочтительнее того, который из множества сочинений формирует Общую Систему философии, цитируя без всякого порядка то одни, то другие фрагменты[155].
Соединение теоретических амбиций и критической установки по отношению к любой системе, притязающей на обладание «завершающим видением», характерное для эклектиков, было унаследовано и Якобом Брукером. Брукер видел в своей «истории идей» вариант истории философии, главным предметом которой являются «чистые идеи» (idee purae). Именно к Брукеру восходит классическая «перспективистская» версия истории знания, одним аспектом которой является кантианская «история философии a priori», а другим — история units of knowledge Артура Лавджоя. В модели Брукера оказались собраны в одном фокусе история индуктивных наук, история философии и критическая модель рациональности, традиционно ассоциируемая с фигурой Декарта. Протестантская критическая версия истории идей у Брукера явным образом противостояла ренессансной парадигме prisca sapientia, усматривавшей истоки философского знания в мудрости Зороастра, Моисея и Гермеса Трисмегиста. Опираясь, с одной стороны, на разоблачительные открытия Исаака Казобона, а с другой — на эпистемологический фундамент индуктивных наук, Брукер последовательно разграничил религиозную мудрость (sapientia) древних и рациональную философию (philosophia), отвечающую позитивно-научным критериям[156]. Критический импульс Брукера стал кульминационным пунктом в развитии традиции, восходящей к авторитетному протестантскому теологу-аристотелику Христиану Томазию; ближайшим же источником для Брукера следует, по-видимому, считать «Историю нравственной философии» Николая Иеронима Гундлинга. В значительной степени потому, что институционально история философии в немецких землях была вводной частью курса по натурфилософии и естественным наукам, образцом для Гундлинга стала «История медицины» Даниэля Леклерка, брата знаменитого филолога и творца «критического искусства» (ars critica) Жана Леклерка. Объединение принципов филологической критики текста и поставленной на индуктивный фундамент истории медицины позволили авторам, подобным Брукеру и Гундлингу, выработать убедительную альтернативу prisca sapientia[157]. Так, ренессансная история философии в духе Ф. Патрици, Т. Стенли, Г. Хорния и И.Г. Фоссия была вытеснена критической историей философии, испытавшей определяющее влияние картезианства[158]. Курт Флаш весьма точно выделил основные параметры «критической истории идей», охарактеризовав ее как «полигисторски-лексикографическую, дружественную по отношению к Реформации и имеющую дидактическую цель» (polyhistorisch-lexikographisch, reformationsfreundlich, didaktisch)[159].
Однако много более известная ранненововременная версия истории идей принадлежит оппоненту Брукера, Джамбаттисте Вико, критически упомянувшему в «Новой науке» «ученую и многомудрую книжечку под названием “История идей” (un libricciuolo erudito e dotto col titolo Historia de ideis). Кстати, в примечаниях к русскому изданию «Новой науки» это сочинение было ошибочно приписано Томасу Бакеру (1656-1740), автору трактата «Reflections upon learning», который в другом месте фигурирует у Вико под именем «анонимного английского автора»[160]. Отправная точка рассуждений Вико об истории идей принципиально иная, чем у немецкого эклектика: если Брукер хотел создать автономную дисциплину, обладающую позицией вненаходимости по отношению к любым версиям метафизики, то Вико еще в ранних своих сочинениях недвусмысленно высказался против дисциплинарного партикуляризма. Своего рода манифест, направленный против изоляции отдельных наук, мы находим в знаменитой лекции 1708 г. «О методе преподавания и изучения наук в наше время»:
Искусства и науки, которые некогда философия исполняла словно бы единым духом, ныне предстают разделенными и разрозненными. В древности философы стремились к тому, чтобы сделать согласным со своим учением не только нрав свой, но и самый способ рассуждения. Сократ, заявлявший, что он «ничего не знает», не высказывал никаких мнений от собственного лица, но делал вид, будто желает учиться у Софистов; задавая им на вид скромные и непритязательные вопросы, он незаметно вел свою линию рассуждения. Стоики, считавшие ум мерилом истины и полагавшие, что мудрец не может удовлетвориться одним лишь мнением, рассматривали не подлежащие сомнению истины в согласии с их собственными принципами (pro suo jure); эти истины они, вооружившись своими любимыми соритами и пользуясь вторичными истинами как опосредующими звеньями, прилагали к сомнительным положениям. Аристотель, учивший, что об истине следует судить как посредством чувств, так и посредством разума, пользовался силлогизмом для изложения общих истин, дабы посредством них сделать достоверными частные сомнительные положения. Эпикур, сводивший понятие об истине к данным ощущений, не принимал от других и сам не формулировал никаких доказательств: речь его была простой и безыскусной. Сегодня же университетские слушатели учатся искусству рассуждения у Аристотелика, физике — у Эпикурейца, юридическим Институциям — у последователя Аккурсия, Пандектам — у Фабриста, а Кодексу [гражданского права] у последователя Альчиато. И столь беспорядочным и искаженным бывает порой их образование, что, хотя в некоторых областях они и демонстрируют чудеса учености, целостного знания (summa), в коем заключен цвет мудрости, они не имеют. Вот почему я бы желал, чтобы университетские наставники составили единую систему дисциплин, согласную с нуждами религии и государства и способную соблюсти единство учения, и эту систему преподавали бы в соответствующем общественном учреждении (ex publico instituto)[161].
Того, кто стремится отделить дисциплины друг от друга и отлучить их от философии, Вико называл не иначе как «тираном». В «Автобиографии» 1723-1728 гг. неаполитанский философ заявил, что до его «Новой науки» не существовало системы, объединяющей просвещенную светом христианства платоновскую метафизику и гуманистическую филологию. Как бы мы ни представляли себе отношение дидактических сочинений Вико к «Новой науке» (а на этот счет существуют различные точки зрения)[162], ясно, что идеал «системы наук», схематически намеченный в «De ratione», воплощение свое обрел именно в викианском opus magnum. Систематическое единство дисциплин в «Новой науке» обосновывали многочисленные органические метафоры: от уподобления «Элементов» новой науки «крови, растекающейся по одушевленному телу»[163], до традиционной для классифицирующего дискурса метафоры «древа Поэтической Мудрости», ветвями которого являются, по Вико, логика, этика, мораль, политика, космография и другие науки[164]. Однако главная семантическая трансформация, образующая в некотором смысле нерв «новой науки», заключалась в том, что центральные категории отдельных дисциплин превратились у Вико в метафоры социально-политических реалий. Возможность подобной «транспозиции» обеспечивалась принципиально иной по отношению к Новому и Новейшему времени структурой дисциплинарного поля: в раннее Новое время проблемные области, которые для модерного научного мышления представляются радикально несоизмеримыми и лежащими в разных плоскостях, образовывали континуум. Иногда из смешения множества «дискурсов ученой культуры» рождались новые специализированные дисциплины — так, из синтеза библейской герменевтики и физики возникла геология. Иногда же, напротив, возникали синкретические образования, содержавшие в себе частные дисциплины как бы эминентно: таковы, скажем, philosophia mosaica Яна Амоса Коменского, historia universalis Кристофа Милеуса, mathesis politica Томаса Гоббса или scienza nuova Джамбаттисты Вико.
Дональд Келли ставит Вико в один ряд с Луисом Вивесом, Кристофом Милеусом, Луи Ле Руа и другими гуманистическими «историками знания»[165]. Известно, что Вико был близок к Джузеппе Валетте, автору одной из наиболее известных историй философии, составленных в Неаполе. В то же время, позиция Вико по отношению к истории идей представляется двойственной. С одной стороны, и в «Королларии об основных точках зрения настоящей науки», и в «Объяснении поэтической мудрости» — важнейших методологических разделах «Новой науки» — Вико прямо называл свою науку «историей [человеческих] идей» (terzo principale aspetto è una storia d’umane idee). Более того — все основания («принципы») своей науки Вико делил на две части — одни относились к истории идей, вторые — к истории языка (principi divisi in due classi, una dell’Idee, un altra delle Lingue). С другой стороны, однако, представители обеих доминировавших в интеллектуальном ландшафте того времени версий истории философии — Якоб Брукер и Георгий Хорний — охарактеризованы в викианском opus magnum весьма критически. Причем если Брукер, как мы могли убедиться, был упомянут анонимно — приведено лишь название его сочинения «Historia doctrinae de ideis» — то Хорний вместе с другим представителем эрудитской historia sapientiae, Томасом Стенли, пополнил пандемониум отрицательных персонажей «Новой науки» на равных правах с Макиавелли, Гоббсом, Зельденом и иными bêtes noires.
Так, в разделе «О Поэтической Географии» Хорний становится объектом насмешек за анахронистическое представление о скифе Анахарсисе, которого традиция prisca sapientia превратила в одного из основателей философии[166]. Полемика с родственной естественным наукам историей философии содержится в «Новой науке» не только эксплицитно, но и имплицитно. В числе примечаний к Хронологической Таблице в рубрике под литерами Kk мы находим упоминание о Фалесе Милетском — основоположнике ионийской натурфилософии и, тем самым, для таких авторов, как Брукер, также и всей философии в целом. В результате целого ряда контаминаций и объединений — далеко не всегда обоснованных — разрозненных доксографических свидетельств Фалесу был приписан целый ряд естественно-научных открытий. Другой древний ионийский философ — Анаксимандр — был объявлен учеником Фалеса и, что еще более важно, основателем первой натурфилософской школы, secta ionica. Именно благодаря представителям протестантской критической историографии история философии во всех учебниках стала начинаться — и начинается до сих пор — «от Фалеса» (разумеется, эта генеалогия в конечном счете восходит к Диогену Лаэрцию, однако у Диогена мы можем найти и ряд «ориентальных» предшественников Фалеса, которые не могли бы войти в канон критической истории философии). Вико также объявил Фалеса основателем философии, причем именно как «физика». Однако открытие Фалесом физического первопринципа — воды — намерено помещено в «Новой науке» в травестийный контекст: «И начинает он [Фалес — Ю. И.] с Принципа слишком нелепого, с Воды, может быть, потому, что наблюдал, как благодаря воде растут тыквы» (e comincio da un principio troppo sciapito — dall’acqua, — forse perché aveva osservato con l’acqua crescer le zucche)[167]. Открытие физики предстает событием совершенно случайным и нелепым, а Фалес — фигурой скорее комической и вряд ли заслуживающей того места в пантеоне основателей позитивной науки, которое отводили ему авторы, подобные Брукеру. Рискнем предположить, что именно ирония служила Вико одним из главных инструментов дискредитации первоначал конкурирующих «новых наук». Достаточно вспомнить в связи с этим начало главы «О методе» его «Новой науки», фоном для которой было, как легко предположить, «Рассуждение о методе» Декарта. Словно в насмешку над педантичностью Картезия, последовательно избавлявшегося от предрассудков на пути к единственному непогрешимому методу, генеалогия которого — восхождение к cogito как первооснове всякой достоверности — и образует сюжет «Рассуждения», метод Вико, по собственным словам автора, рождается в буквальном смысле «от скалы и дуба»:
Для полного установления Оснований нашей Науки нам остается обсудить в первой Книге метод, которым она должна пользоваться. И так как она должна начинать с того, с чего начинается ее материал (как это было сказано в Аксиомах), то мы принуждены отправляться, как и Филологи, от камней Девкалиона и Пирры, от скал Амфиона, от людей, рожденных бороздами Кадма или «крепким дубом» Вергилия; и как Философы — от лягушек Эпикура, от кузнечиков Гоббса, от простаков Гроция, от брошенных в этот мир безо всякой божьей заботы и помощи — Пуфендорфа, от грубых дикарей, так называемых Патагонских гигантов, которые, как говорят, были найдены у Магелланова пролива, т.е. от Полифемов Гомера, принятых Платоном за первых Отцов в состоянии Семей — такова Наука об Основаниях культуры, данная нам как Филологами, так и Философами![168]
Нельзя не видеть здесь, в первых строках раздела «О методе» «Новой науки», аллюзии на «Рассуждение» Декарта, тем более что в соседнем примечании эпистемологические требования к «каждому, интересующемуся нашей Наукой», сформулированы в совершенно картезианском духе:
Он должен покрыть забвением свою фантазию и свою память и оставлять свободное место только для понимания; и тогда, отправляясь от такой первой человеческой мысли, он начинает раскрывать погребенные до сих пор стороны происхождения, составляющие и украшающие как Мир Гражданственности, так и Мир Наук[169].
Однако барочные гротески в приведенной цитате не являлись лишь средством дискредитации картезианского рационализма. Собранная Вико коллекция нелепых и разнородных оснований «новой науки» была призвана подчеркнуть органическое единство метода и предмета этой науки — стихии исторического мира — в противоположность умозрительности метода картезианцев.
Дискредитация фигуры Фалеса и дистанцирование от «истории идей» Брукера предполагали принципиальное различие между «поэтической физикой» Вико и физикой критических историков философии, подобных Брукеру. Физика «поэтической эпохи», о которой писал Вико, радикально отличается от физики в ранненововременных представлениях о ней. Вико отвергал принцип линейного прогресса дисциплины, полагая, что древнейшая физика иноприродна соименной ей дисциплине эпохи «явленного разума»: фактически викианская физика является контрапунктом к «Поэтической экономике» — разделу «Новой науки», посвященному одновременно социальному и физиологическому «оформлению» человеческого тела, — и представляет собой вариант социальной антропологии. Самой большой и самой важной частью древнейшей физики, по Вико, является рассмотрение природы человека[170] — учение первобытных «поэтов-теологов» об элементах, о хаосе и т.д. было перетолковано в терминах «естествознания» лишь позднее, в эпоху эмансипации науки от ее социального субстрата. Так, четыре элемента в учении древнейших физиологов являются в действительности метафорами четырех этапов прогресса гражданского состояния; Хаос древних поэтов обозначает вовсе не первоматерию, как хотел думать еще Аристотель, а промискуитет, являющийся, по Вико, необходимой характеристикой жизни людей в состоянии ferinitas. Однако, парадоксальным образом, именно из этого арсенала метафор, в свернутом виде (picciola favoletta) содержащих социально-политический опыт древнейшего человечества, в конечном счете сформировался и язык новейшей науки о природе. Так, Вико усматривал прямую преемственность между поэтической метафорой («героическим описанием») cernere oculis — т.е. буквально «черпать глазами» — и картезианской диоптрикой. Еще более разительный пример — интерпретация латинского глагола olfacere — обонять, или буквально производить запахи. По Вико, поэты-теологи оказались современнее физиков-аристотеликов, предвосхитив опровержение теории вторичных качеств Декартом и Локком[171]. При этом в роли опосредующего механизма, позволившего связать друг с другом примитивные формы социального опыта, с одной стороны, и дифференцированные и притязающие на автономию от социального субстрата науки времен ragione spiegata (по Вико, эпохи рефлексии, или «явленного разума»), с другой, выступила этимология. Так, возводя существительное humanitas к глаголу humare («погребать»)[172], Вико обосновывал происхождение всех «наук о человеке» (humanitates) от одной из трех древнейших церемоний, положивших начало гражданскому состоянию (погребения, торжественных браков, гадания). Именно амбивалентность этимологии, укорененной, с одной стороны, в телесном опыте, а с другой — выступавшей универсальным механизмом производства и трансляции знания, позволила избежать цезур в викианской модели истории идей.
Полноценной и систематически завершенной версии истории философии Вико не создал, однако фрагмент «философски рассказанной истории философии» (una particella della storia della filosofia narrata filosoficamente) мы все же можем обнаружить в конце четвертой книги «Новой науки» 1744 г. Руководящим принципом истории философии явилась строгая гомология истории социально-политических институтов и естественно-научных представлений: «Наша Наука продвигается посредством строгого Анализа человеческих мыслей, относящихся к необходимости или пользе общественной жизни»[173]. У Вико история идей начиналась не тогда, когда появились концепции, которые современные ему науки о природе могли бы признать родственными себе, а «с того момента, когда первые люди начали мыслить по-человечески». Именно поэтому история философии оказалась королларием к истории «естественного права народов», каковая, однако, предстала у Вико в причудливом синкретическом облике — в форме «легальной метафизики» (legal metafisica):
...C Афинской площади выходили все отмеченные нами Основания Метафизики, Логики и Морали. Из указания Солона Афинянам: nosce te ipsum [«Познай самого себя»], как мы разъяснили выше в одном из Коpоллapиeв к «Поэтической Логике», возникли Народные Республики, из Народных Республик — Законы, а из Законов — Философия. Поэтому Солона, Мудреца в Народной Мудрости, стали считать Мудрецом в Тайной Мудрости. Пусть это будет философски рассказанной частицей Истории Философии...[174]
Возникновение философии предстало у Вико эпифеноменом эволюции социальных практик и трансформации языка:
Из наблюдения над тем, как афинские граждане в предписывании законов объединялись в идее равномерно распределенной и общей для всех пользы, Сократ начал выводить интеллигибельные родовые понятия, т.е. абстрактные универсалии, посредством Индукции[175].
Отсюда понятно, почему Вико отмежевался от брукеровой истории идей. Реконструкция подлинной — социальной — природы всякого знания позволила автору «Новой науки» выявить основной порок современных ему естественно-научных дисциплин; лучше всего это открытие Вико удалось определить Джузеппе Мадзотте: «Для Вико посулы наук о природе разбиваются о телесную реальность. Новая физика не может, в отличие от Египетской мудрости, защитить природные тела от разрушения и смерти»[176].
* * *
Такое же амбивалентное положение, как и история идей, в конструкции викианской «гражданской науки» занимала и политика. В самом общем смысле во второй половине XVII в. можно выделить две конкурирующие дисциплинарные модели «политики», альтернативой которым был проект интегральной «гражданской науки»: тацитизм, инкорпорировавший элементы гуманистической риторики, и реформированный «протестантский» аристотелизм. Разумеется, не следует представлять себе эти модели по образцу устойчиво воспроизводящихся дисциплинарных комплексов, характерных для классической структуры дисциплинарного поля после позитивистского «онаучивания». Однако ряд параметров дисциплины у трех перечисленных нами протодисциплинарных форм политики мы все же можем обнаружить: это, прежде всего, этаблированный язык и относительно устойчивый категориальный аппарат, унифицированная структура аргументации и узнаваемый канон авторитетов.
Кроме того, с начала XVII в. «политика» (правда, понимаемая достаточно туманно) стала проникать и в научные институции[177]: в 1612 г. Даниэль Хейнзий, преподаватель древнегреческого языка в Лейденском университете, получил звание «профессора политики» (professor politices), а за 10 лет до этого в Упсальском университете была открыта кафедра риторики и политики для Юхана Шютте (Johan Skytte). Университеты и в случае политической дисциплины стали центрами производства «нормализованного» знания: на лекциях свежеиспеченных professores politices формировался новый дисциплинарный язык, вытеснявший топику комментариев к «Политике» Аристотеля. Этот язык затем нашел воплощение в дидактической литературе. Основой преподавания политики в Северной Европе, где в XVII в. эта дисциплина быстрее всего проникала в университеты, был гуманистический принцип imitatio[178]: первые профессора политики, подобные Даниэлю Хейнзию, вовсе не ставили своей целью анализ актуального состояния европейских государств или тем более разработку теоретического инструментария, подобного методам политологии в привычном для нас представлении об этой дисциплине.
Между тем начиная с середины XVI столетия о необходимости реформы политической дисциплины говорили все, даже наиболее умеренные политические писатели. Характерная для рубежа XVI-XVII вв. ситуация «дискурсивной анархии» (В. Кан) вызвала к жизни процесс, который Маурицио Вироли окрестил «триумфом ragion di Stato»: традиционное для гуманистической эпохи понимание политики как гражданской философии, направленной на общее благо, последовательно сходило на нет. Отмирание языка старой гражданской философии, осуществленный гуманистами риторический поворот и массированное наступление на аристотелевскую модель политики на рубеже XVI-XVII столетий оставили нарождающиеся науки о социально-историческом мире в состоянии мучительной языковой нужды — Sprachnot.
В этих условиях возникли новые дискурсы политики, важнейшими из которых, как мы уже сказали, были тацитизм и, в немецких землях, «статистика». Основными доминантами тацитистской политики следует считать пристальное внимание к техникам манипуляции, usages of imagery по Скиннеру (тацитистская категория arcana imperii), риторическим стратегиям политического воздействия (открытие подрывного потенциала такого тропа, как парадиастола[179]) и апроприацию проблематики государственного интереса (ragion di stato), приведшую к глубинной трансформации предмета политического рассуждения. Существенным фактором конституирования дисциплинарной идентичности тацитистской политики были компиляции, игравшие роль «сокровищницы общих мест политического искусства», — такие как трактат «О тайнах государств» Арнальда Клапмария или «Тайны царств и республик, извлеченные из сочинений преизобильного Корнелия Тацита» Кириака Лентула. Однако самосознание тацитистской политики было парадоксальным: там, где писатели-тацитисты пытались осмыслить дисциплинарный статус своей модели политики, они сближали ее с традиционно отлучавшейся от круга наук софистикой[180]. Тем самым они создали как бы «антидисциплину», интеграция которой в дисциплинарное поле науки раннего Нового времени оказалась невозможной.
Если тацитистская политика, mutatis mutandis, была наследницей долгой традиции политики ренессансной, то другая плазматическая форма дисциплинарности — Staatenkunde, или статистика, предтеча немецкой камералистики — была представлена ее создателем, Германом Конрингом, как его собственное и не имеющее прецедентов в традиции изобретение («a nemine quoquam tradita»). Конринг, профессор политики в Хельмштедте, представил свой проект «онаучивания» политики в аристотелевском смысле. Это была «гражданская наука», или «статистика» (scientia civilis, Staatenkunde). Согласно Конрингу, искомая наука о государстве уже существовала, но только в потенции: в эмпирическом своем аспекте она уже была построена («iam exstructa est super experientiam»)[181]. Политика Конринга, как, скажем, и «универсальная герменевтика» Даннхауэра, возникла из нового прочтения Аристотеля, из стремления, говоря словами того же Даннхауэра, «выйти за померий аристотелевской науки, прибавив к ней еще один город». Однако «дедуктивный стиль», свойственный конструкции «универсального благоразумия», не должен вводить в заблуждение: «политическую архитектонику» Конринга, несмотря на ее универсалистские притязания, Арно Зайферт с полным правом охарактеризовал как модель «слабой» или «мягкой» политической науки (weichere «scientia»)[182]. В седьмой главе своего трактата «Прополитика» (1663) Конринг повторил традиционные аргументы против возможности демонстративного аргумента в историческом исследовании, однако здесь же напомнил о том, что Аристотель называл свою политику акроаматикон — точной наукой. В подтверждение этого суждения Конринг приводил несколько аргументов. Прежде всего, в политике можно найти все виды демонстративного доказательства: приведение к невозможному, от симптома, от эффекта, от ближайшей причины[183]. Кроме того, по мнению хельмштедтского профессора, не так уж важно, достигают ли политические доказательства степени достоверности, свойственной доказательствам математическим[184]. Отказывать политике в праве именоваться наукой на основании неопределенности ее эпистемологического статуса столь же неразумно, сколь и отрицать научность физики: ведь и естественные вещи являются акцидентальными, а вечны и неизменны лишь в родах и видах[185]. И здесь Конринг предпринял принципиально важный шаг, который позволяет считать его не только автором оригинального политико-юридического учения (Staatenkunde), но и предтечей статистики в привычной для нас математизированной версии этой дисциплины. Прежде всего, он указал на практическую нецелесообразность императива абсолютной достоверности[186]: для того чтобы принимать верные политические решения, следует обращать внимание на регулярно повторяющиеся действия (saepenumero contingere)[187]. В политической практике, писал он, нужно искать не аподиктические законы, а статистические закономерности. Предысторией превращения проблемы моральной достоверности в одну из центральных тем рассуждения об универсуме человеческого произвола (moralization of modalities, используя термин Свена Кнебеля) стала рефлексия о «трех видах необходимости» в католической схоластике конца XVI — начала XVII столетия (после Тридентского собора)[188]. Однако в схоластической традиции проблема triplex necessitas осталась изолированной от политической практики: «открытие статистических модальностей» в испанской теологии было в первую очередь обращено на пользу теодицеи (апория неизбежности грехопадения, вопрос о необходимости выбора лучшего мира из возможных или боговоплощения) и решения проблемы предопределения[189]. А вот у политических теоретиков XVI-XVII вв. «моральная достоверность» становится областью, в которой эпистемологическая проблема обретает политическое измерение. Одним из возможных методов работы с моральной модальностью, апробированных уже католическими теологами, была математика. Однако в «политической архитектонике» Конринга не нашлось места математическим методам; поворот от логико-метафизической необходимости episteme к статистической модальности осуществлен у него, как ни парадоксально, на базе все той же аристотелевской науки. Так, в качестве прецедента «статистического» исследования, диагностики политических закономерностей, Конринг приводил аристотелевский проект сравнения между собой 158 греческих политий. Но более того: сам переход от «сильной» аподиктической модели науки к «слабой» статистической осуществлен посредством метатезы внутри все того же классического аристотелевского определения науки как знания о том, что «существует вечно или в большинстве случаев» (Метафизика, XI, 8). Таким образом, для того чтобы осуществить насущную реформу политического рассуждения, Конрингу даже не пришлось покидать «померий аристотелевской науки»: ему было достаточно лишь переместить центр тяжести с aei («вечно») на epi ta polu или katha pleisthon («в большинстве случаев») в школьной аристотелевской формуле.
Конринг недвусмысленно высказывался в пользу автономии политического рассуждения: его scientia civilis должна быть отличена от разных видов благоразумия, от риторики и от юриспруденции[190], а также от «вежества» или «политичного обхождения» (того, что у итальянских авторов называлось vivere politicamente). Статистика Конринга противопоставлялась гуманистическим «упражнениям в красноречии» (oratoria exercitia) и мыслилась им как теоретическое завершение дескриптивного анализа отдельных «политий» (notitia status imperii). По мнению хельмштедтского профессора, эта иерархия должна была найти отражение и в структуре университетского куррикулума: историю следовало читать прежде политики. В концепции Конринга история превратилась в своего рода «сырьевой придаток» политики и других теоретических дисциплин: он называл ее «кормилицей строгих наук» — manuductrix severiorum scientiarum[191].
Проект реформы политического благоразумия в форме дедуктивного обоснования уже наличного эмпирического опыта посредством инкорпорирования исторического материала в аристотелевскую конструкцию науки пользовался в рассматриваемый нами период значительной популярностью: поэтому и Дж. Вико определил свою «Новую науку» как scientia de universalibus et aeternis[192]. Однако наряду с протодисциплинарными моделями политики, подобными гражданской науке Конринга, моделями, предполагавшими включение политики в семью других дисциплин на основании единой эпистемологической программы (аристотелизм в случае Конринга), возникла и противоположная им по духу идея интегральной гражданской науки, нашедшей воплощение, среди прочего, в mathesis politica Томаса Гоббса. Основываясь на принципе verum-factum, Гоббс, притязавший на то, чтобы не просто реформировать политическую науку, а создать ее из ничего («политическая философия не древнее, чем мой собственный трактат “О гражданине”»), объявил политику единственной достоверной наукой. Не менее известной версией интегральной гражданской науки была «новая наука» Дж. Вико. Здесь следует сделать уточнение: у Вико необходимо различать scienza delle cose civili и то, что он сам называет «поэтической политикой». «Поэтическая политика» неаполитанца имеет столь же малое отношение к протодисциплинарной политике тацитистов и адептов Staatenkunde, как и его поэтическая физика — к физике в понимании Ньютона или Бойля. В то же время, несводимый остаток, своего рода caput mortuum языка тацитистов и «статистов» мы можем обнаружить как в «Новой науке», так и в более ранних сочинениях неаполитанца.
Речь идет о викианской концепции ragion di stato («государственного интереса»). Ragion di stato, как известно, представляет собой один из центральных элементов политического дискурса тацитистов. Однако в противоположность авторам, подобным Клапмарию, которые создали, отталкиваясь от этой категории, подлинную поэтику манипуляции, Вико превратил ragion di stato и arcana imperii в маргиналии тектонических социально-политических трансформаций. В противовес просвещенческой модели исторического процесса (представленной, в числе прочих, Дж. Толандом), для которой противоречие между ясностью юридического языка в древности и темнотой его в более просвещенные времена выглядело неразрешимой апорией, Вико считал герметизм юридического языка нормальной функцией от социальных процессов («Законы соответствуют состоянию общества»). Согласно Вико, на героической стадии человеческой истории, когда древнейшие священные законы «охранялись немыми языками» и выражались в мистериях, необходимость скрывать смысл юридических обрядов и формул от непосвященных была мотивирована грубостью человеческой природы, неспособной воспринять никакую дискурсивную форму. В эпоху монархий, т.е. в форме правления, представляющей собой, с точки зрения Вико, кульминационный этап эволюции политических институтов, возникновение эзотерической речи «государственного интереса» связано с размежеванием двух ветвей права: в то время как «гражданская справедливость» (aequitas civilis) становится уделом немногих мудрых государственных мужей, обсуждающих государственные дела в тиши своих кабинетов, большинство знает в мельчайших подробностях лишь свои частные права (aequitas naturalis).
Вико, как и Конринг, претендовал на то, чтобы создать «гражданскую [т.е. политическую]» науку (scienza delle cose civili), однако подход двух авторов к этой задаче был принципиально различным. Конринг ставил перед собой цель разработать операциональный методологический инструментарий, четко очертить предметное поле и внятно обосновать логическую автономию и эпистемологический статус политической дисциплины. Очевидно, что такая конструкция политики особенно благоприятствовала производству нормализованного знания в рамках данной дисциплинарной модели и быстрой институционализации свежеиспеченной «статистики». Границы гражданской науки у Вико, напротив, очень размыты: в конечном счете, scientia civilis — лишь один из множества атрибутов или аспектов «новой науки» наряду с «философией авторитета» или «историей идей». Кроме того, внутри гражданской науки имелся еще и раздел метафизики, который Вико называл политикой в собственном смысле этого слова. Задача политики в узком смысле заключается, по Вико, в исследовании двух проблем: 1) возникновения публичной сферы в экономике и потестарных отношениях; 2) причины и условия возможности возникновения социального неравенства[193]. Именно анализу этих проблем посвящены «протомарксистские» разделы «Новой науки», повествующие о борьбе патрициев и плебеев и эволюции аграрного законодательства в Древнем Риме.
Политика в широком смысле представляет собой, наряду с критикой, один из двух видов «практики» «новой науки». Как показывает не опубликованное Вико приложение к «Новой науке» 1730 г., озаглавленное «Практика настоящей науки» (Pratica di questa scienza), «новая наука», т.е. созерцание «вечной идеальной истории» в фактах, имела непосредственное политическое приложение:
Подобная Практика может быть с легкостью почерпнута из Созерцания Пути, который проходят Нации; наученные этим созерцанием, Мудрые Государственные мужи и Государи смогут, установив надлежащие порядки, законы и образцы для подражания, привести свои народы к ακμή или совершенному состоянию[194].
В одном из своих писем 1729 г. Вико определил цель своей «Новой науки» как «достовернейшую критику человеческого произвола» (critica certissima dell’umano arbitrio)[195]. В формулировке этой задачи Вико был близок к Томасу Гоббсу, однако при более внимательном рассмотрении теоретический стиль двух этих моделей гражданских наук обнаруживает фундаментальные различия. Гоббс «работал широкими мазками»; он стремился, «элиминировав хаос и противоречивость исторических и правовых практик», «редуцировать значение исторической информации для теоретизирования». Его перспектива — «макросоциологическая» (macro-solution of macro-problems), а вопросы, которые он решал, — экстремальные, предельные вопросы, не допускавшие промежуточных решений и слишком пристального внимания к историческим мелочам. У Вико, напротив, история (а «Новая наука» в одном месте прямо определена как «история»[196]) раскрывала необозримое поле политических возможностей, примеров институциональных трансформаций, сценариев действия: викианская «политическая диагностика» (ars diagnostica) предполагала совершенно другую оптику, чем гражданская наука Гоббса[197]. Как отмечает Н. Стрьювер:
В то время как Гоббс отказывается иметь дело с богатством «слишком человеческих» деталей историко-политических практик, Вико открывает в этом богатстве внутренние ресурсы, позволяющие постичь истоки гражданского устройства — хотя бы и в режиме иронии. В то время как Гоббс, как кажется, стремится элиминировать хаос и противоречия исторических и правовых практик человеческого сообщества и, тем самым, редуцировать удельный вес исторической информации в теоретическом рассуждении, Вико, напротив, придает этимологиям, которые в изобилии встречаются на страницах его сочинений, центральное значение для разработанного им диагностического искусства, ибо этимологии для него — это сохранившиеся в памяти языка исторические свидетельства социальных и правовых институтов, это источник политической мудрости, содержащий в себе тактический опыт сохранения идентичности наций[198].
Кардинальное отличие «новой науки» от «статистики» Конринга заключается, прежде всего, в том, что у Вико доступ к объекту политического анализа опосредован герменевтической задачей расшифровки «знаков» (segni) и «обломков» (rottami) древности; эта задача противопоставлена непосредственному приложению умозрительных категорий «явленного разума» к миру наций или к государствам (т.е. тому, что Вико называл «тщеславием наций», boria dei dotti). Именно поэтому Вико не предлагал универсальных максим политического управления; поэтому же, в конечном счете, он отказался включать в свой opus magnum специальный «практический» раздел. Вико предпочитал демонстрировать практическое значение «Новой науки» косвенными способами. Так, отказавшись от публикации «Практики», он включил в «Автобиографию» (которая, по общему мнению, представляет собой автокомментарий к «Новой науке») письмо Антонио Конти, в котором тот указывает на практическую пользу «новой науки»[199]. Сама множественность определений — «аспектов» — «новой науки» связана с невозможностью ее непосредственного и беспроблемного практического применения — в отличие от политики у Конринга. Перед лицом ускользающего объекта гражданской науки любой дисциплинарный язык неизбежно оказался бы редукционистским. Задача создания «достовернейшей критики человеческого произвола» не могла быть решена посредством прогрессирующей дисциплинарной специализации: требовались более радикальные меры, такие как трансформация модальности политического рассуждения[200]. Более того, по Вико, практическая жизнь в целом и самая ценная часть практической жизни — политика — требуют радикального метафизического усилия — метафизической аскезы. Для предотвращения «варварства рефлексии», для того чтобы не впасть в асоциальную манеру философствования, свойственную стоикам и эпикурейцам, необходимо совершить очень серьезное, почти невозможное «кенотическое» усилие (meditando con i principi di questa Scienza, dobbiamo vestire per aliquanto, non senza una violentissima forza, una si fatta natura). Говоря словами Мишеля Фуко, в науке Вико «очевидность уступает место аскезе» (l’évidence est substituée à l’ascèse).
* * *
В XIX-XX вв. оппозиция дисциплинаризации станет своего рода лейтмотивом истории гуманитарных наук — Крейцер и Ницше, Шеллинг и Гадамер будут совмещать присвоение методологического инструментария и позитивных достижений частных наук с инвективами в адрес Fachdisziplinen и декларациями о необходимости философского преобразования гуманитарного знания. Апофеозом философского разоблачения «идиотизма» частных наук можно считать знаменитую декларацию Хайдеггера: «Наука не мыслит». Представители специальных дисциплин, со своей стороны, платили философам обвинениями в недостатке эрудиции и профессиональной некомпетентности. Формы идеологической борьбы и ее институциональные последствия могли быть разными — от постоянных поражений Дж. Вико, долгие годы стремившегося получить кафедру права в Неаполитанском университете, до обвинений Г.Ф. Крейцера в крипоткатолицизме филологом Иоганном Генрихом Фоссом. Однако в действительности альтернативы дисциплинарному принципу в истории гуманитарного знания возникали задолго до того периода, который с легкой руки Райнхарта Козеллека получил название «седлового» (Sattelzeit) и который рассматривается традиционно как точка отсчета в генеалогии дисциплинарности. Поиск единого языка гуманитарной теории в противовес множественности дисциплинарных диалектов — путь, решительно отвергнутый позитивизмом как рудимент идеалистической философии, — представлял собой одну из доминант ранненововременной интеллектуальной культуры. Однако именно в эту эпоху отчетливее всего проявились парадоксы взаимодействия гуманитарной эпистемологии и дисциплинарного принципа: трансцендируя содержание и язык специальных дисциплин, гуманитарная эпистемология не может, в отличие от спекулятивных наук, ни освободиться от «строительных лесов» частных дисциплин, ни избежать насилия над эмпирическим материалом и методами тех областей знания, которые она содержит в себе эминентно.
[154] Kelley D.R. History and the Encyclopedia // The Shapes of Knowledge: From the Renaissance to Enlightenment / D.R. Kelley, R.H. Popkin (eds). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1991. P. 19.
[155] «This method, as I take it, is preferrable to that of culling one General Systeme of philosophy out of all their writings, and to quoting them by scraps scattered here and there» (The Lives of the Ancient Philosophers. Newborough; L.: printed for John Nicholson, at the King’s Arms in Little Britain and Th., 1702).
[156] Blackwell C. Thales Philosophus: The Beginning of Philosophy as a Discipline // History and the Disciplines. The Reclassification of Knowledge in Early Modern Europe / D.R. Kelley (ed.). N.Y.: The University of Rochester Press, 1997. P. 62.
[157] Ibid. P. 66.
[158] Piaia G. The Histories of Philosophy in France in the Age of Descartes // Models of the History of Philosophy. Vol. II: From the Cartesian Age to Brucker / G. Santinello, G. Piaia. Dordrecht; Heidelberg; L.; N.Y.: Springer, 2011. P. 5.
[159] Flasch K. Jacob Brucker und die Philosophie des Mittelalters // Jacob Brucker (1696-1770): Philosoph und Historiker der europäischen Aufklärung / W Schmidt-Biggemann, Th. Stammen (Hrsg.). Berlin: Akademie-Verlag, 1998. S. 195.
[160] Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций / пер. с итал. А.А. Губера. М.: Ирис; Киев: REFL-book, 1994. С. 561.
[161] Vico G. De nostri temporis studiorum ratione // Vico G. Opere. Vol. 1 / A. Battistini (a.c.d.). Milano: Arnaldo Mondadori Editore, 1999. P. 208.
[162] Girard P. Giambattista Vico. Rationalité et politique. Une lecture de la Scienza nuova. P.: Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2008. P. 15.
[163] Вико Дж. Основания новой науки. С. 73.
[164] Там же. С. 127.
[165] Kelley D. R. Between History and System // Historia: Empiricism and Erudition in Early Modern Europe / G. Pomata, N.G. Siraisi (eds). Massachussets: Massachussets Institute of Technology, 2005. P 232.
[166] Вико Дж. Основания новой науки. С. 40, 327.
[167] Там же. С. 60.
[168] Там же. С. 112.
[169] Там же. С. 113.
[170] Вико Дж. Основания новой науки. С. 300.
[171] «Натур-Философы открыли истинность того, что сами ощущения создают качества, которые называются чувственными» (Там же. С. 307).
[172] Там же. С. 215.
[173] Там же. С. 117.
[174] Там же. С. 434.
[175] Там же. С. 433.
[176] Mazzotta G. The New Map of the World: The Poetic Philosophy of Giambattista Vico. Princeton: Princeton University Press, 1999. P. 134.
[177] То есть почти на 100 лет позднее, чем история. По имеющимся данным, первая lectio historica была прочитана Иво Виттихом в 1504 г. в Майнцском университете, а три года спустя кафедра истории, которую занял Герман Буш, появилась в Лейпциге. Однако массовое появление исторических кафедр в европейских университетах относится уже к первым десятилетиям после начала Реформации. В 1529 г. должность профессора истории (historicus) была учреждена Филиппом Гессенским в Марбургском университете, в следующем году историческая кафедра появилась в Тюбингене, а в 40-е годы уже одновременно в целом ряде университетов — в Грейфсвальде, Кенигсберге, Гейдельберге, Ростоке, Йене (Lyon G.B. Baudouin, Flacius and the Plan for the Magdeburg Centuries // Journal of the History of Ideas. 2003. Vol. 64. No. 2. P 253-272).
[178] Tromp B. De wetenschap der Politiek: Verkenningen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004. Z. 21; см. также: Wansink H. Politieke wetenschapen ann de Leidse universiteit 1575-1650. Utrecht: Hes, 1981. Z. 67, 85; Daalder H. Political Science in the Netherlands // European Journal of Political Research. 1991. Vol. 20. No. 3-4. P 279.
[179] Skinner Q. Reason and Rhetoric in the Philosophy of Thomas Hobbes. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P 161-178.
[180] См. гл. III-V «Государственных тайн» Клапмария: Clapmarius A. De arcanis rerum publicarum. Amsterodami, Apud Ludovicum Elxevirum, 1644. P 6-12.
[181] Seifert A. Conring und die Begründung der Staatenkunde // Hermann Conring (1606-1681). Beiträge zu Leben und Werk / M. Stolleis (Hrsg.). Berlin: Duncker und Humblot, 1983. S. 204.
[182] Ibid. S. 208.
[183] Conringius H. Propolitica, Sive Brevis Introductio on Civilem Philosophiam. Helmstadii: Typis et sumptibus H. Mulleri, 1663. P 49.
[184] «Civilium rerum certam peritiam aliquando posse accipi, idque demonstrationibus ratiocinationibus; etsi illae non sint demonstrationes primi ordinis atque omnium exactissimae» (Ibid. P 50).
[185] Ibid. P. 52.
[186] «Scire enim dicimur, quotiescunque aliquid intelligimus secluso errandi metu, multo magis quando simul caussas habemus perspectas» (Ibid. 54).
[187] Ibid. 53.
[188] Knebel S.K. The Renaissance of Statistical Modalities in Early Modern Scholasticism // The Medieval Heritage in Early Modern Metaphysics and Modal Theory, 1400-1700 / R.L. Friedman, L.O. Nielsen (eds). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. P. 233.
[189] Ibid. P. 237.
[190] Conringius H. Propolitica, Sive Brevis Introductio... P. 47.
[191] Seifert A. Conring und die Begründung der Staatenkunde. S. 212.
[192] По словам Арно Зайферта, «если мы возьмем для сравнения теорию науки Френсиса Бэкона, то увидим, что, хотя у Конринга необходимость эмпирического материала для политической науки номинально обосновывается сходным образом, потребность в теоретическом обосновании эмпирических наблюдений с самого начала рассматривается как приоритетная задача политики» (Ibid.).
[193] Вико Дж. Основания новой науки. С. 94.
[194] Vico G. Pratica di questa scienza // Vico G. Scienza nuova 1730 / P. Cristofolini con la collab. di M. Sanna (a. c. d.). Napoli: Guida, 2004. P. 511.
[195] Цитата из письма Вико Франсиско Ксаверию Эстевану от 12 января 1729 г. Цит. по: Girard P. Giambattista Vico. P. 75.
[196] «Таким образом, наша Наука оказывается одновременно Историей идей, обычаев и деяний человеческого рода» (Вико Дж. Основания новой науки. С. 127).
[197] Girard P. Giambattista Vico. P. 327-343.
[198] Struever N.S. Rhetoric, Modality, Modernity. Chicago: University of Chicago Press, 2009. P 60.
[199] Girard P. Giambattista Vico. P. 328.
[200] Об этом см.: Otto S. Giambattista Vico: lineamenti della sua filosofia. Napoli: Guida editori, 1992. P. 131-132; Struever N.S. Rhetoric, Modality, Modernity. P 42-65.
Глава 3. Н. Осминская. ВСЕОБЩАЯ НАУКА, ЭНЦИКЛОПЕДИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ НАУК В РАННЕЙ ФИЛОСОФИИ Г.В. ЛЕЙБНИЦА[201]
Проблема единства знания так или иначе всегда присутствовала в философской традиции, так что можно сказать, что она представляет собой неотъемлемую составляющую любой теории познания. Однако сама по себе ориентация на философское знание вовсе не предполагает обязательного утверждения о возможности достигнуть единства и всеохватывающей полноты знания, о чем ясно свидетельствуют античные и средневековые классификации наук от Платона и Аристотеля до Боэция и Марциана Капеллы. Стремление к унификации законов познания скорее нехарактерно для античного и средневекового периода и, напротив, представляется отличительным признаком нововременного мышления, которое, по замечанию Эрнста Кассирера, снимает противоположности небесного и земного мира (Коперник), естественного и искусственного движения (Галилей)[202].
К числу философских проектов Нового времени, ориентированных на создание универсальной картины мира, с полным основанием следует отнести различные модели всеобщей науки, над которыми работали мыслители XVI-XVII вв., в том числе Фрэнсис Бэкон, Рене Декарт, Иоганн Генрих Альстед, Ян Амос Коменский, Афанасий Кирхер. Однако наиболее напряженно и последовательно над построением всеобщей науки трудился немецкий философ Г.В. Лейбниц, который считал создание всеобщей науки одной из самых насущных задач своего времени. В тексте «Опыты, возводящие к счастью» (1679) Лейбниц писал: «Необходимо, чтобы была построена наука о Всеобщем (scientia de Universo) или о причинах вещей, прежде всего о Боге как творце всего, от которого зависит и все в совокупности, и наше счастье, затем — о природе и положении всех других духов (aliarum mentium), затем о телесной природе и различных качествах тел»[203]. Таким образом, по мысли Лейбница, всеобщая наука должна была представлять собой науку о причинах вещей, соединяющую в себе науку о Боге как творце и науку о творении — как об умопостигаемых сущностях, так и о телесной природе. Достоверность же полученного знания о законах природы должна была обеспечиваться процедурой их выведения из определенного числа априорных истин. В связи с этим всеобщая наука должна была, по мысли Лейбница, состоять из двух основных разделов — учения о вечных истинах и искусства изобретения, включающего также и энциклопедию[204].
Сведение натурфилософии к метафизическим принципам неизбежно влекло за собой вопрос о возможности построения генетической модели знания, представляющей все частные науки в их зависимости от единого начала и в их взаимной согласованности. Именно поэтому классификация наук становится в творчестве Лейбница (как, впрочем, и в философии Фрэнсиса Бэкона и Рене Декарта) одной из центральных проблем. При этом, как будет показано ниже, цель лейбницевских классификаций — не столько систематизация уже накопленного знания, сколько теоретическое обоснование самой возможности получения универсального знания о сущем как таковом, включая выведение из общих понятий полного определения единичного[205].
1
Как показывают самые ранние тексты Лейбница «О природе индивидуации» (1663), «Диссертация о комбинаторном искусстве» (1666)[206] и «Арифметический диспут» (1666), круг метафизических и методологических вопросов, неразрывно связанных с построением всеобщей науки, был намечен Лейбницем уже в его сочинениях юношеского периода, хотя пока еще не столько в систематическом, сколько в проблемном ключе.
Действительно, если «Диссертация о комбинаторном искусстве» Лейбница является, строго говоря, сочинением по преимуществу методологическим и отражает универсалистские претензии автора лишь постольку, поскольку изобретенный Лейбницем метод должен был быть пригоден в самых разных областях знания (метафизике, логике, музыке, военном деле и стихосложении), то в «Арифметическом диспуте» мы уже находим первые наброски классификации наук в собственном смысле слова[207]. Этот текст, изданный вслед за «Диссертацией» в 1666 году в качестве тезисов для диспута, который Лейбницу предстояло пройти, чтобы получить место преподавателя на философском факультете Лейпцигского университета, представлял собой первые две главы «Диссертации», дополненные короллариями, специально написанными по случаю диспута и не вошедшими в основной текст «Диссертации». Именно в короллариях Лейбниц представляет свою первую самую общую модель классификации знания.
Королларии к «Арифметическому диспуту» состоят из четырех небольших разделов, в которых молодой Лейбниц описывает, как изобретенный им метод исчисления комбинаций может быть применен в логике, метафизике, физике и в том, что Лейбниц называет практикой, т.е. в практической философии. На то что перечисленные сферы знания представляют собой не столько отдельные науки, сколько всеобъемлющие области знания, указывают два обстоятельства. Во-первых, эта классификация опирается на аристотелевское деление всех наук на теоретические, физические и практические, с той только разницей, что Лейбниц предпосылает этим разделам логику, очевидно, представляющую собой аналог аристотелевской диалектики. Во-вторых, в тексте Лейбница 1668-1669 гг. «Кафолические доказательства»[208] та же классификация полностью воспроизводится в качестве «элементов философии» с той единственной разницей, что там к указанным сферам добавлена математика, что неудивительно в силу сближения метафизики и математики.
Пояснения, которые Лейбниц дает каждому из разделов, направлены именно на обоснование новых принципов научного знания. Так, в разделе «Логика» он вводит различие между необходимыми и фактическими высказываниями и выдвигает требование доказательности во всех научных дисциплинах[209]. Здесь же он утверждает единство принципов познания с порядком природы. Таким образом, логика определяется им как область необходимых истин, лежащих в основании всякого знания.
В разделе «Метафизика» Лейбниц выступает в еще более новаторском ключе. Исходя из определения «Бог есть субстанция, творение — акциденция», он формулирует положение, согласно которому «необходимо, чтобы была создана наука о творении в целом, однако ныне она обыкновенно включается в Метафизику»[210]. Таким образом, рассматривая творение как предикат субстанции, Лейбниц одновременно выделяет знание о нем в отдельную сферу. Можно предположить, что это утверждение находится в прямой связи с высказанным в основном тексте «Диссертации» положением о разделении природы Бога и воли Бога, в соответствии с которым необходимые истины проистекают из божественной природы, но не зависят от Его воли и, таким образом, не являются сотворенными. Именно в контексте этого разделения, следует, по-видимому, понимать и то обстоятельство, что в системе Лейбница логика предшествует метафизике — такое место она получает не потому, что содержит формальные правила мышления, но потому, что выражает необходимое как природу Бога. Соответственно, можно предположить, что наука о творении рассматривалась Лейбницем как наука о контингентном и именно поэтому должна была составлять отдельный раздел знания[211].
Другие два раздела короллариев — «Физика» и «Практика» — рассматривают основания физического мира (элементы) и основания нравственной жизни человека (аффекты). Таким образом, они, как и первые два, построены по принципу логической комплементарности: физическая природа отражает область необходимого, а аффекты — область человеческой воли (т.е. фактического). Здесь следует вспомнить, что одной из главных задач, которые Лейбниц ставил перед собой, было доказательное обоснование не только физических, но и моральных наук (см. раздел «Логика»), о чем красноречиво свидетельствует заключающее раздел «Практика» следующее утверждение философа: «Если установлено верное начало, то может быть написано и учение о научном праве, что до сего времени не сделано»[212].
Итак, можно сказать, что классификация наук, приведенная в короллариях к «Арифметическому диспуту», представляет собой не столько опыт систематизации известных наук, сколько обоснование новых наук (как минимум двух совершенно новых — новой науки о творении и новой науки о естественном праве). При этом представления Лейбница об искомых принципах объединения и разделения наук основывались на теологических и метафизических презумпциях: на учении о разделении природы и воли Бога, учении о субстанции как едином и бесконечном, а о творении — как сложном и исчисляемом[213].
2
Следующим значительным текстом Лейбница юношеского периода, где рассматривается проблематика единства знания и классификации наук, является «Новый метод изучения и преподавания юриспруденции» (1667)[214]. В основу этого сочинения положена идея, согласно которой юриспруденцию следует рассматривать в философском духе в контексте единой науки, так как «истинная справедливость» и умопостигаемая гармония представляют собой часть «гармонии мира»[215]. Для того чтобы обосновать тезис о естественном происхождении и одновременно доказательной природе юриспруденции, в «Новом методе» Лейбниц обращается к основополагающей проблеме, которая в «Диссертации о комбинаторном искусстве» была намечена, но осталась своего рода «слепым пятном», — проблеме первых понятий.
Действительно, уже в «Диссертации» Лейбниц утверждал, что во всех науках должны быть установлены первопринципы, из которых путем комбинирования по определенным правилам выводились бы все остальные содержания. Основанием, согласно которому юриспруденция является наукой, для Лейбница служит тот факт, что юриспруденция представляет собой свод модальных высказываний, основанных на вечных истинах[216], и «во всем похожа на геометрию, разве что в одном случае имеются элементы, в другом казусы. Простыми элементами в геометрии являются фигуры: треугольники, круги и проч. В Юриспруденции же — действия, обязательства, право продажи и проч. Казусами являются их комплексии, и здесь и там они изменчивы до бесконечности»[217]. Со ссылкой на комментатора «Ars Magna» Луллия Бернарда Лавинета Лейбниц указывает, что эти простые термины являются своего рода топами (quasi locos communes), или высшими родами. Лейбниц называет также некоторые понятия, которые, по его мнению, могут расцениваться как элементарные в юриспруденции, — лица, вещь, действие, право (Personae, Res, Actus, Jura). В теологии, поскольку она является «специальной юриспруденцией», понятия тоже могут образоваться аналогичным образом[218].
Однако в «Диссертации» Лейбниц воздерживается от того, чтобы приводить полный перечень основоположений для каждой из наук, замечая, что указывает лишь отдельные примеры таких первых понятий[219]. Единственное исключение составляет перечень первых элементов математики, которые Лейбниц отождествляет с элементами Евклида. При этом Лейбниц не отождествляет, подобно Луллию, абсолютно первые понятия (атрибуты субстанции) с началами отдельных наук, хотя и представляет первые понятия наук как топы, или высшие роды. Вопрос о том, как соотносятся друг с другом атрибуты субстанции и начала отдельных наук, Лейбниц в «Диссертации» не проясняет, а лишь указывает, что найденные Раймоном Луллием первопринципы должны быть определены в истинном философском духе и что к ним должны относиться «не только вещи, но также модусы, или отношения».
Итак, ввиду необходимости обосновать свое учение о юриспруденции как доказательной науке Лейбниц не мог не вернуться к дальнейшей разработке проблематики первых понятий. В «Новом методе» Лейбниц, обосновывая свой метод выведения знания из единого источника, указывает, что все понятия делятся на простые и сложные[220]. Простые понятия — те, что не объясняются значимыми понятиями (indeclarabeles per terminos notiores), поскольку непосредственно воспринимаются чувством и потому называются чувственными качествами (qualitates sensibilites). Лейбниц указывает, что чувственно воспринимаемые качества бывают двух видов: те, что воспринимаются умом, и те, что воспринимаются посредством фантазии или органов чувств[221]. Таким образом, чувственно воспринимаемые качества, согласно Лейбницу, не сводятся к зрительным или тактильным ощущениям, но представляют собой абстрактные качества, существующие сами по себе вне связи их друг с другом в реальных вещах. В «Новом методе» к их числу относятся причинность, число, протяжение[222]. В разделе «Нового метода», посвященном дидактике, Лейбниц характеризовал эти же данные мышления как топы изобретения, или как «трансцендентные отношения (relationes trancendentes), такие как целое, причина, материя, подобное и проч.»[223]. Очевидно, что здесь Лейбниц говорит об этих топах как о родах, т.е. как о самых первых понятиях. Это означает, что в период написания «Нового метода» Лейбниц постепенно осуществляет свой проект нахождения новых категорий. При этом квантитативные свойства сущего, или отношения («целое», «подобное» и др.), Лейбниц рассматривает как непосредственно данные разуму. В этом же смысле немного позднее, в «Предисловии к изданию сочинения Марио Низолия» (1670), он указывает, что модусы «в своем большинстве суть не что иное, как отношения вещи к разуму, т.е. способности являться»[224]. Поскольку Лейбниц характеризует здесь понятия отношения как непосредственно данные, это означает, что он фактически не делает различия между квалитативными и квантитативными свойствами сущего. Однако вместе с тем это означает также, что он скорее сводит квантитативные свойства сущего к квалитативным, нежели наоборот. Несмотря на то что форма явления вещи представляет собой совокупность разнообразных отношений вещи к разуму и как таковая обладает логической природой, она тем не менее, будучи модусом сущего, представляет собой явление, а не только формальный принцип организации мышления.
Рассмотрение этих свойств сущего одновременно и как метафизических, и как эпистемологических категорий позволяет Лейбницу выстроить на их основе свою первую развернутую систему наук. Первые чувственные качества в их отдельности образуют предмет абстрактной философии. Эту часть философии Лейбниц также называет ποιογραφια. Данное название ясно свидетельствует о том, что лейбницевское понятие воспринимаемых качеств, не сводимое исключительно к ощущениям, но обозначающее непосредственно воспринимаемые свойства сущего, восходит к аристотелевскому учению о качествах (ποιον), изложенному в восьмой книге «Категорий» и главе 14 пятой книги «Метафизики», где важнейшим смыслом понятия качества называется «видовое отличие сущности»[225].
Соединения чувственных качеств в реальных вещах изучает конкретная философия. Ее задача, однако, сводится к тому, чтобы развить положения, доказанные в абстрактной философии. Соответственно, абстрактную философию образуют логика (наука о мышлении и причинности), арифметика (наука о числе) и геометрия (наука о протяженности), а также производная от двух последних физика (наука о теле). Предметом конкретной философии являются Бог, ангелы, человеческий ум, огонь, пары, вода с различными разновидностями жидкостей, земля с минералами и проч., растения и животные. Эту вторую часть философии Лейбниц также называет ειδογραφια. При этом обращает на себя внимание тот факт, что все перечисленные в этом разделе предметы строго упорядочены: на первое место помещены умопостигаемые сущности, за ними следуют различные объекты неживой природы, соответствующие четырем элементам или стихиям, в которых они обитают (огнь, воздух, вода и земля), наконец, замыкают перечень растения и животные. В соответствии с этой иерархией Лейбниц строит и иерархию наук, изучающих связь субъектов друг с другом. В этот заключительный раздел входят космография, астрография и всеобщая история мира от сотворения, включая историю народов и государств[226].
Описанная структура полностью соответствует заявленному еще в «Диссертации» делению всякого знания на область аналитики, т.е. искусства сведения всякого высказывания к безусловному основанию, и область топики, т.е. искусства построения новых высказываний посредством формального метода. Соответственно, если роль метода отводилась комбинаторике, а раздел основоположений представляла собой первая философия, или метафизика, то третью часть этой системы должно было составлять знание о производных истинах — энциклопедия. Отсюда следует, что логическим основанием содержания энциклопедии должны были стать не столько первые понятия в их абстрактности, сколько высказывания, представляющие связь субъектов с качествами.
3
В 1668-1671 гг., т.е. в период после «Нового метода» и до отъезда в Париж, Лейбниц активно разрабатывал именно проблематику энциклопедии и создал ряд текстов, где изложил конкретные рекомендации по написанию так называемой совершенной Энциклопедии. К этим текстам относятся: «Corpus juris reconcinnandum» (1668-1669), «Semestria litteraria» (1668)[227], «Consilium de Literis Instraurandis condendaque Encyclopaediae» (1669)[228] и «Encyclopaedia ex sequentibus autoribus propriisque meditationibus delineanda». Как в свое время верно заметил Кутюра, общим для всех проектов данного периода является компилятивно-библиографический принцип, положенный в основу этих энциклопедий[229]. В самом деле, среди причин, которые побудили автора приняться за составление плана той или иной энциклопедии, — будь то «Corpus juris reconcinnandum», который представляет собой набросок своеобразной энциклопедии права, или проект периодического библиографического издания «Semestria litteraria» — в каждом из этих случаев первой причиной Лейбниц называет стремление отделить полезные книги от бесполезных, чтобы многообразие книг и содержащиеся в них противоречия не препятствовали извлечению из приобретенного знания практической и нравственной пользы. Аналогичная задача ставилась Лейбницем и в проекте «Encyclopaedia ex sequentibus autoribus propriisque meditationibus delineanda»[230], которая, как свидетельствует название, должна была включать в себя извлечения из сочинений различных авторов, представляющих определенные тематические рубрики — теологию, право, историю, математику и медицину. Все эти энциклопедии замышлялись Лейбницем как своего рода портативные библиотеки, подобно библиотеке патриарха Фотия, с которой сам Лейбниц сравнивал свой проект «Semestria litteraria»[231].
Итак, первая функция энциклопедии, согласно Лейбницу, состоит в упорядочивании уже накопленного знания. Однако этой задачей замысел Лейбница не исчерпывался: компилятивно-библиографическое обозрение должно было, по мнению философа, представлять собой лишь начальную стадию создания энциклопедии. В наброске «Semestria litteraria» Лейбниц подробно описывает, каким образом периодическое издание, первоначально исполняющее роль информационно-библиографического бюллетеня, постепенно должно перерасти в «совершенную энциклопедию»:
Таким образом, посредством устроения и продолжения этого semestrium[232] в течение немногих лет будут проработаны почти все лучшие книги мира, а также посредством описания всех факультетов, искусств и профессий как бы положен на бумагу весь человеческий опыт и, наконец, собраны materi[233] и положено верное основание главному зданию: Encyclopaediae perfectae[234], работа над коей будет вестись исподволь и в коей надлежит собрать и упорядочить все человеческие мысли, или notiones[235], доказать demonstrative[236] или с верной основательностью и сообразно математическому порядку все главные истины, проистекающие из разума, если же они состоят только в praesumption[237] или догадке, все же показать их gradus probabilis[238]; то же, что является собственно историческим и берется не из разума, а из опыта или из чужих свидетельств, также следует расположить сообразно известному порядку как attributorum[239], так и subjectorum[240] и, наконец, сообразно Universali systemate cosmographico temporis et loci[241], подтвержденное опытом или заслуживающими доверия авторитетами и снабженное подробными указателями. И так как ради краткости в этом сочинении могут содержаться лишь главные истины как начало всех прочих, то прежде всего прочего должны быть старательно разработаны и присовокуплены правильная Logica[242], или Methodus cogitandi, sive ars inveniendi et judicandi Analytica et combinatoria[243] как ключ всех прочих познаний и истин, каковые вследствие их бесконечности, а также потому, что с помощью этого Methodus[244] и обычного человеческого рассудка они при надобности легко могут быть найдены из вышеназванных, не могут и не должны включаться в этот труд[245].
Из этого отрывка становится ясно, насколько тесно проект «Semestria litteraria» связан с «Диссертацией о комбинаторном искусстве». В основу совершенной энциклопедии, по мысли Лейбница, должны были быть положены отнюдь не извлечения из сочинений различных авторов, подобранные в компилятивном ключе и упорядоченные тематическими рубриками, а «главные истины», которые, однако, могли быть определены только в процессе критического анализа уже имеющегося знания. Именно поэтому в работе над энциклопедией библиографическое обозрение является всего лишь подготовительной фазой. Эта стадия, однако, необходима, не только потому, что она предоставляет материал для критического выявления безусловных основоположений, но и потому, что, согласно Лейбницу, основополагающие истины могут быть трех родов — истины разума, гипотезы и исторические истины, почерпнутые из опыта или из различных свидетельств. Из этих трех видов «главных истин» истины разума и исторические истины непосредственно восходят к обозначенному уже в «Диссертации» делению всех первых высказываний на теоремы и наблюдения, где теоремы представляют собой необходимые высказывания («Что есть (таковое), то оно есть или не есть (таковое), или же противоположное»), а наблюдения — контингентные высказывания («Нечто существует»)[246]. Теоремы соответствуют вечным истинам, которые, как говорил Лейбниц в «Диссертации», проистекают из природы Бога, а не из его воления, в то время как истинность фактических высказываний (среди которых Лейбниц различает исторические, т.е. единичные высказывания, и наблюдения, то есть всеобщие высказывания) «основана не на сущности, а на существовании» и зависит от случая, или, иными словами, от произволения Бога[247]. Если первый род истин — вечные истины — выводятся непосредственно из разума и не подлежат опытной проверке, то фактические истины могут быть почерпнуты исключительно из истории или из опыта. Таким образом, для Лейбница описание мира не исчерпывается данными рефлексии, но обязательно включает в себя данные опыта. Именно в силу этого совершенная энциклопедия (т.е. та, которая описывает мир в его полноте) должна включать в себя не только истины разума, но и всевозможные свидетельства и наблюдения, образующие материю истории.
Включение контингентного в область энциклопедии напрямую связано с лейбницевской реформой топики и его стремлением создать логику контингентного. Если пять традиционных предикабилий Аристотеля-Порфирия — род, вид, различие, собственное и привходящее — представляют собой «praedicata in recto», то Лейбниц стремится к выявлению «praedicata in oblique», посредством которых могло быть достигнуто не только «доказательство представленного, но и средство объяснения данного положения вещей»[248]. Таким образом, лейбницевская реформированная топика предоставляла возможность логического подхода к области контингентной реальности[249], которая также должна была стать частью «совершенной Энциклопедии».
В «Semestria Literaria» Лейбниц, однако, упоминает еще один вид «главных истин», а именно гипотетические истины, те, которые «состоят в предположении или догадке». Как говорилось в процитированном выше отрывке, в энциклопедии должна была быть показана «степень вероятности» этих гипотез. Каков логический статус этих истин? Этот род истин можно рассматривать скорее как расширение области необходимых истин, а именно тех, которые основаны на принципе непротиворечия, а не на принципе существования. Однако обоснование этих истин степенью их вероятности указывает на то, что они не могут быть окончательно доказаны, т.е. они не могут быть сведены к тождественному высказыванию, демонстрирующему содержание предиката в субъекте. Таким образом, различие между лейбницевскими истинами разума и гипотетическими истинами аналогично аристотелевскому различию между необходимо присущем и возможно присущем, где под возможным понимается «то, что не необходимо, но если принять что оно присуще, то из этого не следует ничего невозможного»[250]. В этом же ключе сам Лейбниц разъясняет понятие гипотетической необходимости в более поздних своих работах, где гипотетически необходимое мыслится как такое, которое не является истиной разума, но, однако, можется рассматриваться как необходимое в возможных мирах[251]. Таким образом, «Semestria Literaria» следует рассматривать как одно из наиболее ранних сочинений, где вводится это понятие[252].
Проблема знака, которую Лейбниц ранее рассматривал в «Диссертации» в разделе об универсальной полиграфии, а в «Новом методе» — в контексте мнемоники как учения о знаке в целом, в «Semestria Literaria» затрагивается в более практическом ключе — в виде указаний по составлению Универсального атласа. Лейбниц пишет: «К этой Encyclopaedia будет присовокуплен также Atlas Universalis, труд огромной пользы, предназначенный для того, чтобы сообщать все человеческой душе (gemüth) легко и приятно с помощью великого множества таблиц, фигур и тщательно исполненных и, где это нужно и полезно, даже раскрашенных рисунков или чертежей, с тем чтобы все, что в известной мере может быть охвачено взглядом и изображено на бумаге, могло тем быстрее и элегантнее, как бы играючи, как бы в одном взгляде, без словесных околичностей, посредством зрения сообщаться человеческой душе и сильнее напечатлеваться в ней, о каковом намерении я набросал особые соображения в другом месте»[253].
Из этого описания следует, что назначение Универсального атласа заключается в том, чтобы облегчить процесс запоминания и понимания. Следует, однако, обратить внимание на то обстоятельство, что в данном случае речь идет не просто о пожелании снабдить основной текст иллюстративным сопровождением, но о последовательном намерении сообщить содержанию энциклопедии максимальную наглядность и тем самым дополнить дискурсивное изложение чувственной формой восприятия. О том, что совершенная энциклопедия должна непременно включать в себя элемент чувственного восприятия, Лейбниц говорил также и в другом наброске энциклопедии допарижского периода, о котором будет идти речь ниже.
В проекте «Semestria Literaria» содержится еще одна важная идея, которая будет иметь отголосок и в самых поздних размышлениях философа относительно построения энциклопедии. Здесь Лейбниц высказывает мысль о том, что совершенная энциклопедия должна включать в себя только «самые главные истины как начала всех прочих»[254], тогда как остальные познания и истины в силу их бесконечности подлежат постепенному открытию при помощи верного метода. Это означает, что уже в ранний период своего творчества Лейбниц приходит к мысли о принципиальной незавершенности энциклопедии. «Совершенная энциклопедия» — не та, что включает в себя весь объем накопленного человечеством знания, но та, которая дает принцип бесконечного изобретения, и именно в силу этого она не может быть завершена. Таким образом, идея научного сообщества, осуществляющего реализацию метода изобретения, является непосредственным, так сказать, органическим развитием лейбницевского проекта всеобщей науки.
Еще один текст, относящийся к допарижскому периоду Лейбница и демонстрирующий, как именно философ представлял себе структуру совершенной энциклопедии — это работа «Представление о разрешении споров, или Весы разума и образчик построения» («Commenatiuncula de Judice Controversarium seu Trutina Rationis et Norma Textus», 1669-1671?)[255].
Основное содержание этого текста составляет рассмотрение вопроса о возможности установления некой судебной инстанции для решения как религиозных, так и светских споров. Эта судебная инстанция должна, по мнению Лейбница, быть основана на принципах разума, или «истинной логики». Выступая против распространенного мнения современных Лейбницу философов, в том числе и Гоббса, согласно которому сам по себе абстрактный разум представляет собой бесполезную и пустую идею, Лейбниц указывает, что в сфере человеческой деятельности есть два рода вопросов: одни касаются чувственного восприятия, другие — разума. Если решение вопросов первого рода (например черно ли нечто или бело) отсылает исключительно к области чувственного опыта, то решение других (например в арифметике и геометрии), напротив, следует искать исключительно в области всеобщих рациональных истин, подлежащих строгому доказательству. Инструментом такого доказательства и является, по мысли Лейбница, логика изобретения и суждения.
В этой преамбуле можно выделить два ключевых момента. Во-первых, Лейбниц разделяет всю сферу знания на две области — рациональную и чувственную, причем в области чувственности Лейбниц также вводит понятие первых неразложимых начал (например окраска), как и в области рациональных истин. Во-вторых, здесь Лейбниц непосредственно развивает главную идею «Диссертации» о возможности применения в разных областях знания математического исчисления логических суждений и о необходимости унифицировать не только метод доказательства, но и исходные понятия. Для этого, по мысли Лейбница, должен быть создан своеобразный компендиум «проверенных знаний», который бы мог быть положен в основу разрешения всевозможных разногласий (заблуждений). Как и в «Новом методе», здесь с самого начала проступает религиозно-нравственная подоплека лейбницевского энциклопедизма, напрямую связывающая его научные устремления с пансофическим идеалом Алстеда и Коменского.
Компендиум должен был состоять из четырех книг. В первой, книге определений, должны были быть даны и расположены «в природном порядке» определения всех используемых слов, вплоть до неопределимых понятий. Помимо рациональных понятий, в эту книгу должны были быть включены также понятия, основанные исключительно на чувственном восприятии («на голом чувстве»), которые должны были быть представлены «или в изображениях, или лучше в натуральном виде посредством помещенных в обсерваторию обозначаемых предметов, снабженных подписями»[256]. Вторую книгу Лейбниц называет книгой теорем. В ней должны были содержаться истины, выведенные из первых основоположений. Третью, историческую книгу, должны были составлять наиболее значительные книги, созданные за всю историю человечества. Эта книга, следовательно, относилась к области контингентных или исторических истин. Наконец, четвертую книгу должны были составлять естественные и искусственные опыты. Поскольку содержание третьей и четвертой книг образовывали знания, почерпнутые из опыта, то они могли быть пересмотрены и удалены из них. Напротив, положения книг определений и теорем пересмотру не подлежали.
Данный замысел, в общем и целом воспроизводящий основные идеи «Диссертации» и «Semestria Literaria», представляет собой интерес нюансами его разработки. Прежде всего, обращает на себя внимание утверждение, что книга определений должна располагать определения в соответствии с порядком природы. Что подразумевает в данном случае Лейбниц под порядком природы? Имеет ли Лейбниц ввиду общее место гуманистического проекта всеобщей науки, как она была озвучена у Алстеда со ссылкой на «Театр» Джулио Камилло, согласно которому чувственно воспринимаемый мир есть прямое отражение Бога. Или же в данном случае Лейбниц развивает уже встречавшееся нам ранее в «Диссертации» утверждение о соответствии первых истин порядку божественного разума, тогда как мир опыта — мир контингентных истин — соответствует не природе Бога, но его воле. Тогда следует задаться вопросом, несет ли область фактических истин в себе элемент случайности, и если да, то может ли она быть упорядочена?
Извлечь ясный ответ на этот вопрос из рассматриваемого текста не представляется возможным. Однако укажем, что даже если Лейбниц в данном случае употребляет понятие природного порядка в том же смысле, в котором об этом говорил Алстед и Коменский, или если он имеет ввиду, что определения должны быть расположены согласно иерархии рациональных и чувственно воспринимаемых начал — так или иначе, разделение областей необходимого и контингентного, что в теологическом контексте означало разделение природы и воли Бога, ставило перед Лейбницем проблему, которая до него в традиции всеобщей науки не рассматривалась — проблему случайности. Как мы указывали выше, подходом к решению этой проблемы должна была стать лейбницевская реформированная логика, нацеленная на исчисление фактического.
Другой интересующий нас аспект рассуждения Лейбница касается проблемы репрезентации чувственно воспринимаемых качеств. Как ранее в «Новом методе» Лейбниц указывал, что простейшим чувством является осязание[257], так и здесь он считает необходимым ввести в сферу первых понятий данные чувств, причем в их непосредственной чувственной природе — либо в виде изображений, либо в виде натуральных образцов, помещенных в специальные обсерватории. Мысль, что чувственная сфера как таковая не может быть исключена из области совершенного знания, представляет собой аналогию размышлениям Яна Коменского в его «Пансофии», согласно которому книга обо всех вещах мира должна апеллировать также и к чувственному познанию и, следовательно, включать в себя сами вещи, «против пренебрежения которыми» он предостерегал[258]. Совершенная энциклопедия в этом случае преодолевала границы дискурсивного изложения и преобразовывалась в музей, где первые непосредственные данные чувственности и их понятия репрезентировались единичными вещами и подписями к ним.
Проблема репрезентации непосредственного опыта и границ дискурсивного описания реальности находит свое продолжение в упомянутом нами «Предисловии к сочинению Марио Низолия» (1670), ясно свидетельствующем о том, что нахождение «совершенной системы элементов философии»[259] Лейбниц ставил в прямую зависимость от верного определения природы общих понятий. Согласно Лейбницу, «в строгом философствовании следует пользоваться только конкретными терминами», так как «конкретные вещи действительно являются вещами, абстрактные же не вещи, а модусы вещей»[260]. Указывая на тесное сплетение «мышления и всякого волевого акта со словами»[261], Лейбниц намечает непосредственную связь между существованием вещи и ее дискурсивным выражением. На этом основании он ратует за полное устранение из философии абстрактных понятий и технических терминов как «не-сущих» и выносит следующий вердикт: «Всё, что не может быть выражено в общеупотребительных терминах, если не считать того, что познается через непосредственное чувственное восприятие (как, например, многочисленные оттенки цвета, запаха, вкусовых ощущений), не существует и должно быть торжественно отлучено от философии»[262]. Это означает, что непосредственный чувственный опыт является для Лейбница гарантом существования вещи, несмотря на невозможность его дискурсивной репрезентации. Одновременно он включает этот опыт в область науки, что идет вразрез с аристотелевской и схоластической традицией понимания науки как сугубо рационального знания общего.
4
От решения вопроса о природе и возможности познания чувственных качеств напрямую зависела реализация задуманной Лейбницем новой науки о творении, направленной на то, чтобы все разнообразие природных тел вывести из определенного набора метафизических принципов. Как мы показали, именно эту задачу Лейбниц пытался эскизно решить в «Новом методе», представляя свою модель перехода от абстрактных метафизических принципов к их комбинациям в реальных вещах.
Следующим этапом на пути конкретизации этой модели является теория антитипии и протяженности, изложенная Лейбницем в его знаменитом письме к Якобу Томазию от 1669 г., где Лейбниц выдвинул программу соединения учения Аристотеля с современной ему философией природы. Плотностью, или антитипией, и протяженностью Лейбниц пытался объяснить все свойства тел, а именно — «величину, фигуру, положение, число, способность к движению и т.п.»[263]. Однако при этом источником движения Лейбниц считал нематериальные сущности. Соответственно, основными началами, согласно Лейбницу, следует считать ум, пространство, материю и движение, где ум определяется как «бытие мыслящее», а материя как «вторично протяженное», или «бытие, сопряженное с пространством»[264].
Названные четыре элемента Лейбниц кладет в основу предлагаемой им здесь же новой классификации наук, где пытается показать, что «...между науками существует некоторая прекрасная гармония, если тщательно взвесить дело: теология или метафизика говорит о действующей причине вещей, т.е. об уме; нравственная философия <...> говорит о цели вещей, т.е. о благе, математика <...> говорит о форме вещей, т.е. о фигуре; физика говорит о материи вещей и единственном ее состоянии, вытекающем из сочетания ее с другими причинами, а именно о движении»[265]. Можно предположить, что в основе этой классификации лежит учение Аристотеля о четырех причинах, как оно изложено в первой книге «Метафизики»[266]: теология и метафизика соответствуют третьей причине («то, откуда начало движения»); нравственная философия — четвертой («то, ради чего», или благо); физика — второй (материя, или субстрат); наконец, первой аристотелевской причине («сущность», или «суть бытия вещи», которая сводится к определению вещи) должна соответствовать математика. Последнее становится понятным в свете лейбницевской трактовки вещи как формы отношений, выражаемой в логической структуре понятия, т.е. в определении, сводящемся к исчислению.
Показательно, что та же классификация с минимальным отличием воспроизводится в одном из самых значительных сочинений Лейбница допарижского периода «Кафолические доказательства» (1669)[267]. Несмотря на то что Лейбниц продолжал работать над этим проектом и во время своего пребывания в Париже, и после него, основная часть книги была написана им в 1668-1669 гг. Сочинение было задумано Лейбницем как фундаментальный метафизико-теологический труд из четырех частей, посвященных доказательствам существования Бога, бессмертия души, христианских таинств и авторитетности церкви и Священного Писания. Основному богословскому содержанию этого сочинения должны были, по мысли Лейбница, предшествовать пролегомены, содержащие «элементы философии», т.е. первые начала метафизики (о сущем), логики (об уме), математики (о пространстве), физики (о теле) и практической философии (о гражданском праве). К сожалению, в дошедших до нас текстах «Кафолических доказательств» сохранился лишь конспект этого раздела, так что содержательный комментарий к «элементам философии» остался за кадром. Тем не менее вполне очевидно, что приведенный перечень наук воспроизводит структуру научного знания, изложенную в письме к Якобу Томазию, с той лишь разницей, что математике здесь отведена роль науки о пространстве (т.е. о бытии второго уровня), логике — роль науки об уме, т.е. действующей причине, а метафизике — роль науки о сущем. Напомним, что сходная классификация была представлена и в короллариях к «Арифметическому диспуту» — главным отличием является отсутствие в ней математики, что, возможно, обусловлено тем, что область математики репрезентировалась как раз комбинаторикой.
Не может остаться незамеченным тот факт, что Лейбниц свободно переносит одну и ту же структуру знания из одного контекста в другой: в «Короллариях» описанная классификация должна была определять сферы применения комбинаторики, в письме к Томазию — гармонию наук как отражение гармонии природы, в «Кафолических доказательствах» — основания теологического дискурса, построенного на принципах естественного разума. Иными словами, одна и та же структура знания помещается в математический, метафизический и богословский контексты. Это обстоятельство, в свою очередь, позволяет с известной долей уверенности осуществлять «перекрестную» интерпретацию этой структуры знания, представляющей собой одновременно и знание о божественном, и знание о природном.
Таким образом, молодой Лейбниц последовательно реализовывал свою идею построения новой науки о творении, в которой структура знания отражала бы структуру реальности. Так, уже цитированный нами фрагмент из письма к Томазию убеждает нас в том, что Лейбниц различал бытие двух уровней — мыслящее и протяженное, причем отношения между ними он, в отличие от Декарта, рассматривал как иерархические, истолковывая материю как «бытие вторично-протяженное»[268]. Соответственно, ум характеризовался им как действующая причина и источник движения физического мира, который сам из себя движения не производит (здесь Лейбниц существенно расходится с аристотелевской концепцией имманентного источника движения природных тел). Рассмотрение материи как бытия второго уровня приводит к тому, что и природные тела определяются им как сущие («существуют только конкретные вещи»), а общим для них качеством является «антитипия, взятая с протяжением». При этом качество представляет собой модус сущего, т.е. то, как оно является разуму. Таким образом, как бытие имеет два уровня, так и сущее определяется двояко: со стороны действующей причины и в его отношении к воспринимающему его разуму. В первом случае сущее есть страдательное, во втором — действующее.
Предположение, что центральным моментом этого учения о природе является определение характера соотношения Бога и творения, может быть подкреплено также ссылкой на один из фрагментов «Кафолических доказательств», где Лейбниц прямо говорит, что «субстанция вещей есть идея. Идея есть единение Бога и творения, как действие есть единство действующего и страдательного»[269]. Отвлекаясь от специфики этого сугубо богословского текста, посвященного рассмотрению вопроса о пресуществлении Святых Даров, отметим, что изложенная в нем диалектика действия — страдания сотворенного, сформированная еще в допарижский период лейбницевского творчества, впоследствии прямо перейдет в «Монадологию», где, однако, уже будет истолкована по-новому сообразно изменившимся взглядам Лейбница на границы человеческого познания: «Сотворенное называется действующим, поскольку оно имеет совершенства, и страдающим, поскольку оно имеет несовершенства. Таким образом, монаде приписывают действие, поскольку она имеет отчетливые восприятия, и страдание, поскольку она имеет смутные восприятия»[270].
Резюмируя, можно сказать, что в период между выходом в свет «Диссертации о комбинаторном искусстве» (1666) и отъездом в Париж (1672), Лейбниц существенно развил намеченный им план построения системы наук на основе нового свода безусловных понятий и нового доказательного метода. В этот период в качестве первых понятий он рассматривал «чувственные качества», к которым относил как данные мышления (причинность, число), так и данные осязания. Сведение рациональных понятий к чувственным качествам было охарактеризовано нами в духе декартовского учения о мыслящей вещи, согласно которому этот атрибут субстанции подлежит непосредственному обнаружению в акте самосознания. Таким образом, лейбницевское учение об отношениях как «чувственных качествах» дает основания расценивать развитую им концепцию мышления не как функционально-формалистическую, а скорее как феноменологическую: формальные операторы мышления выступают в ней одновременно и как топы изобретения, и как модусы самого сущего. На основе этих первых понятий Лейбниц выстроил свою первую развернутую классификацию наук.
Одновременно нами было показано, что определение Лейбницем первых понятий как «чувственных качеств» поставило перед ним проблему дискурсивного схватывания единичного, что побудило философа к более дифференцированной формулировке своей позиции в дискуссии об универсалиях. Умеренный номинализм молодого Лейбница, согласно которому все, что не является конкретными вещами и не сводится к общеупотребительным терминам, следует признать несуществующим, позволяет ему строить свое учение о двух уровнях сущего, где квалитативная характеристика мышления позволяет преодолеть разрыв общего и единичного, Бога и творения. В основу этой ранней науки о творении Лейбницем были положены как доктрина единой и бесконечной субстанции, так и аристотелевское учение о четырех причинах, преобразованное в логико-онтологическую модель реальности.
Следует обратить внимание и на тот факт, что все четыре сферы основоположений познания — метафизика, логика, физика и естественное право — являлись областями собственных планомерных изысканий молодого Лейбница в период между «Диссертацией о комбинаторном искусстве» и его отъездом в Париж (математике Лейбниц отдал дань еще в период написания «Диссертации», а затем посвятил ей все свое пребывание в Париже с 1672 по 1676 г., где предметом его основного интереса стала проблема континуума и дифференциального исчисления[271]). Таким образом, все направления деятельности Лейбница рассматриваемого периода точно соответствовали тем самым «элементам философии», которыми, согласно его замыслу, исчерпывались границы познания. Это значит, что, несмотря на настойчивые призывы к организации научных сообществ с целью создания совершенной энциклопедии, действительное осуществление проекта всеобщей науки, т.е. новой науки о творении, Лейбниц мыслил как личный проект. Результатами работы над этим проектом и явились многочисленные планы и наброски всеобщей науки и энциклопедии послепарижского периода.
5
Первым точно датированным и при этом наиболее развернутым текстом, представляющим план и содержание задуманной Лейбницем энциклопедии, является «План написания новой энциклопедии методом изобретения» («Consilium de Encyclopedia nova conscribenda methodo inventoria», 1679)[272].
Работу открывает обычный для всех лейбницевских текстов разъяснительного характера зачин о необходимости создания энциклопедии в целях экономии усилий в научных изысканиях. Одним из главных зол, затрудняющим прирост достоверного знания, Лейбниц вновь называет здесь обилие книг. Преодолеть это зло должна помочь специальная таблица, так называемая сумма Плана (summa Consilii), представляющая собой свод «самых плодотворных человеческих мыслей, полезных для жизни»[273]. Этот свод был задуман как таблица числовых прогрессий, где первый ряд содержал ноль и числа натурального ряда, второй ряд — ноль и квадраты натуральных чисел, третий — все нечетные числа. Таблица должна была способствовать быстрому нахождению произведений чисел только при помощи операции сложения. Соответственно, на основе этой таблицы предполагалась построить энциклопедию, содержание которой должны были образовывать высказывания, произведенные «more mathematico», но не только математические, а относящиеся и ко всем прочим областям знания. При этом среди высказываний Лейбниц различает первоначальные высказывания и умозаключения. В свою очередь, первоначальные высказывания он подразделяет на определения, аксиомы, гипотезы и феномены. Аксиомами Лейбниц называет высказывания, которые всеми рассматриваются как доказанные[274]; гипотезами — те, которые имеют большое хождение, однако не могут быть точно доказаны; феноменами — те, которые подтверждаются опытами. Среди умозаключений Лейбниц также различает наблюдения, теоремы и проблемы. К наблюдениям он относит те умозаключения, которые получены путем индукции из феноменов; теоремами называет те, что получены посредством рационального развития первых положений; проблемами же Лейбниц именует те умозаключения, которые касаются практики (замечая при этом, что и все остальное должно быть увязано с практической пользой, т.е. должно вести к проблемам).
Все высказывания должны были быть расположены по порядку изобретения в специальных индексах или каталогах, благодаря которым открывались бы возможности новых комбинаторных изобретений и одновременно вскрывалась бы всеобщая связь вещей. Таким образом не только в математике, но и в других науках была бы достигнута желаемая достоверность[275].
Далее Лейбниц переходит к проблеме знака, которую рассматривает в контексте схематической репрезентации. Он указывает, что для лучшего запоминания следует сопроводить все высказывания фигурами или схемами. Эти схемы, однако, не должны вести к подмене строгости рационального доказательства деятельностью воображения, поскольку схематическое изображение, как и алгебраическое исчисление, необходимо только для подготовки ума к непосредственному восприятию самих идей вещей. Таким образом, замечает Лейбниц, следует воздержаться, от того чтобы включать алгебраическое исчисление в разряд основополагающих элементов этой науки, хотя позднее, когда эта наука уже будет создана, оно может быть полезно для сведения к минимуму дальнейших трудностей изобретения. Подводя итоги, Лейбниц говорит: «Наша энциклопедия должна быть написана таким образом, чтобы умозаключения и доказательства истин не зависели ни от схем, ни от исчисления, но только от аксиоматических определений и первичных высказываний»[276].
Таким образом, в «Плане» Лейбниц излагает несколько иную концепцию соотношения знака и мышления, нежели та, что высказывалась им ранее: знак предстает здесь как вспомогательное средство «наведения» мышления, тогда как первые положения должны восприниматься непосредственно силами души. Это означает, что первые понятия определяются Лейбницем как нерепрезентируемые. Это обстоятельство свидетельствует сразу о нескольких изменениях в лейбницевской концепции знака: во-первых, об отказе от причисления данных органов чувств к первым понятиям; во-вторых, об отказе от чувственно-наглядной концепции репрезентации первых понятий; в-третьих, об отказе от идеи возможности схематизации первых понятий и переходе к убеждению, что первые понятия, будучи простыми, подлежат интуитивному, но не дискурсивному схватыванию.
Дальнейшее изложение «Плана написания энциклопедии методом изобретения» представляет собою развернутую классификацию наук, в соответствии с которой должна была строиться содержательная часть энциклопедии. Лейбниц указывает, что «в этой энциклопедии должны быть отражены все науки, которые опираются либо единственно на Разум, либо на разум и опыт»[277], и, таким образом, в ней излагаются божественные и человеческие законы, но исключаются всякие «вздорные искусства, которые не могут быть возведены к прочным основаниям»[278]. В общей сложности в энциклопедии должны были быть представлены 18 наук.
Первой наукой Лейбниц называет универсальную, или рациональную, Грамматику, которую также именует искусством размышления[279]. Отметим, что в период 1678-1679 гг. Лейбниц особенно много усилий отдавал проблематике рационального языка[280], так что неудивительно, что в «Плане написания энциклопедии» Лейбниц детально излагает, что должна представлять собою эта грамматика. Лейбниц предполагал построить ее на основе латинского языка с привлечением примеров из других языков. Общая идея этой грамматики заключалась в том, чтобы редуцировать всякое частное значение к общему правилу. Например, всякий глагол Лейбниц считал возможным заменить существительным в сочетании с единственным глаголом быть. Первичные значения, не сводимые ни к каким другим определениям — такие как быть, и, нет — следовало обозначить числами, которые в совокупности с именами должны были служить для объяснения всего прочего. Как говорит Лейбниц, «это и есть истинный анализ характеров, который человеческий род сообща применяет в речи и мышлении»[281].
Таким образом, в «Плане написания энциклопедии» мы встречаем развернутый план по созданию универсального языка, включающий в себя два уровня формирования — во-первых, создание схематических эквивалентов понятий (a priori) и, во-вторых, конструирование рациональной грамматики (a posteriori)[282]. Что касается второго этапа, а именно формирования рациональной грамматики, то здесь Лейбниц предполагал двигаться в двух направлениях — путем анализа естественных языков, в первую очередь латыни и других живых языков, и путем составления регулярного синтаксиса на основе законов мышления.
Идея, согласно которой все разнообразие лексических единиц может быть сведено к комбинации имен, глагола быть, союза и, частицы нет, является ничем иным как дальнейшим развитием учения о мышлении как исчислении, которое Лейбниц, ссылаясь на Гоббса, разрабатывал еще в «Диссертации». Действительно, Лейбниц пытается выделить в языке, с одной стороны, имена, а с другой — функции, которые позволяют мышлению оперировать именами. В работе «Философский язык» (1679-1688)[283] Лейбниц аналогичным образом утверждает, что «все в речи может быть разложено на субстантивированное имя Сущее, или Вещь, связку, или субстантивированный глагол есть, имя прилагательное и формальные частицы»[284]. Следовательно, все, что может быть высказано о вещи, сводится к предицируемым атрибутам и различным отношениям, эксплицированным формальными частицами. Таким образом, все, что может быть сказано о вещи, может быть собрано в одной основополагающей формуле всестороннего определения вещи (notio completa)[285]. В этом аспекте проект рациональной грамматики представляет собой прямое следствие концепции «praedicatum inest subjectum», развитой Лейбницем еще в «Диссертации о комбинаторном искусстве».
Впрочем, приписывание рациональной грамматике функции регулятора мышления отнюдь не означало для Лейбница полной редукции логики к языку. Согласно «Плану», Логика является второй, следующей за Грамматикой, наукой, которую Лейбниц называет также искусством заключений, или искусством суждений. Применение этой логики не должно ограничиваться сведением умозаключений к схоластическим модусам, но должно осуществлять исчисление более сложных заключений, встречающихся в живой речи и в письменности. Такая новая логика должна, следовательно, включать в себя и схоластические модусы, и рациональную грамматику[286].
Как уже указывалось исследователями, размежевание со схоластической логикой силлогизма произошло уже в самых ранних текстах Лейбница[287]. Так, в тексте 1667 г. «Совет по устроению образования и учреждению энциклопедии» Лейбниц демонстрирует, что не все умозаключения могут быть сведены к форме силлогизма, но основываются на грамматических связях[288]. Сам Лейбниц приписывал это открытие Иоахиму Юнгу (1587-1657)[289]. У Лейбница подобное расширение логики означало отказ от механической силлогистической логики схоластов, которую критиковал и Декарт. Согласно Лейбницу, задача логики заключается в том, чтобы свести речь к определенному числу аргументативных формул, подобно тому, как математики сводят к определенному набору формул все математические операции. Тем самым логика призвана выполнять не только функции аргументации, но и функции схематизации мышления. В этом стремлении к редукции логических шагов к определенному числу логических форм Лейбниц воспроизводит идею математизации логики Эрхарда Вейгеля, считавшего необходимым заменять многочленные силлогистические последовательности литерами и диаграммами. Однако проект рациональной грамматики Лейбница предполагает произвести схематизацию не только силлогистической, но и асиллогистической сферы мышления, подвергая тем самым формализации ту область аргументации, которая подлежит компетенции материально ориентированной диалектико-риторической топики, поставляющей оратору «аргументы» в порядке «общих мест»[290].
Подобное расширение логики должно, согласно Лейбницу, обеспечить возможность анализа всех законов мышления, свойственных разуму и имеющих врожденный характер. Тем самым Лейбниц рассчитывает получить новый, по сравнению с луллиевым, ряд элементарных отношений, которые наряду с понятиями должны составить изначальные элементы комбинаторного метода. Принципиальное отличие лейбницевской стратегии получения этих элементарных отношений от луллиевой заключается в том, что Лейбниц считает возможным получить их путем анализа понятий. Таким образом, идея рациональной грамматики представляет собой новый этап в развитии лейбницевской реформы луллиева «алфавита человеческих мыслей» в сравнении с «Диссертацией о комбинаторном искусстве».
Третьей наукой в «Плане» Лейбниц называет Мнемонику, четвертой — Топику, или искусство изобретения. К области Топики он относит диалектические топы, риторическое изобретение, искусство доказывания, искусство предсказания, а также алгебру. Пятая наука — наука о формах или формулах (тождественном и различном, сходном и несходном), т.е. о формах вещей, взятых в отвлечении от величины, положения, действия, о которых, в свою очередь, идет речь в следующих науках. Величина, счет и пропорция рассматриваются в Логистике (науке о целом и частях), определенная величина, выраженная в числе — в Арифметике, положение или фигура — в Геометрии (геометрию Лейбниц, в свою очередь, подразделяет на несколько разделов, в числе которых оказываются военное дело, гражданская архитектура, геодезия и проч.). Восьмая наука — Механика, наука о действии и претерпевании, или о потенции и движении.
Десятой наукой Лейбниц называет науку о чувственных качествах, или Пойографию. К чувственным качествам он относит простые, т.е. те, «которые не могут быть описаны, но для того чтобы быть познанными, они должны быть восприняты, к каковым относятся: свет, цвет, звук, запах ...»[291], и сложные, которые допускают описание и таким образом являются в определенном смысле интеллигибельными, «такие как твердость, текучесть и все такого рода»[292]. Простые качества рассматриваются историческим способом, т.е. их связи между собой и с другими интеллигибельными качествами подлежат перечислению. Интеллигибельные же качества могут изучаться также в разделе геометрии и механики.
Одиннадцатая наука — наука о субъектах, которые суть наиболее общие, ее Лейбниц называет хомойография. К ней относятся, например, четыре первоэлемента. Затем следуют космографика, или наука о наибольших телах мира, разделами которой являются физическая астрономия и метеорология. Тринадцатая наука — Идография, наука об органических телах, или видах, которые должны изучаться, по мнению Лейбница, не обычным дихотомическим способом, но согласно качествам, на которые могут быть разложены комбинации. Последними тремя науками являются моральная наука, геополитика, включающая в себя всю историю и гражданскую географию, и, наконец, наука о бестелесных субстанциях — естественная Теология. Заключать Энциклопедию должен был практический раздел, который наставлял в том, как следует использовать все вышеуказанные науки для достижения счастья.
Пространный текст «Плана написания энциклопедии» наглядно показывает, насколько планомерно Лейбниц развивал проект изобретательной энциклопедии, основание которого было заложено еще в допарижский период. Здесь мы встречаем многие идеи, уже знакомые нам по более ранним текстам. Во-первых, построению новой энциклопедии должно предшествовать аналитическое извлечение первых истин из свода накопленного знания. Во-вторых, новая энциклопедия должна быть построена методом комбинаторного синтеза тех истин, которые были извлечены путем анализа. В-третьих, к числу первых истин должны быть отнесены не только истины разума, но также гипотезы и истины опыта. В-четвертых, вся система наук энциклопедии должна быть основана на принципах достоверности, что означает: «математическим способом» могут быть построены не только математические дисциплины, но также естественное право и естественная теология, которые, в свою очередь, призваны служить венцом энциклопедии. Прямым указанием на то, что Лейбниц мыслил «План написания Энциклопедии методом изобретения» как непосредственное развитие его предыдущих интуиций, является и тот факт, что среднюю часть этого текста составляет фрагмент 1672 г., где излагается часть учения о схематизме и перечисляются первые девять наук энциклопедии — рациональная грамматика, логика, мнемоника, топика, искусство форм, логистика, арифметика, геометрия и механика. Таким образом, если Лейбниц нашел возможным органично интегрировать фрагмент 1672 г. в текст 1679 г., то следовательно, пролегающие между ними семь лет явились годами планомерного развития одного проекта.
Однако даже и в этом фрагменте 1672 г. можно обнаружить пласты еще более ранних идей Лейбница. Если раздел о рациональной грамматике и новой логике корреспондирует с разрабатываемым именно в этот период учением об универсальной характеристике, то изложенная в «Плане написания Энциклопедии» система наук содержательно восходит к «Новому методу», где в основу были положены метафизические понятия сущего и его модусов — качества и количества. Действительно, в «Плане написания Энциклопедии» Лейбниц придерживается сходных принципов генетического выведения наук. Первый блок знания образуют науки о мышлении — рациональная грамматика, логика, мнемоника и топика. Затем следуют науки, основанные на принципе отношения и количества: искусство формообразования, логистика, арифметика, геометрия и механика. За ними, начиная с десятой, пойографии, т.е. науки о чувственно воспринимаемых качествах, следуют дисциплины, изучающие качества вещей, — хомойография, космография, идеография. Наконец, последнее звено образуют науки о человеке и Боге: мораль, геополитика и теология. Появление в этой системе новых дисциплин также может рассматриваться как детализация ранее намеченного плана: выделенное в особую науку учение о схематизме и рациональной грамматике представляет собой не что иное, как дальнейшее развитие изложенного в «Новом методе» учения о мнемонике, которое мыслилось именно как учение о знаке.
Более существенное изменение в толковании претерпела, однако, логика, которая явно утратила свою основополагающую роль в учении о мышлении.
Само мышление отныне стало пониматься шире логики — как процесс исчисления отношений между сущностями вещей, воспринимаемыми непосредственно силами души. Таким образом, первый блок дисциплин образует комплекс наук о мышлении, где каждая наука отражает разные структурные элементы мышления: рациональная грамматика призвана, пользуясь знаками, вычленять семантические единицы и функции мышления, логика изучает формы умозаключений, мнемоника — способы удержания полученного знания, топика — способы выведения нового знания. Итак, если первоначально логика представлялась как основополагающая наука о мышлении и причинности, а учение о знаке мыслилось в контексте мнемоники, то теперь мышление понимается как непосредственно интегрированное в речь.
Другим существенным нововведением в классификации наук в «Плане написания Энциклопедии» по сравнению с «Новым методом» является трактовка науки о чувственно воспринимаемых качествах, которые здесь интерпретируются в более узком значении качеств, фиксируемых органами чувств. Лейбниц указывает, что эта наука, которую он, по примеру «Нового метода», называет пойографией, призвана определять эти качества в их различиях и градациях, а также перечислять предметы, в которых они присутствуют и от которых зависят. Отметим, однако, что при этом Лейбниц и в «Плане» сохраняет мысль об интеллигибельных восприятиях, которые, как он указывает, осуществляются непосредственно силами души. Учение об этих интеллигибельных восприятиях не специфицировано в «Плане» как отдельная наука, поскольку оно, по Лейбницу, пересекается с геометрией и механикой, чьи теоремы о причинах и следствиях могут также применяться к суждениям относительно чувственных тел. Таким образом, несмотря на то что в «Плане написания Энциклопедии» Лейбниц еще называет простые осязания простейшими качествами, он тем не менее указывает, что учение об их причинах лежит в сфере интеллигибельного. Следовательно, здесь уже намечены подступы к учению Лейбница 1680-х годов, согласно которому воспринимаемые качества не могут считаться в строгом смысле первичными, так как они сложны, т.е. могут быть разложены, и к тому же имеют свои причины[293]. Данная трансформация учения Лейбница о чувственных качествах находится в полном соответствии с отмеченными нами изменениями в учении Лейбница о знаке, а именно с его отказом от идеи наглядной репрезентации первых понятий. Таким образом, дальнейшее развитие проблематики классификации наук напрямую зависело от переосмысления Лейбницем его учения о субстанции, которое в середине 1680-х годов вновь выходит на первый план и именно в этот период, как верно заметил в свое время Бертран Рассел, принимает свой оформленный вид.
[201] Исследование выполнено в рамках проекта «Объективность, достоверность и факт в гуманитарных науках раннего Нового времени: историческая реконструкция и пути рецепции» при финансовой поддержке РГНФ (проект 12-03-00482а, 2012-2014 гг.).
[202] Cassirer E. Leibniz’ System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen // Cassirer E. Gesammelte Werke. Bd. 1 / B. Recki (Hrsg.). Hamburg: Meiner, 1998. S. 201.
[203] Leibniz G.W Studia ad felicitatem dirigenda // Leibniz G.W Sämtliche Schriften und Briefe / Berlin-Brandenburger Akademie der Wissenschaften, Akademie der Wissenschaften in Göttingen (Hrsg.). R. VI. Bd. 4. Berlin: Akademie-Verlag, 1966. S. 138.
[204] Idem. Initia et Specimina scientiae generalis de nova ratione instraurationis et augmento scientiarum // Leibniz G.W Sämtliche Schriften und Briefe. R. VI. Bd. 4. S. 256.
[205] Эрнст Кассирер, определяя всеобщую науку Лейбница как синтез платоновского учения об идеях с аристотелевским учением о сущности, указал, что Лейбниц «является платоником, поскольку исходит из основных понятий чистой науки и пытается ими измерить сущее. Однако вместе с тем вопрос о реальности конкретного и единичного принял у него новый образ и обрел более глубокое значение. Идеи должны не противостоять чувственному многообразию как пустые общности, но быть в их взаимопроникновении достаточными для того, чтобы сформировать особенное из него самого» (Cassirer E. Leibniz’ System in seinen... S. 433). Однако это суждение Касссирер вынес в основном на материале более поздних текстов Лейбница. В отношении же раннего творчества философа в исследовательской традиции по сей день преобладает тенденция нивелирования аристотелевского влияния. Как указывает один из крупнейших современных исследователей новоевропейской философии, Томас Лейнкауф, «до сих пор остается неясным, каким именно образом произросла всеобщая наука, уходящая своими корнями в луллизм и различные течения платонизма, и каким образом ее развитие и ее достижения оказали влияние на то, что можно назвать полным, метафизически фундированным исчислением сущего и знания у Лейбница» (Leinkauf T. Mundus combinatus. Studien zur Struktur der barocken Universalwissenschaft am Beispiel Athanasius Kircher S.J. (1602-1680). Berlin: Akademie-Verlag, 1993. S. 12).
[206] Philosophische Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz / C.E. Gerhard (Hrsg.). Bd. VI. Berlin: Weidmann, 1875-1890. S. 27-104.
[207] Disputatio Arithmetica de complexionibus, quam in illustri Academia Lipsiensi indultu amplissimae Facultatis Philosophicae pro loco in ea obtinendo prima vice habebit M. Gottfredus Guilielmus Leibnüzius, Lipsiensis. I. U. Baccat. D. 7. Martii Anno 1666. H.L.Q.C. (Рус. пер.: Арифметическое исследование комплексий, осуществленное в знаменитой Лейпцигской Академии с разрешения прославленного философского факультета в соискание должности М. Готфридом Вильгельмом Лейбницем / пер. с лат., комм. Н.А. Осминской // Вопросы философии. 2011. № 2. С. 159-167).
[208] Leibniz G.W. Sämtliche Schriften und Briefe. R. VI. Bd. I. S. 484-500. Подробнее о «Кафолических доказательствах» см.: Mercer Ch. Leibniz’s Metaphysics: Its Origins and Development. N.Y.: Cambridge University Press, 2001. Р. 65 ff.
[209] «...Во всех науках должны быть представлены законченные доказательства» (Leibniz G.W. Philosophische Schriften... S. 42).
[210] Ibid.
[211] Действительно, как было показано в одной из ранних работ Николаса Решера, учение Лейбница о разделении в Боге метафизически-необходимого и морально-свободного (творение) представляет собой средоточие всей лейбницевской логики, так что различие в Боге метафизической и моральной необходимости в более поздний период обосновывается Лейбницем через различие принципа достаточного основания и принципа требования совершенства (выбора существующего мира как наилучшего из возможных). Как видим, эти фундаментальные положения лейбницевской логики уходят своими корнями в самый ранний период творчества философа. См.: Rescher N. Contingence in the Philosophy of Leibniz // The Philosophical Review. 1952. Vol. 61. No. 1. P. 36-38.
[212] Philosophische Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz. Bd. VI. S. 42.
[213] На связь истинного познания с метафизикой творения указано также и в «Предвестнике всеобщей мудрости» Яна Коменского в следующем тезисе: «Вещи познаются так, как они существуют в действительности, в том случае, когда они познаются так, как они возникли» (Коменский Я.А. Предвестник всеобщей мудрости // Коменский Я.А. Сочинения. М.: Наука, 1997. С. 158).
[214] Godofredi Guilielmi L.B. de Leibniz Nova Methodus discendae docendaeque Jurisprudentiae ex artis didacticae principiis in parte generali praepraemissis, experimentiaeque luce, cum praefatione Christiani L.B. de Wolf, dynastae in Klein-Doelzig, universitatis hallensis cancellarii. Lipsiae et Halae, 1748.
[215] Ibid. P. 107-108.
[216] Philosophische Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz. Bd. VI. S. 545.
[217] Ibid. S. 58.
[218] Ibid.
[219] Ibid.
[220] Подробнее о проблеме первых понятий в «Новом методе» см.: Осминская Н.А. Проблема первых понятий в философии Г.В. Лейбница: от атрибутов Бога к трансцендентальным идеям // Вестник РУДН. Сер. Философия. 2011. № 4. С. 6-20.
[221] Уже в письме к Якобу Томазию от февраля 1666 года Лейбниц высказывал предположение, что цвет является скорее идеей, нежели качеством вещей. См.: Mercer Ch. Leibniz’s Metaphysics... P. 24.
[222] И.И. Ягодинский усматривает здесь прямое влияние на Лейбница со стороны Гассенди, согласно которому «чувственные качества в последнем счете сводились к различию количества и формы». См.: Ягодинский И.И. Философия Лейбница. СПб.: Наука, 2007. С. 67-69.
[223] Godofredi Guilielmi L.B. de Leibniz Nova Methodus... P. 12.
[224] Лейбниц Г.В. Сочинения: в 4 т. Т 3 / пер. Н.А. Федорова. М.: Мысль, 1984. С. 76.
[225] Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т 1. М.: Мысль, 1976. С. 166.
[226] Godofredi Guilielmi L.B. de Leibniz Nova Methodus... P. 20-21.
[227] Die Werke von Leibniz gemäß seinem handschriftlichen Nachlasse in der königlichen Bibliothek zu Hannover. Erste Reihe. Historisch-politische und staatswissenschaftliche Schriften / O. Klopp (Hrsg.). Bd. 1. Hannover: Klindworth’s Verlag, 1864. S. 39-44. Далее: Klopp I.
[228] Ibid. S. 45-51.
[229] CouturatL. La Logique de Leibniz d’apres des documents inedits. P: Georg Olms Verlag, 1901. P. 125.
[230] Philosophische Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz. Bd. VII. S. 37-38.
[231] Klopp I. S. 42-43.
[232] Периодического издания (лат.).
[233] Материалы (лат.).
[234] Совершенной энциклопедии (лат.).
[235] Понятия (лат.).
[236] Путем доказательств (лат.).
[237] Предположении (лат.).
[238] Степень вероятности (лат.).
[239] Атрибутов (лат.).
[240] Субъектов (лат.).
[241] Всеобщей космографической системе времени и места (лат.).
[242] Логика (лат.).
[243] Метод мышления или аналитическое и комбинаторное искусство открытия и суждения (лат.).
[244] Метода (лат.).
[245] Philosophische Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz. S. 42.
[246] Ibid. Bd. IV. S. 42. Кабитц указывает на это место как единственное место «Диссертации», где Лейбниц касается проблемы необходимых и контингентных высказываний. См.: Kabitz W Die Philosophie des jungen Leibniz. Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte seines Systems. Heidelberg: Georg Olms Verlag, 1909. S. 35-36. Однако эту тему Лейбниц продолжает в главе «Применение проблем I и II».
[247] Philosophische Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz. Bd. IV S. 69.
[248] Ibid. Bd. VII. S. 518. См. также: Meier-Kunz A. Die Mutter aller Erfindungen und Entdeckungen. Ansätze zu einer neuzeitlichen Transformation der Topik in Leibniz’ ars inveniendi. Würzburg: Königshausen & Neumann, 1996. S. 94.
[249] Ibid. S. 94.
[250] Аристотель. Вторая аналитика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 2 / пер. Б.А. Фохта. М.: Мысль, 1978. С. 142.
[251] Подробно о понятии гипотетической необходимости в учении Лейбница о возможных мирах см.: Gurwitsch A. Leibniz. Philosophie des Panlogismus. Berlin; N.Y.: De Gruyter, 1974. S. 99 ff.
[252] См.: Meier-Kunz A. Die Mutter aller Erfindungen und Entdeckungen. S. 54-55; Gurwitsch A. Leibniz... S. 226 ff.
[253] Klopp I. S. 42-43.
[254] Ibid. S. 42.
[255] Leibniz G.W. Sämtliche Schriften und Briefe. Bd. 1. S. 548-560. См. также: Kabitz W Die Philosophie des jungen Leibniz... S. 25-31.
[256] Подробнее об этом см.: Осминская Н. Традиция универсального музея: коллекционирование как мировоззрение // Arbor mundi. 2004. № 11. С. 96-129.
[257] Godofredi Guilielmi L.B. de Leibniz Nova Methodus... P. 20. Ср. также высказывание Лейбница в письме к Якобу Томазию о возможности примирить Аристотеля с новой философией: Лейбниц Г.В. Сочинения. Т. 1. 1982. С. 99.
[258] Коменский Я.А. Сочинения. С. 171.
[259] Лейбниц Г.В. Сочинения. Т. 3. 1984. C. 76.
[260] Там же.
[261] Там же. С. 80.
[262] Там же. С. 71.
[263] Лейбниц Г.В. Сочинения: в 4 т. Т. 1 / пер. с лат. Н.А. Басистова. 1982. С. 100.
[264] Там же. С. 97.
[265] Там же. С. 100.
[266] Аристотель. Метафизика (983 а 26 — 983 a 30). Т. 1. 1976. С. 70.
[267] Leibniz G.W. Sämtliche Schriften und Briefe. R. VI. Bd. 1. S. 484-500.
[268] Лейбниц Г.В. Сочинения. Т. 1. 1982. C. 97.
[269] Leibniz G.W. Sämtliche Schriften und Briefe. Sechste Reihe: Philosophische Schriften. Bd. 1. Berlin: Akademie-Verlag, 1990. S. 513.
[270] Лейбниц Г.В. Сочинения: в 4 т. Т. 1 / пер. Е.Н. Боброва. М.: Мысль, 1982. C. 421.
[271] Подробнее об этом см.: Beeley P. In inquirendo sunt gradus — Die Grenzen der Wissenschaft und wissenschaftliche Grenzen in der Leibnizschen Philosophie // Studia Leibnitiana. Bd. 36. H. 1. 2004. S. 22-41.
[272] Leibniz G.W. Consilium de Encyclopedia nova conscribenda methodo inventoria // Leibniz G.W Sämtliche Schriften und Briefe. R. VI. Bd. 4 A. S. 338-349. Судя по пометке на одном из листов (25 июня 1672 г.), средняя часть текста могла быть написана Лейбницем раньше, чем основной текст.
[273] Ibid. S. 339.
[274] Требование доказательств аксиом является существенным пунктом расхождения Лейбница с Декартом, для которого аксиомы подвергались верификации посредством критерия очевидности. См.: Cassirer E. Leibniz’ System in seinen... S. 100.
[275] Leibniz G.W. Consilium de Encyclopedia... S. 340-342.
[276] Ibid. S. 343.
[277] Ibid.
[278] Ibid.
[279] Ibid. S. 344.
[280] Couturat L. La Logique de Leibniz d’apres... P. 128.
[281] Leibniz G.W Consilium de Encyclopedia... S. 344.
[282] Pombo O. Leibniz and the Problem of a Universal Language. Münster: Nodus Publikationen, 1987. P. 157 ff.
[283] Leibniz G.W. De lingua philosophica // Leibniz G.W Sämtliche Schriften und Briefe. R. VI. Bd. 4 A. S. 882-902.
[284] Ibid. S. 886.
[285] Ibid. S. LX.
[286] Idem. Consilium de Encyclopedia... S. 344-345.
[287] См.: Meier-Kunz A. Die Mutter aller Erfindungen und Entdeckungen... S. 80 ff.
[288] Klopp 1. S. 50.
[289] См.: Meier-Kunz A. Die Mutter aller Erfindungen und Entdeckungen... S. 81.
[290] Ibid. S. 85.
[291] Leibniz G.W. Consilium de Encyclopedia... S. 347.
[292] Ibid.
[293] Та же точка зрения сохраняется и в «Новых опытах», хотя там Лейбниц называет эти понятия первичными «для нас»; см.: Лейбниц Г.В. Сочинения. Т. 2. 1982. С. 120.
