автордың кітабын онлайн тегін оқу Вот, что вы упускаете или Видеть мир как художник
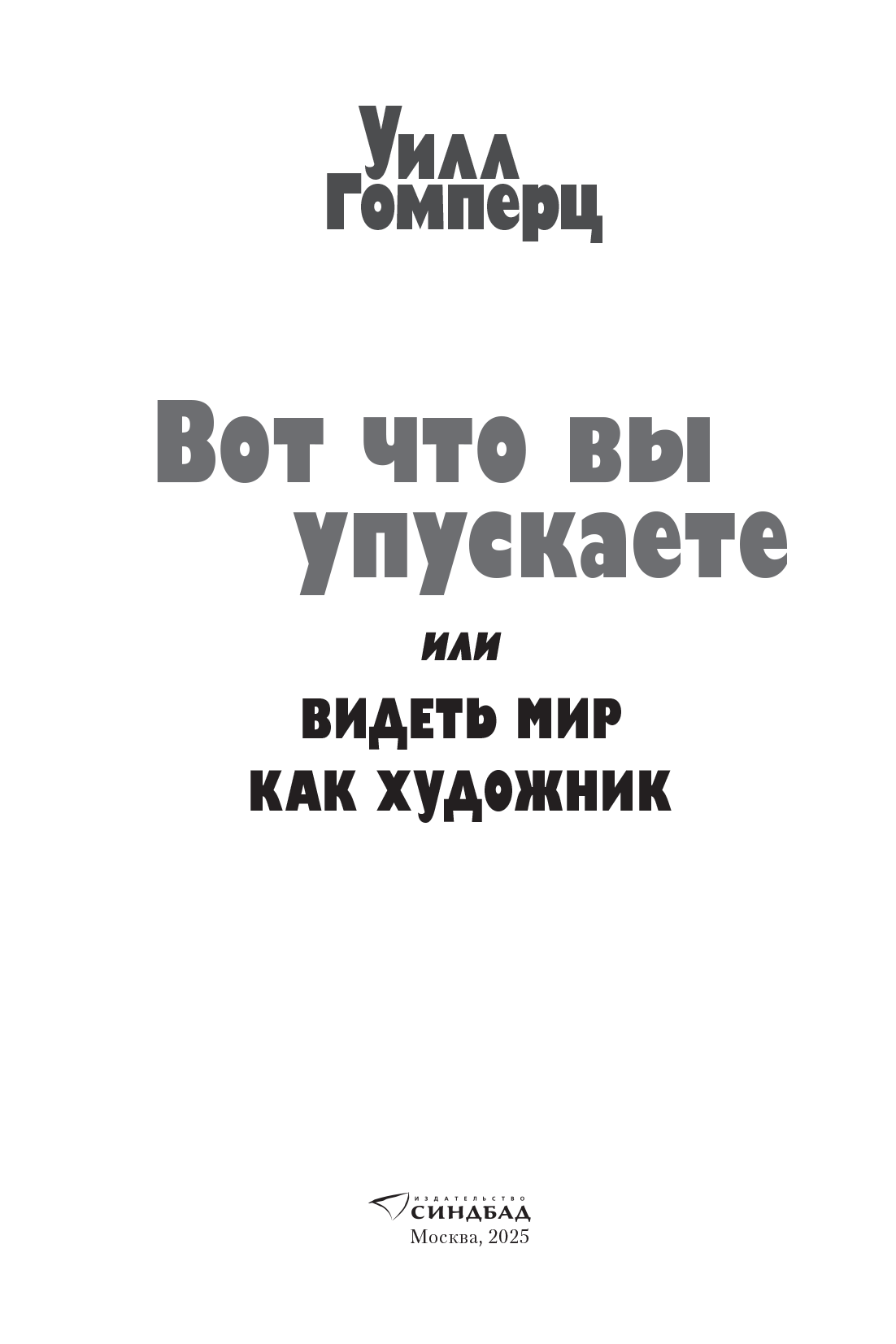
Will Gompertz
SEE WHAT YOU'RE MISSING
Copyright © Will Gompertz, 2023
First published in 2023 by Viking, an imprint of Penguin General.
Penguin General is part of the Penguin Random House group of companies.
Published in the Russian language by agreement with Penguin Books Ltd. and Andrew Nurnberg Literary Agency
Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd., 2025
Перевод с английского Дарьи Панайотти
Большинство из нас живет как на автопилоте, не замечая многих составляющих неповторимого богатства окружающего мира.
Так не должно быть.
То, чего мы привычно не замечаем, видят художники. Потому что, в отличие от нас, обращают внимание, всматриваются.
В этой книге признанный авторитет в мире искусства Уилл Гомперц, автор мировых бестселлеров «Думать как художник» и «Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси», рассказывает о творчестве ряда выдающихся старых мастеров и современных звезд и показывает, как смотреть на мир, чтобы упускать как можно меньше.
Правовую поддержку издательства осуществляет юридическая фирма «Корпус Права»
ISBN 978-5-00131-721-0
Моим покойным родителям — Фрэнсис Гомперц и доктору Хью Гомперцу, которые посвятили свою профессиональную жизнь Национальной службе здравоохранения, а все свободное время — нашей семье, всегда с любовью и добротой.
Оглавление
Введение
Идея этой книги пришла ко мне, когда я обнаружил в электронной почте письмо от некоего Тома Харви с приглашением выступить на мероприятии для творческой публики в лондонском Сохо. В то время я работал на Би-би-си, вел передачи об искусстве и много о нем рассказывал, так что меня часто приглашали судить разные художественные конкурсы и читать лекции. Обычно я соглашался и брался за все, не жалея сил, но незадолго до получения этого письма пообещал своему издателю, что брошу такие подработки по крайней мере до тех пор, пока не начну писать давно обещанную книгу о восприятии. По правде говоря, зарок сосредоточиться на книге был просто попыткой выгадать время. На самом деле я плохо представлял, о чем буду писать, но чувствовал большой потенциал в теме ви́дения — из нее можно было бы извлечь очень многое, если бы только мне удалось найти правильный подход и преодолеть пресловутую боязнь чистого листа.
Я ответил Тому, что не могу принять его любезное приглашение. Я объяснил, что с сожалением вынужден отказать ему, поскольку каждую свободную минуту посвящаю работе над еще не написанной и даже не до конца продуманной книгой об искусстве и умении наблюдать.
«Прекрасно понимаю», — великодушно ответил Том.
На следующий день он прислал мне еще одно письмо, в котором была вот эта фотография:

Скульптор Марк Харви и его маленький сын Том
Текст письма гласил:
Высылаю фотографию, которую нашел на днях. Она была сделана в начале шестидесятых, на ней мы с отцом на пляже. Я посылаю ее как прекрасную, на мой взгляд, иллюстрацию того, что некоторые художники наделены способностью видеть по-иному. Папа был скульптором, одинаково хорошо владел обеими руками и любой из них мог писать зеркально. На снимке он запечатлен в той позе, в какой часто стоял на пляже. Он всегда находил лучшие ракушки, камешки и разные любопытные штуки, выброшенные на берег, а я никогда ничего не находил. Меня так завораживала его способность видеть то, чего не видят другие, что в надежде повысить свои шансы на лучшие находки я требовал, чтобы во время прогулок по пляжу он шел на метр позади меня. До сих пор помню свое разочарование, когда с криком «Ты только посмотри на это!» он указал на великолепную раковину, мимо которой я прошел пару секунд назад.
Я был счастлив получить такое письмо. Более того, оно меня вдохновило. История Тома помогла мне лучше понять, что именно я хотел бы исследовать и выяснить об искусстве, восприятии и о нас самих. Дело в том, что у художников можно научиться видеть в повседневности красоту и чудеса, которые окружают нас повсюду, но обычно не привлекают нашего внимания. Великие художники и скульпторы способны помочь нам стать более зоркими, наблюдательными и чуткими. Мы можем сбросить те невидимые шоры самонадеянности, которые сужают наше поле зрения практически до узкого туннеля. Короче говоря, имеет смысл обратиться к художникам, чтобы они помогли нам увидеть то, что мы упускаем.
Отец Тома — не какой-то исключительный случай; все художники — искусные наблюдатели. Всю свою жизнь они посвящают визуальному исследованию мира и всего, что в нем есть: людей, предметов, мест. Художники — это «старые мудрые рыбы» из анекдота, который американский писатель Дэвид Фостер Уоллес рассказал на церемонии вручения дипломов в Кеньон-колледже жарким летним днем 2005 года.
Изрядно помариновав аудиторию и весь вспотев сам (известно, что он очень нервничал во время публичных выступлений), Уоллес перешел к анекдоту. Плывут как-то две молодые рыбы, а навстречу им старая. Старая рыба говорит: «Доброе утро! Как вам водичка?» Молодые рыбы в недоумении проплывают мимо, а потом одна поворачивается к другой и спрашивает: «Слышь, что за хрень? Какая еще водичка?»
Этой историей писатель хотел намекнуть выпускникам-гуманитариям, воспитанным на здоровой диете критического мышления, что им стоило бы научиться применять свои аналитические способности к вещам на первый взгляд заурядным, но на самом деле существенным и важным, а именно — к тем якобы скучным реалиям нашей повседневной жизни, которые высокообразованные умы привыкли не замечать. Ведь бóльшую часть жизни мы проживаем в полубессознательном состоянии, переходя от одних рутинных действий к другим, подавляя свои чувства, как зомби в мире нежити. Мы не замечаем красивые камешки на пляже, потому что, как те беспечные молодые рыбки, зачастую не обращаем внимания на то, что нас окружает. Но продолжать и дальше в таком духе вовсе не обязательно; мы не обречены воспринимать реальность узким взглядом. В наших силах научиться смотреть на мир и видеть все вокруг с повышенной осознанностью художника — и получать удовольствие от наблюдения за тем, что нас окружает, со стопроцентной четкостью.
Конечно, о том, как смотреть на картины, уже написаны сотни книг: от знаменитой работы Джона Бёрджера «Искусство видеть» до восхитительно откровенной автобиографии Пегги Гуггенхайм «На пике века. Исповедь одержимой искусством». Существует также немало книг об искусстве и восприятии, среди которых я бы особо выделил «Искусство и иллюзию» Эрнста Гомбриха. Однако пока, похоже, есть не так много книг, где сочетались бы оба подхода — не только для того, чтобы мы, приглядевшись к полотнам, стали лучше понимать художников, но и для того, чтобы, научившись видеть как художники, мы начали больше ценить жизнь.
Есть английская поговорка о том, что привычка порождает пренебрежение, но на мой взгляд, она порождает скорее слепоту: то, что всегда на виду, становится невидимым. Это хорошо понимал немецкий кинокритик Зигфрид Кракауэр, который в своей книге «Природа фильма» (1960) писал: «Лица близких, улицы, по которым мы ходим ежедневно, дом, где мы живем, — все это как бы часть нас самих, и оттого что мы их знаем на память, мы не видим их глазами»[1].
Дерево, здание, цвет дороги — все это становится незаметным, не фиксируется в нашем сознании. Мы очень многого не замечаем. Мы — но не художники. Они видят «невинным взором», как выразился искусствовед викторианской эпохи Джон Рёскин. Художники учатся разучиваться: видеть так, будто видят впервые, а не в сотый раз. Именно так поступал отец Тома. Он сосредоточивался, фокусировал внимание и жил настоящим моментом. Он учил сына видеть то, чего тот не замечал. Этим даром могут поделиться и другие художники: они способны показать нам, как смотреть на мир с иной точки зрения, чтобы со временем мы выработали собственную «пляжную стойку».
Прежде чем начать, вкратце расскажу о структуре этой книги и выборе художников. Отправной точкой для каждой главы стал тот или иной выдающийся художник или скульптор. Это может быть современная звезда, как Дженнифер Пэкер, или доисторический мексиканский мастер — но это всегда художник, чьим творчеством я восхищаюсь и чья удивительная наблюдательность помогает увидеть мир по-новому. В каждом случае я подробно рассматриваю какую-то одну работу с целью проникнуть в сознание художника и открыть для себя его уникальный способ ви́дения, который мы можем взять на вооружение, дабы развить наши чувства, обострить восприятие и полностью раскрыть глаза.
1. Пер. Д. Соколовой.
Дэвид Хокни: видеть природу

Приход весны в Уолдгейт, Восточный Йоркшир (2011), Дэвид Хокни
Обычно люди не склонны всматриваться. Всматриваться — тяжелый труд. Но так всегда видишь больше; вот что меня восхищает. Красота есть во всем, даже в пакете мусора. Нужно только всмотреться как следует.
На дворе 2012 год, середина января. Дэвид Хокни стоит посреди центральной галереи Королевской академии художеств в Лондоне. Ему семьдесят четыре, на нем кремовая рубашка-поло, поверх нее — свободный серый пиджак, на шее небрежно повязан галстук. Будь он коммивояжером, вы бы вряд ли пустили его на порог. Но он знаменитый современный художник, а значит, перед ним открыты все двери.
Он смотрит на дальнюю стену, где висит его колоссальное, размером с рекламный щит, полотно «Приход весны в Уолдгейт, Восточный Йоркшир» (2011). Улыбаясь, он оборачивается ко мне и в присущей ему ироничной манере с расстановкой произносит: «Неплохо вышло, да». Художник, сам уроженец Йоркшира, не напрашивается на похвалу и не пытается самоутвердиться. Он просто доволен тем, как его работа, составленная из тридцати двух холстов, с изображением леса возле его дома в Бридлингтоне смотрится в бледных, грибного цвета стенах Академии.
Это невероятное произведение искусства. В прямом смысле слова: крайне маловероятно, что человек, который бывал в Восточном Йоркшире и ощущал на себе пронизывающий ледяной ветер Северного моря, узнает в этом буйстве красок тот самый лес в Уолдгейте. По крайней мере, не с первого взгляда. Фиолетовые деревья, сияющий свет? Да бросьте! Скорей уж намокшие бурые стволы и свинцово-серое небо. Говорят, что некоторые смотрят на мир через розовые очки; в очках Дэвида весь мир похож на Сен-Тропе, расцвеченный яркими красками праздника жизни.
Но если вы скажете об этом самому художнику, он смерит вас скептическим взглядом и возразит, что это ваши очки искажают реальность, ваши шоры мешают вам увидеть все как есть. «Да вы толком-то и не посмотрели», — скажет он. Людям это свойственно: «Они смотрят только себе под ноги, чтобы не запнуться. А посмотрели бы подольше — глядишь, и увидели бы больше». Это простая рекомендация, которую на самом деле не так-то легко выполнить. Смотреть по-настоящему — задача и правда трудная. Нужно побороть в себе застарелые стереотипы, которые затуманивают взгляд. Деревья — коричневые, листья — зеленые, а тропинки — цвета грязи. Такая картинка засела у нас в голове с самого детства и подкреплялась всем, что мы видели и с чем имели дело. Но вот однажды вы видите «Приход весны в Уолдгейт, Восточный Йоркшир», и картина предлагает совершенно иной взгляд на реальность, заставляя вас присмотреться получше.
Я пошел в ближайший лес, остановился и принялся разглядывать деревья. Они коричневые, никаких сомнений. А листья — зеленые. И тропинка цвета грязи. На психоделические переливы Хокни здесь не было и намека. Но в голове у меня звучал его призыв проявить терпение: «Деревья как лица, двух одинаковых не найти. Природа не терпит повторений. Нужно внимательно наблюдать, тут не угадаешь».
И действительно, когда я вглядывался в старый корявый дуб с толстым морщинистым стволом в надежде, что он вот-вот расцветится, как на картине Хокни, искривленные очертания дерева вдруг озарил луч света. Прямо на моих глазах кора начала менять цвет: от темно-коричневого — к ярко-оранжевому и восхитительному фиолетовому! Листва тоже словно пробудилась от сна: однородная зеленая масса начала переливаться оттенками сочного желтого и серебристо-серого, а желуди на ветках засверкали золотом. Тропинка по-прежнему была грязно-коричневой — но это как если бы мы сказали, что The Beatles были просто квартетом. Стоило лишь сосредоточить на ней внимание, как начала проявляться ее особая фактура. Вскоре я уже различал в ней десятки оттенков коричневого, а тени в ее изгибах отливали красным, розовым и голубым; то, что еще пару мгновений назад было грязной массой, превращалось в причудливый узор, напоминающий мозаичные полы римских вилл.
Некоторые искусствоведы считают, что Хокни больше рисовальщик, чем живописец (если Пауль Клее «выводил линию на прогулку», то Хокни тянет ее в пляс). Покойный британский критик Брайан Сьюэлл нелестно отозвался о выставке Хокни, прошедшей в 2012 году в Королевской академии художеств, назвав ее «визуальным эквивалентом того, как если бы вас связали по рукам и ногам и бросили под колонки на фестивале в Гластонбери». Яркий образ — под стать картинам Хокни, которые Сьюэлл нещадно критиковал. Они казались ему кричащими, аляповатыми и вычурными. Справедливости ради, краски на них действительно буйствуют, но вот чего там нет совсем, так это вычурности. Они бунтарские, пронзительные, революционные: Хокни в корне переосмыслил пейзаж — жанр, к которому последние поколения художников проявляют мало интереса, предпочитая концептуализм с его интеллектуальными играми.
«Говорят, что пейзажный жанр себя изжил, — рассуждает Хокни в интервью для музея Ван Гога. — Я этого не понимаю. Почему? Разве природа стала скучнее? Да это не пейзажи наскучили, а то, как их пишут. Природа не может надоесть… не так ли?»
Цикл с видами Восточного Йоркшира стоит в одном ряду с работами, которые Хокни писал еще в середине 1960-х, вдохновляясь яркой палитрой Матисса, — после того как уехал из туманной Британии в залитую солнцем Калифорнию и открыл для себя сияющий свет и акриловые краски. Он стремится нести в наш несчастный мир радость, однако в современной арт-среде куда больше приветствуется глумливый цинизм. Впрочем, Хокни все равно. Он достаточно уверен в себе, чтобы не гнаться за модой. Он нонконформист во всем, от кончика недокуренной сигареты до открытых носов кожаных сандалий. Такова уж его натура, это у него в крови. Отец художника, Кеннет, в свое время отказался служить в армии по убеждениям (которые впоследствии разделял и его сын, ставший на стезю искусства) и поощрял в мальчике независимость мышления и любознательность. «Не слушай, что болтают соседи», — говорил он. Хокни всегда следовал этому совету.
В конце 1950-х — начале 1960-х, учась в Королевском колледже искусств и находясь под влиянием Жана Дюбюффе и Уолта Уитмена, он писал картины с зашифрованными посланиями, дерзкие и провокационные, бросающие вызов консервативному истеблишменту. Среди них особняком стоит работа «Мы два сцепившихся мальчишки» (1961) — написанная маслом по дереву фривольная сцена в туалете с граффити на стене. Один из мальчиков — сам художник, а другой — либо его кумир, поп-музыкант Клифф Ричард, либо Питер Кратч, однокурсник. В любом случае для шестидесятых — пока еще не «свингующих шестидесятых» — это было смело. Кроме того, картина была крайне далека от строгой академической живописи, которой обучали студентов Королевского колледжа искусств. Профессора смотрели на работы Хокни с той же неприязнью, что и много лет спустя Брайан Сьюэлл: они тоже считали их низкопробной мазней ради привлечения внимания. Впрочем, все изменилось, как только Ричард Гамильтон — британский авангардист, пользовавшийся авторитетом у преподавателей колледжа, — оценил талант молодого Хокни, присудив ему премию.
С первого дня в Королевском колледже искусств и до недавних пейзажей, написанных на севере Франции, Дэвид Хокни непрестанно и увлеченно исследует новые способы видеть мир. Он занимался фотографией, разрабатывал театральные декорации, создавал коллажи с использованием факса и копировальной техники. Он экспериментировал с планшетом iPad и играл с перспективой. Он создавал гравюры и эстампы, наглядно объяснял телезрителям принцип действия камеры-обскуры и снимал панорамы проселочных дорог с помощью нескольких видеокамер, установленных на автомобиле. Он перепробовал всё на свете, преследуя одну цель: создавать запоминающиеся картины. Рисовать может каждый, навыками живописи владеют многие, но лишь единицы создают работы, меняющие наш взгляд на вещи, — образы, проникающие в подсознание. Хокни как раз из таких единиц, и он не раз это доказывал, проявляя недюжинное воображение и выдающийся талант. Лучшие его работы пронизаны психологизмом: взять хотя бы знаменитую лос-анджелесскую серию с бассейнами, которую художник создал в 1960‒1970-е годы. Эти картины можно было бы отнести к неоимпрессионизму: мимолетное мгновение запечатлено на холсте и остается в вечности. Но лучше всего способность Хокни улавливать индивидуальное и возводить его в ранг универсального проявилась в потрясающей серии крупноформатных двойных портретов, которые художник начал писать в конце 1960-х годов.
Пожалуй, самая известная работа из этой серии — «Мистер и миссис Кларк и Перси» (1970‒1971), аллюзия на «Мистера и миссис Эндрюс» (ок. 1750) Томаса Гейнсборо. Это замечательная картина, однако лучшее свое полотно Хокни напишет годом позднее. «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» — кульминация работы над двумя темами, с которыми чаще всего ассоциируется имя Хокни: бассейны и двойные портреты. Мировую славу «Портрет художника» обрел в 2018 году, когда был продан на аукционе Christie’s за 90 миллионов долларов — рекорд стоимости среди картин ныне живущих художников.
Асимметричная геометрическая композиция тщательно продумана, а все ее элементы тонко сбалансированы. На краю прямоугольного бассейна стоит мужчина и смотрит вниз, на плывущего под водой. Эти две фигуры принадлежат разным осям и разным стихиям; они близки друг к другу, но в то же время существуют в разных измерениях. Стоящий мужчина (моделью для него послужил Питер Шлезингер) весь напряжен. Пловец (Хокни?) словно бы не замечает его присутствия: его чувства не выплескиваются на поверхность — как в прямом, так и в переносном смысле. Что же здесь произошло? И что будет дальше? Художник выпустил нас на глубину, где не за что зацепиться. Остается только ждать, пока немая картина заговорит.
Теплый ветерок с треугольных холмов на заднем плане шепчет истории о любви и разлуке, о разбитом сердце и страданиях, об искуплении и дружбе, о рае и красоте. Эта восхитительная работа напоминает о «Бичевании Христа» (ок. 1455) Пьеро делла Франчески, где художник выражает время через пространство, и о «Благовещении» (ок. 1438‒1447) Фра Анджелико со сходной двухфигурной композицией. Я мог бы назвать еще пару десятков мастеров, от Эдварда Хоппера до Фрэнсиса Бэкона, чьи работы приходят на ум при взгляде на «Портрет художника». Но написать эту картину мог только один человек — Дэвид Хокни: это его рука, его взгляд и его душа.
«Портрет художника» не похож на более поздние пейзажи Хокни ни по стилю, ни по методу. Он был создан не с натуры, а в результате синтеза двух фотографий, которые художник случайно нашел на полу своей мастерской: на одной был запечатлен плывущий под водой человек, на другой — мальчик, вглядывающийся в землю под ногами. Эти снимки, сделанные во время путешествия по Европе, сложились в воображении художника в одну картину.
Сцена, которую мы видим на полотне, никогда не разворачивалась в реальности, но за всеми ее элементами стоят реальные события из жизни художника: отпуск, который Хокни провел среди холмов на юге Франции, бассейн в его калифорнийском доме, прогулки с Питером по лондонскому парку. Изобразив на полотне не одно воспоминание, а целую серию, художник рассказал о том времени, когда он пережил расставание с близким человеком. Хокни собрал несколько месяцев своей жизни в единый образ — вымышленный, но вместе с тем ошеломляюще честный. Художник показывает нам, что процесс наблюдения не обязательно предполагает концентрацию на конкретном предмете в конкретное время и в конкретном месте. Иногда для того, чтобы увидеть по-настоящему, нужно обратиться ко множеству визуальных источников и свести их воедино в общей композиции, которая расскажет больше, чем каждый элемент по отдельности.
Такому методу создания картин Хокни посвятил много времени и сил. Как и все его творчество, он служит главной задаче, которую ставит перед собой художник: видеть по-настоящему. Хокни брал фотоаппарат и снимал одного и того же человека или предмет со всех мыслимых и немыслимых ракурсов, он забирался на лестницу и ползал по земле ради того, чтобы увидеть все. И только убедившись, что он полностью изучил свой объект, художник начинал складывать фрагментарные образы в единую картину.
Эти лоскутные произведения сообщают ту же самую сущностную истину, что и «Портрет художника»: все, что мы видим, существует в контексте. Наши два глаза — это уже две точки зрения, мы вытягиваем шею — и получаем третью и четвертую, затем немного смещаемся — и так далее. Не прошло и минуты, а мы уже провели комплексный визуальный анализ предмета. Вот такую реальность Хокни преподносит нам в своих коллажах. Вот откуда это ощущение правдивости, этот глубокий психологизм. Художник не просто изображает человека или место — он размышляет о реальности нашего восприятия.
Хокни идет девятый десяток, его подводит слух, он уже не в той физической форме, что прежде. Но его ум и зрение не теряют остроты, и он по-прежнему чутко улавливает великолепие в повседневности. В начале пандемии COVID-19 он прислал мне несколько рисунков, сделанных в его цветущем весеннем саду в Нормандии. Они были исполнены жизнелюбия. Я спросил разрешения опубликовать их на сайте Би-би-си. Он согласился. Миллионы людей увидели эти работы, и многие благодарили художника за то, что он подарил им радость и надежду в такое тревожное время. В числе работ было изображение нарциссов, которое Хокни назвал «Помните, что они не могут отменить весну», показав, сколь ничтожен глобальный локдаун перед лицом торжествующего безразличия природы. Такой своеобразный, оптимистичный взгляд на мир характерен для Хокни. На переднем плане — желтоголовые нарциссы размером с дерево, за ними вдалеке — лиловые холмы. Цветы как будто пританцовывают у вас перед глазами: подобно кордебалету в парижском ночном клубе 1920-х годов, они взмахивают руками и ногами под мелодию весны. Там, где мы с вами увидим просто милые весенние цветы, художник наблюдает природу во всей красе: с неукротимой жаждой жизни, сверкающую яркими красками. Хокни смотрит по-настоящему, он не бросает беглый взгляд, а пристально всматривается; и его усилия окупаются сторицей — той невероятной красотой, которая ему открывается. Этого достаточно, чтобы убедиться: можно получить очень многое, если прислушаться к совету художника и как следует всмотреться в окружающий мир.
Джон Констебл: видеть облака

Облачный этюд (1822), Джон Констебл
Лодки плавают по рекам,
Корабли — в морской дали,
А по небу проплывают
Облака, как корабли[2].
Облака и тучи подобны риелторам: у них тоже подмоченная репутация. Тучи часто упоминают, говоря о трудных ситуациях. Тучи надвигаются — значит, дела идут неважно, а уж если они над вами сгустились, вам несдобровать. Если сердишься, то рискуешь стать мрачнее тучи. Не можешь стройно мыслить? Наверняка витаешь в облаках. Потеряв все свои цифровые данные, мы тоже браним облако. Если и есть что-то приятное в облаках и тучах, так это их золотистая кромка, но и она — работа солнца. Солнце — молодец, облака и тучи — досадная помеха.
Нам внушили плохое отношение к облакам и тучам. В ежедневных прогнозах погоды они выступают в роли злодеев. Солнечные дни всегда «прекрасные», пасмурные — «тоскливые». И это прискорбно для тех, кто, как и я, живет в Великобритании. Большую часть года мы проводим в серой хмари, и только в августе выдается короткая передышка (но в эти пару недель солнце палит так, что невозможно выйти на улицу).
Что ж, такова жизнь, думал я. Но однажды, в пасмурный день, ища, где бы укрыться от непогоды, я оказался в оксфордском музее Эшмола и набрел на рисунок английского художника-романтика Джона Констебла (1776‒1837). Это был пейзаж среднего размера (48 × 59 сантиметров) на бумаге, датированный 1822 годом. Никогда прежде я не видел подобных изображений природы. На рисунке не было ни деревьев, ни рек, ни полей, ни холмов. Не было вообще никакой земли. И моря тоже не было. Только небо. Небо над Британией. Пасмурное небо! Небо, затянутое теми самыми бесформенными клочьями, состоящими из воды и кристалликов льда. Небо, на которое люди смотрели миллионы раз, но которое никто прежде не мог постичь столь же глубоко и изобразить столь же точно, как сын зажиточного мельника Джон Констебл.
Облака Констебла не мрачные и не гнетущие: они прекрасны, чувственны и выразительны. Клубящиеся облака вышли счастливыми и беззаботными, как хиппи на музыкальном фестивале. Представьте, что вы очутились за одним столом с человеком, которого всегда считали ужасным занудой, и вдруг обнаружили, что ни с кем так весело не проводили время. Так и меня изумил этот рисунок: странно смотреть на нечто столь знакомое и вместе с тем понимать, что видишь это впервые. С тех пор я смотрю на мир иначе. Благодаря облакам Констебла я изменил свое отношение к пасмурным дням: то, что казалось тоскливым, стало вызывать восхищение. Теперь я смотрю на затянутое облаками небо не с унынием, а с любопытством — чтобы увидеть постоянно меняющуюся выставку «небесных скульптур».
Констебл писал облака всех форм и размеров — от мягких барханов, пронизанных солнцем, до причудливых замесей белого и черного, серого и голубого, даже розового и коричневого. Зачастую эти небесные пейзажи выглядят так, будто их столетием позже написал в своей нью-йоркской студии какой-нибудь абстрактный экспрессионист. Но, в отличие от Виллема де Кунинга или Джексона Поллока, Констебл не писал абстракции и не пытался выразить подавленные эмоции или скрытый смысл. Он писал то, что видел. Как реалист, эмпирик, он был верен природе. Свои взгляды он ясно изложил в лекции, прочитанной в Королевском институте в 1836 году:
Живопись — это наука, и ею следует заниматься для изучения законов природы. Почему бы тогда не рассматривать пейзаж как часть натурфилософии, а картину — как эксперимент?
Констебл хотел пробудить наш разум, заставить нас увидеть то, что всегда было на виду, но примелькалось. Небом пренебрегали не только обыватели, но и художники. По мнению Констебла, они дурачили публику фальшивыми стереотипными вариациями на классические темы, не имеющими никакого отношения к действительности. Говоря о работах своих предшественников и современников, он не стеснялся в выражениях:
И сколь бы ни был возвышен их ум, и как бы ни стремились они к совершенству, воплощенному в работах старых мастеров, самобытность по-прежнему должна проистекать из природы, и, если художник не будет в процессе творчества обращаться к природе, он скоро сформирует ту же манеру и окажется в том же плачевном положении, что и французский художник <…>, который давно перестал смотреть на природу, потому что она его только раздражала. Вот уже два года я гоняюсь за картинами в поисках истины из вторых рук.
Сам Констебл решил покинуть священные стены мастерской и отбросить условности академизма, согласно которым для живописи годились лишь исторические, мифологические и религиозные сюжеты. Он вышел с масляными красками на свежий воздух, чтобы запечатлеть открывающиеся виды. Столь радикальный по тем временам шаг стал возможен благодаря переносному этюднику — ящику, в котором помещались кисти, стеклянные пузырьки с пигментами и растворителями и заранее смешанные краски в свиных мочевых пузырях. С этюдником Констебл мог располагаться и писать на природе, en plein air; изобретение этой техники часто приписывают Моне и его друзьям-импрессионистам, хотя они начали работать в ней на полстолетия позже. Французские революционеры от живописи многим были обязаны Констеблу. Они разделили его приверженность непосредственному и тщательному наблюдению за природой и продолжили его скрупулезный труд по документированию наблюдений — от мельчайших узоров на листьях до преломления света в разных атмосферных условиях.
«Облачный этюд» (Study of Clouds) производит столь сильное впечатление благодаря своей достоверности. Мы сразу понимаем, что на нем изображено: это красота явления, с которым мы сталкиваемся каждый день, но по большей части легкомысленно игнорируем. Констебл, художник выдающегося таланта, показал нам то, что мы упускали, или хуже того — чем пренебрегали.
Констебл считал, что облака воодушевляют и опьяняют куда сильнее, чем чистое голубое небо, но мало кто разделял его мнение. В начале 1820-х годов епископ Солсбери Джон Фишер, друг художника и почитатель его таланта, заказал ему пейзаж с видом своего кафедрального собора. Констебл выполнил заказ и в положенный срок с гордостью представил прекрасное полотно с величественным готическим зданием в обрамлении деревьев. Великолепный шпиль собора, словно по божественному промыслу, впивался в выразительный сумрачный небесный свод. Констебл был зачарован результатом. Но вот епископ оказался не в восторге. Едва взглянув на картину, он отверг ее и попросил Констебла написать другую, на сей раз с чистым, безоблачным небом!
Конечно, это неприятно, но так случается, если вы художник-новатор: людям требуется время, чтобы проникнуться вашей идеей. Взгляды Констебла на живопись отличались от общепринятых. Даже его знаменитый соперник, дерзкий Уильям Тёрнер, не поспевал за Джоном К. из Ист-Бергхолта. Тёрнер шел по стопам своего любимого французского барочного художника Клода Лоррена (которого, впрочем, высоко ценил и Констебл): населял пейзажи мифологическими персонажами и древними руинами, а вместо того, чтобы обращаться к реальности, использовал проверенные композиционные приемы. С этой точки зрения его масштабные полотна относились к историческому жанру, который имел более высокий статус, чем простая пейзажная живопись. Констеблу претила такая иерархия, и об академических живописцах он отзывался так: «Они предпочитают мохнатый зад сатира истинному чувству природы». И в пику Академии увеличивал формат своих картин. Если исторические полотна внушали почтение одним своим размером, почему бы не превратить пейзаж в столь же эпическое зрелище? Вместо того чтобы подчиниться правилам и писать виды сельской жизни размером с чайный поднос, Констебл начал работу над тем, что сам назвал «шестифутовиками» — картинами размером 6 × 6 футов (1,8 × 1,8 метра), настолько большими и реалистичными, что зритель не скользил по ним взглядом, но погружался вглубь.
«Телега для сена» (1821) — самая известная шестифутовая картина Констебла; он написал ее примерно в то же время, что и «Облачный этюд» из музея Эшмола. Ее любят за очарование, неподвластное времени; за то, как правдиво, без прикрас Констебл запечатлел природу Саффолка. Он с истинной виртуозностью выписал листья деревьев и свет, играющий на воде. Зрители отмечают, как эффектно играет красный цвет седельных сумок на лошадях, обращают внимание на собаку на берегу реки. Восхищаются композицией и удивляются тому, что этот вид с тех пор практически не изменился. Но мало кто отдает должное самому совершенному элементу картины — облакам.
Констебл показывает нам, как ослепительно сияют и клубятся кучево-дождевые облака, как невесомо парят перистые, как низко стелются слоистые. Ему удалось передать ощущение текучести облаков, воссоздав эффект драматичного освещения, которое создают рассеянные солнечные лучи. Согласитесь, это гораздо интереснее безоблачного неба, на котором одинокое солнце монотонно светит, перекатываясь из восточной части небосвода в западную. Но вот ветер нагоняет облака — и солнце с воодушевлением исполняет роль главного церемониймейстера всей земной жизни. Есть что-то театральное в неутомимом движении света и тени, скользящих друг за другом по земле, пока облака демонстрируют нам череду меняющихся форм, а солнце выделяет их очертания — медленно, как камера в фильмах Тарковского.
«Телега для сена» — больше чем картина о сельской жизни; по сути, это исследование света.
Пейзажист, который не делает небо существенной частью композиции, пренебрегает одним из важнейших средств. [Небеса] должны составлять активную часть композиции, и я всегда буду следовать этому принципу. Сложно назвать тип пейзажа, в котором небо не было бы «лейтмотивом», «камертоном» и главным «выразителем настроения». Небо — «источник света» в природе и правит всем.
Интерес Констебла к погодным явлениям и к тому, как облака влияют на наше восприятие, выходил далеко за пределы живописных штудий. Ему выпало жить в то время, когда рациональные научные истины пошатнули давние религиозные устои. То была эпоха Просвещения: человеческое знание начало вытеснять божественное провидение, ученые выступали с лекциями по всей стране, наука стала новой религией. В Лондоне было основано Метеорологическое общество, увидели свет первые труды, посвященные классификации облаков. Констебл жадно читал эти книги и делал на полях пометки со своими комментариями и поправками к тексту, когда замечал фактические ошибки.
«Облачный этюд» показывает, насколько серьезно художник относился к изучению вопросов метеорологии. Друзьям он рассказывал, что любил «небесную охоту» — сидеть на улице и зарисовывать постоянно меняющиеся «облачные пейзажи», которые никогда не повторяются. На каждом таком наброске он указывал дату, точное время и погодные условия, при которых тот был выполнен. Главная цель Констебла заключалась в исследованиях, а не в создании произведений искусства. Вероятно, он и не предполагал, что его наброски окажутся в музеях и галереях — ведь это были подготовительные этюды, исходный материал для будущих пейзажных полотен, таких как «Телега для сена».
Большинство своих этюдов с облаками Констебл нарисовал в Хэмпстеде. Его обожаемая жена Мария заболела (то были ранние симптомы туберкулеза, от которого она умрет в 1828 году), и доктора сочли, что ей пойдет на пользу жизнь на возвышенности. В 1819 году Констеблы оставили свое саффолкское гнездышко и переехали в зеленую деревушку к северу от Лондона. Их дом, коттедж «Альбион», стоял на краю вересковой пустоши[3], и Джон мог наблюдать чудесные виды, простирающиеся до самого горизонта. Именно здесь он расширил свои представления о свете и записал самую глубокую мысль о человеческом восприятии: «Мы ничего не видим по-настоящему до тех пор, пока не поймем это».
Констебл был сельским жителем и романтиком. Его восхищали эфемерные облака и призрачные радуги. Стоит отметить, что бывали случаи, когда страсть к поэтичным образам заставляла его допускать некоторую художественную вольность. В 1831 году он создал очередной восхитительный «шестифутовик» — на сей раз для старого друга из Солсбери. Констебл вновь изобразил собор со 123-метровым шпилем, который, по словам самого художника, «пронзает небо, подобно игле». «Вид на собор в Солсбери с луга» (1831) — великолепный пейзаж, который Констебл считал одним из лучших своих творений. На картине над собором перекинулась неяркая радуга. Это удачный композиционный прием, однако, что необычно для художника с научным складом ума, Констебл изобразил здесь нечто невозможное с точки зрения метеорологии. Согласно законам физики, для того, чтобы художник увидел радугу, солнце должно быть позади него, но, судя по освещению фасада собора, солнце находится на западе. Вдобавок, по словам тех, кто разбирается в таких вещах лучше меня, радуга расположена слишком низко для этого времени года.
Может быть, художник, которого уже вынуждали переписать вид Солсберийского собора десятью годами ранее, просто взбунтовался? Как бы то ни было, радуга здесь выступает и символом утихшей бури (возможно, вызванной смертью жены), и напоминанием о крепкой дружбе: ведь она упирается в дом давнего соратника художника, епископа Джона Фишера. Затянутое тучами небо производит неизгладимое впечатление: это бурлящая масса эмоций и истовости, громовых раскатов и затухающего рокота. Та самая погода, которую синоптики называют пасмурной и рекомендуют пережидать дома. Констебл отвергает такую ограниченность мышления и демонстрирует невероятную красоту и театральность облачного неба. И нам стоило бы не отворачиваться, а любоваться и восхищаться.
3. Ныне Хэмпстед-Хит, лесопарковая зона в границах Лондона. — Прим. ред.
2. Пер. О. Ашаниной.
Фрида Кало: видеть сквозь боль

Две Фриды (1939), Фрида Кало
Фрида Кало выжила в ужасной автомобильной аварии, но боль преследовала ее на протяжении всей жизни. Боль научила ее видеть и помогла рассказать о своих чувствах в живописи, где нашлось место грусти и задору, печали и радости.
История Фриды Кало хорошо известна. В детстве она переболела полиомиелитом. Была одной из немногих девочек, принятых в элитную школу, где прежде учились только мальчики. В восемнадцать лет пережила автомобильную аварию и попрощалась с мечтой стать врачом. У нее была монобровь. В юном возрасте вышла замуж за Диего Риверу, знаменитого мексиканского художника и революционера, который был на двадцать лет старше. Он изменял. Она тоже, и одним из ее увлечений был Лев Троцкий. Вступила в Мексиканскую коммунистическую партию. Заигрывала с сюрреализмом. Умерла в сорок семь. На ее похороны во Дворце изящных искусств пришли 500 человек.
Жизнь Фриды Кало была такой же яркой, как ее наряды. О ней снимали кино, писали книги, ей посвятили множество выставок. Но не биография сделала ее знаменитой. В конце концов, яркую жизнь прожили многие из тех, чьи имена давно забыты. Культовой персоной она стала благодаря своему творчеству, которое объединяет многие поколения людей из разных уголков мира. Поклонники из Северной и Южной Америки, Европы и Азии выстраиваются в очереди, чтобы посмотреть на ее картины, наполненные аллегориями и политическими высказываниями. Ее работы находят отклик у каждого, хотя их нельзя назвать технически совершенными или ошеломительно красивыми. Вернее будет сравнить их с поэзией, воплощенной в живописи, где для душевных излияний вместо пера используется кисть.
Фрида Кало обладала необычайным видением, и она об этом знала. Когда ей было девятнадцать, она писала своему возлюбленному Алехандро Гомесу Ариасу об этой сверхъес-тественной способности — видеть то, чего не видят другие: «Теперь я знаю все, мне не нужно читать или записывать. <…> Я знаю, что по ту сторону нет ничего; если бы там что-то было, я бы увидела». Она не хвасталась — скорее сокрушалась. Всего пара месяцев прошла после ужасной аварии, превратившей Фриду из перспективного медика в начинающую художницу. Когда она возвращалась вместе с Алехандро в свой родной городок Койоакан неподалеку от Мехико, их автобус столкнулся с трамваем. Фриду пронзил металлический поручень. Она выжила — с переломанным позвоночником, раздробленным тазом и серьезными травмами внутренних органов. С того момента ее жизнь наполнилась хроническими болями и операциями. «Теперь я живу на планете боли, — писала она в том же письме, — прозрачной как лед, ничего не спрятать».
Если и было что-то хорошее в такой жизненной трагедии, так это то, что теперь у Фриды появилось особое видение, а также много времени для наблюдений и размышлений. На фотографиях, сделанных ее любовниками, и на многочисленных автопортретах, которые она писала на протяжении всей жизни, Фрида смотрит. Бесстрастное лицо, красные губы, темные волосы, едва заметные усики — и критический взгляд. Ум ее работал постоянно, и даже алкоголь не мешал ей следить за миром так же пристально, как тигр следит за ланью. Ее облик непроницаем, поза спокойна; мы не знаем, о чем она задумалась, но точно знаем, что думает она постоянно.
Ее картины рассказывают о глубоко личных переживаниях, но было бы чрезмерным упрощением считать, что они посвящены исключительно физической боли. Такая прямота не в духе Фриды Кало. В основе ее творчества лежали символизм, метафора и сюжет. Страдания из-за перенесенных травм были центральной, но отнюдь не единственной темой — скорее, они открывали путь к разговору на более широкие темы. Ее взгляд не был направлен на боль, но боль помогала ей видеть.
Чтобы понять, как она видела, полезно попытаться представить, как она мыслила. Фрида Кало превращала личное в политическое задолго до 1960-х, когда феминистки подняли этот девиз на свои знамена. Она превратила себя в символ Мексики — страны, которую она горячо любила, и мексиканцев — нации, которая искала свою идентичность, освободившись от колониального правления и оправившись после десятилетия революционных потрясений (1910‒1920). Она всей душой была со своим народом и разделяла идеи мексиканской революции и ее лидеров Эмилиано Сапаты и Панчо Вильи. На автопортретах, изображая себя раненой, но не сломленной, она олицетворяла дух свободной Мексики — пострадавшей, но не сдавшейся. Когда рисовала кровь, текущую по ее шее, проколотой терновым ожерельем, то думала о крови революционеров, пролитой в борьбе за спасение души всего народа. Создавая картину, разделенную на две половины, думала о раздираемой противоречиями стране. Ее слова, картины и наряды воспевали независимость мексиканского народа и его культуру. Вот что было главной темой. А боль стала тем объективом, через который она все это видела.
Постоянный дискомфорт раскрывал в ней особенно тонкую чувствительность к тем ежедневным мукам и радостям, которые испытывала ее родная страна. Нельзя написать боль, не почувствовав боли. Фрида Кало без боли — это The Rolling Stones без Мика Джаггера или «Маргарита» без текилы. Раны и чудеса, которые она изображала на своих картинах, рас
...