автордың кітабын онлайн тегін оқу В гостях у турок. Под южными небесами

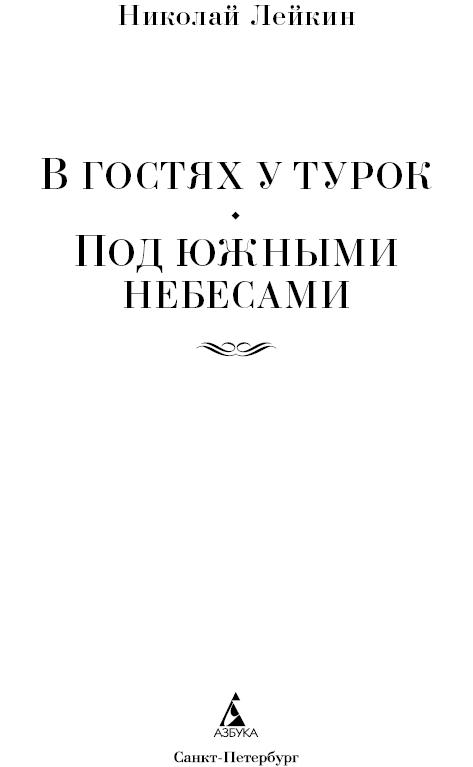
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Ильи Кучмы
Подготовка текста и комментарии Аллы Степановой
Лейкин Н.
В гостях у турок. Под южными небесами / Николай Лейкин. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2025. — (Русская литература. Большие книги).
ISBN 978-5-389-27851-6
16+
Николай Александрович Лейкин — в свое время известный петербургский писатель-юморист, журналист, издатель. Одно из самых известных произведений Лейкина — «Наши за границей», веселое повествование о путешествиях купца Николая Ивановича Иванова и его жены Глафиры Семеновны, о забавных приключениях и всевозможных недоразумениях, которые случаются с героями в чужих краях. Книга настолько понравилась читателям, что Лейкин написал несколько продолжений. В настоящем томе печатаются третья и четвертая (последняя) части цикла.
Супруги, уже бывалые путешественники, отправляются сначала в Турцию, а по пути в Стамбул посещают «славянские земли» и проводят несколько дней в Белграде и Софии. Затем купеческая чета решает съездить на французский курорт, в Биарриц, а оттуда — в Мадрид, столицу Испании. Их ждут новые знакомства, встречи, приятные развлечения — и настоящие испытания. Им предстоит даже попасть в газетную хронику! Лейкин с юмором изображает соотечественников, знакомящихся с чужой историей и культурой, совершающих для себя множество открытий, но неизменно тоскующих за границей по русскому чаепитию с самоваром.
© А. С. Степанова, комментарии, 2024
© Оформление. «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024
Издательство Азбука®

I
Скорый поезд только что вышел из-под обширного, крытого стеклом железнодорожного двора в Будапеште и понесся на юг, к сербской границе.
В вагоне первого класса, в отдельном купе, изрядно уже засоренном спичками, окурками папирос и апельсинными корками, сидели не старый еще, довольно полный мужчина с русой подстриженной бородой и молодая женщина, недурная собой, с красивым еще бюстом, но тоже уж начинающая рыхлеть и раздаваться в ширину. Мужчина одет в серую пиджачную парочку с дорожной сумкой через плечо и в черной барашковой скуфейке [1] на голове, дама в шерстяном, верблюжьего цвета платье с необычайными буфами на рукавах и в фетровой шляпке с стоячими крылышками каких-то пичужек. Они сидели одни в купе, сидели друг против друга на диванах и оба имели на диванах по пуховой подушке в белых наволочках. По этим подушкам каждый, хоть раз побывавший за границей, сейчас бы сказал, что это русские, ибо за границей никто, кроме русских, в путешествие с пуховыми подушками не ездит. Что мужчина и дама русские, можно было догадаться и по барашковой скуфейке на голове у мужчины, и, наконец, по металлическому эмалированному чайнику, стоявшему на приподнятом столике у вагонного окна. Из-под крышки и из носика чайника выходили легонькие струйки пара. В Будапеште в железнодорожном буфете они только что заварили в чайнике себе чаю.
И в самом деле, мужчина и дама были русские. Это были наши старые знакомцы, супруги Николай Иванович и Глафира Семеновна Ивановы, уже третий раз выехавшие за границу и на этот раз направляющиеся в Константинополь, дав себе слово посетить попутно и сербский Белград, и болгарскую Софию.
Сначала супруги Ивановы молчали. Николай Иванович ковырял у себя в зубах перышком и смотрел в окно на расстилающиеся перед ним, лишенные уже снега, тщательно вспаханные и разбороненные, гладкие, как бильярд, поля, с начинающими уже зеленеть полосами озимого посева. Глафира же Семеновна вынула из саквояжа маленькую серебряную коробочку, открыла ее, взяла оттуда пудровку и пудрила свое раскрасневшееся лицо, смотрясь в зеркальце, вделанное в крышечке, и наконец произнесла:
— И зачем только ты меня этим венгерским вином поил! Лицо так и пышет с него.
— Нельзя же, матушка, быть в Венгрии и не выпить венгерского вина! — отвечал Николай Иванович. — А то дома спросит кто-нибудь: пили ли венгерское, когда через цыганское царство проезжали? И что мы ответим? Я нарочно даже паприки этой самой поел с клобсом [2]. Клобс, клобс... Вот у нас клобс — просто бифштексик с луковым соусом и сметаной, а здесь клобс — зраза, рубленая зраза.
— Во-первых, у нас бифштексики с луком и картофельным соусом называются не просто клобс, а шнельклобс, — возразила Глафира Семеновна. — А во-вторых...
— Да будто это не все равно!
— Нет, не все равно... Шнель по-немецки значит «скоро, на скору руку»... А если клобс без шнель...
— Ну уж ты любишь спорить! — махнул рукой Николай Иванович и сейчас же переменил разговор. — А все-таки в этом венгерском царстве хорошо кормят. Смотри-ка, как хорошо нас кормили на станции Будапешт! И какой шикарный ресторан. Молодцы цыгане.
— Да будто тут все цыгане? — усумнилась Глафира Семеновна.
— Венгерцы — это цыгане. Ты ведь слышала, как они разговаривают: кухар... гахач... кр... гр... тр... горлом. Точь-в-точь как наши халдеи по разным загородным вертепам. И глазищи у них с блюдечко, и лица черномазые.
— Врешь, врешь! По станциям мы много и белокурых видели.
— Так ведь и у нас в цыганских хорах есть нечерномазые цыганки. Вдруг какая-нибудь родится не в мать, не в отца, а в проезжего молодца, так что с ней поделаешь! И наконец, мы только еще что въехали в цыганское царство. Погоди, чем дальше, тем все черномазее будут, — авторитетно сказал Николай Иванович, пошевелил губами и прибавил: — Однако, рот так и жжет с этой паприки.
Глафира Семеновна покачала головой.
— И охота тебе есть всякую дрянь! — сказала она.
— Какая же это дрянь! Растение, овощ... Не сидеть же повсюду, как ты, только на бульоне да на бифштексе. Я поехал путешествовать, образование себе сделать, чтобы не быть диким человеком и все знать. Нарочно в незнакомые государства и едем, чтобы со всеми ихними статьями ознакомиться. Теперь мы в Венгрии, и что есть венгерского, то и подавай.
— Однако, фишзупе потребовал в буфете, а сам не ел.
— А все-таки попробовал. Попробовал и знаю, что ихний фишзупе — дрянь. Фишзупе — рыбный суп. Я и думал, что это что-нибудь вроде нашей ухи или селянки, потому у венгерцев большая река Дунай под боком, так думал, что и рыбы всякой много, ан выходит совсем напротив. По-моему, этот суп из сельдяных голов, а то так из рыбьих голов и хвостов. У меня в тарелке какие-то жабры плавали. Солоно, перечно... кисло... — вспоминал Николай Иванович, поморщился и, достав из угла на диване стакан, стал наливать себе в него из чайника чаю.
— Бр... — издала звук губами Глафира Семеновна, судорожно повела плечами и прибавила: — Погоди... накормят тебя еще каким-нибудь крокодилом, ежели будешь спрашивать разные незнакомые блюда.
— Ну и что ж?.. Очень рад буду. По крайности, в Петербурге всем буду рассказывать, что крокодила ел. И все будут знать, что я такой образованный человек без предрассудков, что даже до крокодила в еде дошел.
— Фи! Замолчи! Замолчи, пожалуйста! — замахала руками Глафира Семеновна. — Не могу я даже слушать... Претит...
— Черепаху же в Марсели ел, когда третьего года из Парижа в Ниццу ездили. Лягушку под белым соусом в Сан-Ремо ел. При тебе же ел.
— Брось, тебе говорят!
— Ракушку в Венеции проглотил из розовой раковинки, — хвастался Николай Иванович.
— Если ты не замолчишь, я уйду в уборную и там буду сидеть! Не могу я слышать такие мерзости.
Николай Иванович умолк и прихлебывал чай из стакана. Глафира Семеновна продолжала:
— И наконец, если ты ел такую гадость, то потому что был всякий раз пьян, а будь ты трезв, ни за что бы тебя на это не хватило.
— В Венеции-то я был пьян? — воскликнул Николай Иванович и поперхнулся чаем. — В Сан-Ремо — да... Когда я в Сан-Ремо лягушку ел — я был пьян. А в Венеции...
Глафира Семеновна вскочила с дивана.
— Николай Иваныч, я ухожу в уборную! Если ты еще раз упомянешь про эту гадость, я ухожу. Ты очень хорошо знаешь, что я про нее слышать не могу!
— Ну, молчу, молчу. Садись, — сказал Николай Иванович, поставил пустой стакан на столик и стал закуривать папироску.
— Брр... — еще раз содрогнулась плечами Глафира Семеновна, села, взяла апельсин и стала очищать его от кожи. — Хоть апельсином заесть, что ли, — прибавила она и продолжала: — И я тебе больше скажу. Ты вот упрекаешь меня, что я за границей в ресторанах ничего не ем, кроме бульона и бифштекса... А когда мы к туркам приедем, то я и бифштекса с бульоном есть не буду.
— То есть как это? Отчего? — удивился Николай Иванович.
— Очень просто. Оттого, что турки магометане, лошадей едят и могут мне бифштекс из лошадиного мяса изжарить, да и бульон у них может быть из лошадятины.
— Фю-фю! Вот тебе и здравствуй! Так чем же ты будешь в турецкой земле питаться? Ведь уж у турок ветчины не найдешь. Она им прямо по их вере запрещена.
— Вегетарианкой сделаюсь. Буду есть макароны, овощи — горошек, бобы, картофель. Хлебом с чаем буду питаться.
— Да что ты, матушка! — проговорил Николай Иванович. — Ведь мы в Константинополе остановимся в какой-нибудь европейской гостинице. Петр Петрович был в Константинополе и рассказывал, что там есть отличные гостиницы, которые французы держат.
— Гостиницы-то, может быть, и держат французы, да повара-то турки... Нет-нет, я уж это так решила.
— Да неужели ты лошадиного мяса от бычьего не отличишь!
— Однако ведь его все-таки надо в рот взять, пожевать... Тьфу! Нет-нет, это уж я так решила, и ты меня от этого не отговоришь, — твердо сказала Глафира Семеновна.
— Ну путешественница! Да изволь, я за тебя буду пробовать мясо, — предложил Николай Иванович.
— Ты? Да ты нарочно постараешься меня накормить лошадятиной. Я тебя знаю. Ты озорник.
— Вот невероятная-то женщина! Чем же это я доказал, что я озорник?
— Молчи, пожалуйста. Я тебя знаю вдоль и поперек.
Николай Иванович развел руками и обидчиво поклонился жене.
— Изучены насквозь. Помню я, как вы в Неаполе радовались, когда я за табльдотом съела по ошибке муль — этих проклятых улиток, приняв их за сморчки, — кивнула ему жена. — Вы должны помнить, что со мной тогда было. Однако сниму-ка я с себя корсет да прилягу, — прибавила она. — Кондуктору дан гульден в Вене, чтобы никого к нам не пускал в купе, стало быть, нечего мне на вытяжке-то быть.
— Да конечно же, сними этот свой хомут и все подпруги, — поддакнул Николай Иванович. — Не перед кем здесь кокетничать.
— Да ведь все думается, что не ворвался бы кто-нибудь.
— Нет-нет. Уж ежели взял гульден, то никого не впустит. И наконец, до сих же пор он держал свое слово и никого не впустил к нам.
Глафира Семеновна расстегнула лиф и сняла с себя корсет, положив его под подушку. Но только что она улеглась на диване, как дверь из коридора отворилась и показался в купе кондуктор со щипцами.
— Ich habe die Ehre... — произнес он приветствие. — Ihre Fahrkarten, mein Herr... [3]
Николай Иванович взглянул на него и проговорил:
— Глаша! Да ведь кондуктор-то новый! Не тот уж кондуктор.
— Нови, нови... — улыбнулся кондуктор, простригая билеты.
— Говорите по-русски? — радостно спросил его Николай Иванович.
— Мало, господине.
— Брат-славянин?
— Славяне, господине, — поклонился кондуктор и проговорил по-немецки: — Может быть русские господа хотят, чтобы они одни были в купе?
В пояснение своих слов он показал супругам свои два пальца.
— Да-да... — кивнул ему Николай Иванович. — Их гебе... [4] Глаша! Придется и этому дать, а то он пассажиров в наше купе напустит. Тот кондуктор, подлец, в Будапеште остался.
— Конечно же дай... Нам ночь ночевать в вагоне, — послышалось от Глафиры Семеновны. — Но не давай сейчас, а потом, иначе и этот спрыгнет на какой-нибудь станции и придется третьему давать.
— Я дам гульден!.. Их гебе гульден, но потом... — сказал Николай Иванович.
— Нахер... Нахер... [5] — прибавила Глафира Семеновна.
Кондуктор, очевидно, не верил, бормотал что-то по-немецки, по-славянски, улыбался и держал руку пригоршней.
— Не верит. Ах, брат-славянин! За кого же ты нас считаешь! А мы вас еще освобождали! [6] Ну ладно, ладно. Вот тебе полгульдена. А остальные потом, в Белграде... Мы в Белград теперь едем, — говорил ему Николай Иванович, достал из кошелька мелочь и подал ему.
Кондуктор подбросил на ладони мелочь и развел руками.
— Мало, господине... Молим една гульден, — произнес он.
— Да дай ты ему гульден! Пусть провалится. Должны же мы на ночь покой себе иметь! — крикнула Глафира Семеновна мужу.
Николай Иванович сгреб с ладони кондуктора мелочь, додал ему гульден и сказал:
— На, подавись, братушка...
Кондуктор поклонился и, запирая дверь в купе, проговорил:
— С Богом, господине.
II
Стучит, гремит поезд, проносясь по венгерским степям. Изредка мелькают деревеньки, напоминающие наши малороссийские, с мазанками из глины, окрашенными в белый цвет, но без соломенных крыш, а непременно с черепичной крышей. Еще реже попадаются усадьбы — непременно с маленьким жилым домом и громадными, многочисленными хозяйственными постройками. Глафира Семеновна лежит на диване и силится заснуть. Николай Иванович, вооружившись книжкой «Переводчик с русского языка на турецкий», изучает турецкий язык. Он бормочет:
— Здравствуйте — селям алейкюм, благодарю вас — шюкюр, это дорого — нахалы дыр, что стоит — не дэер, принеси — гетир, прощайте — Аллах ысмарладык... Язык сломать можно. Где тут такие слова запомнить! — говорит он, вскидывает глаза в потолок и твердит: — Аллах ысмарладык... «Аллаха»-то запомнишь, а уж «ысмарладых» этот — никогда. Ысмарладых, ысмарладых... Ну дальше... — заглядывает он в книжку. — «Поставь самовар». Глафира Семеновна! — восклицает он. — В Турции-то про самовар знают, значит нам уже с чаем мучиться не придется.
Глафира Семеновна приподнялась на локте и поспешно спросила:
— А как самовар по-турецки?
— Поставь самовар — «сую кайнат». Стало быть, самовар — «кайнат».
— Это действительно надо запомнить хорошенько. Кайнат, кайнат, кайнат... — три раза произнесла Глафира Семеновна и опять прилегла на подушку.
— Но есть слова и легкие, — продолжал Николай Иванович, глядя в книгу. — Вот, например, табак — «тютюн». Тютюном и у нас называют. Багаж — «уруба», деньги — «пара», деревня — «кей», гостиница — «хан», лошадь — «ат», извозчик — «арабаджи»... Вот эти слова самые нужные, и их надо как можно скорее выучить. Давай петь, — предложил он жене.
— Как петь? — удивилась та.
— Да так... Говорят, при пении всего скорее слова запоминаются.
— Да ты никак с ума сошел! В поезде петь!
— Но ведь мы потихоньку... Колеса стучат, купе заперто — никто и не услышит.
— Нет, уж петь я не буду и тебе не позволю. Я спать хочу...
— Ну как знаешь. А вот «железная дорога» слово трудное по-турецки: «демирийолу».
— Я не понимаю только, чего ты спозаранку турецким словам начал учиться! Ведь мы сначала в Сербию едем, в Белграде остановимся, — проговорила Глафира Семеновна.
— А где ж у меня книжка с сербскими словами? У меня нет такой книжки. Да, наконец, братья-славяне нас и так поймут. Ты видела давеча кондуктора из славян — в лучшем виде понял. Ведь у них все слова наши, а только на какой-то особый манер. Да вот тебе... — указал он на регулятор отопления в вагоне. — Видишь надписи: «тепло... студено...» А вон вверху около газового рожка, чтобы свет убавлять и прибавлять: «свет... тма...» Неужели это непонятно? Братья-славяне поймут.
Поезд замедлил ход и остановился на станции.
— Посмотри-ка, какая это станция. Как называется? — спросила Глафира Семеновна.
Николай Иванович стал читать и запнулся:
— Сцабацс... По-венгерски это, что ли... Решительно ничего не разберешь, — отвечал он.
— Да ведь все-таки латинскими буквами-то написано.
— Латинскими, но выговорить невозможно... Сзазба...
Глафира Семеновна поднялась и сама начала читать. Надпись гласила: «Szabadszallas» [7].
— Сзабадсзалась, что ли! — прочла она и прибавила: — Ну, язык!
— Я тебе говорю, что хуже турецкого. Цыгане... И наверное, как наши цыгане, конокрадством, ворожбой и лошадиным барышничеством занимаются, а также и насчет того, где что плохо лежит. Ты посмотри, в каких овчинных накидках стоят! А рожи-то, рожи какие! Совсем бандиты, — указал Николай Иванович на венгерских крестьян в их живописных костюмах. — Вон и бабы тут... Подол у платья чуть не до колен и сапоги мужские с высокими голенищами из несмазанной желтой кожи...
Глафира Семеновна смотрела в окно и говорила.
— Действительно страшные... Знаешь, с одной стороны, хорошо, что мы одни в купе сидим, а с другой...
— Ты уж боишься? Ну вот... Не бойся... У меня кинжал в дорожной сумке.
— Какой у тебя кинжал! Игрушечный.
— То есть как это игрушечный? Стальной. Ты не смотри, что он мал, а если им направо и налево...
— Поди ты! Сам первый и струсишь. Да про день я ничего не говорю... Теперь день, а ведь нам придется ночь в вагоне ночевать...
— И ночью не беспокойся. Ты спи спокойно, а я буду не спать, сидеть и караулить.
— Это ты-то? Да ты первый заснешь. Сидя заснешь.
— Не засну, я тебе говорю. Вечером заварю я себе на станции крепкого чаю... Напьюсь — и чай в лучшем виде сон отгонит. Наконец, мы в вагоне не одни. В следующем купе какие-то немцы сидят. Их трое... Неужели в случае чего?..
— Да немцы ли? Может быть, такие же глазастые венгерцы?
— Немцы, немцы. Ты ведь слышала, что давеча по-немецки разговаривали.
— Нет, уж лучше днем выспаться, а ночью сидеть и не спать, — сказала Глафира Семеновна и стала укладываться на диван.
А поезд давно уже вышел со станции с трудно выговариваемым названием и мчался по венгерским полям. Поля направо, поля налево, изредка деревушка с церковью при одиночном зеленом куполе, изредка фруктовый сад с стволами яблонь, обмазанных известкой с глиной и белеющимися на солнце.
Опять остановка. Николай Иванович заглянул в окно на станционный фасад и, увидав на фасаде надпись, сказал:
— Ну, Глаша, такое название станции, что труднее давешнего. «Фюлиопс...» — начал он читать и запнулся. — Фюлиопсдзалалс.
— Вот видишь, куда ты меня завез, — сказала супруга. — Недаром же мне не хотелось ехать в Турцию.
— Нельзя, милая, нельзя... Нужно всю Европу объехать, и тогда будешь цивилизированный человек. Зато потом, когда вернемся домой, есть чем похвастать. И эти названия станций — все это нам на руку. Будем рассказывать, что по таким, мол, местностям проезжали, что и название не выговоришь. Стоит написано название станции, а настоящим манером выговорить его невозможно. Надо будет только записать.
И Николай Иванович, достав свою записную книжку, скопировал в нее находящуюся на стене станции надпись: «Fülöpszallas» [8].
На платформе у окна вагона стоял глазастый и черный, как жук, мальчик и протягивал к стеклу бумажные тарелочки с сосисками, густо посыпанными изрубленной белой паприкой.
— Глафира Семеновна! Не съесть ли нам горячих сосисок? — предложил жене Николай Иванович. — Вот горячие сосиски продают.
— Нет-нет. Ты ешь, а я ни за что... — отвечала супруга. — Я теперь вплоть до Белграда ни на какую и станцию не выйду, чтобы пить или есть. Ничего я не могу из цыганских рук есть. Почем ты знаешь, что́ в этих сосисках изрублено?
— Да чему же быть-то?
— Нет-нет.
— Но чем же ты будешь питаться?
— А у нас есть сыр из Вены, ветчина, булки, апельсины.
— А я съем сосисок...
— Ешь, ешь. Ты озорник известный.
Николай Иванович постучал мальчику в окно, опустил стекло и взял у него сосисок и булку, но только что дал ему две кроны и протянул руку за сдачей, как поезд тронулся. Мальчишка перестал отсчитывать сдачу, улыбнулся, ткнул себя рукой в грудь и крикнул:
— Тринкгельд, тринкгельд [9], мусью...
Николаю Ивановичу осталось только показать ему кулак.
— Каков цыганенок! Сдачи не отдал! — проговорил он, обращаясь к жене, и принялся есть сосиски.
III
Поезд мчится по-прежнему, останавливаясь на станциях с трудно выговариваемыми не для венгерца названиями: Ксенгед, Кис-Керес, Кис-Жалас. На станции Сцабатка [10] поезд стоял минут пятнадцать. Перед приходом на нее, кондуктор-славянин вошел в купе и предложил, не желают ли путешественники выйти в имеющийся на станции буфет.
— Добра рыба, господине, добро овечье мясо... — расхваливал он.
— Нет, спасибо. Ничем не заманишь, — отвечала Глафира Семеновна.
Здесь Николай Иванович ходил с чайником заваривать себе чай, выпил пива, принес в вагон какой-то мелкой копченой рыбы и коробку шоколаду, которую и предложил жене.
— Да ты в уме? — крикнула на него Глафира Семеновна. — Стану я есть венгерский шоколад! Наверное, он с паприкой.
— Венский, венский, душечка... Видишь, на коробке ярлык: «Wien».
Глафира Семеновна посмотрела на коробку, понюхала ее, открыла, взяла плитку шоколаду, опять понюхала и стала кушать.
— Как ты в Турции-то будешь есть что-нибудь? — покачал головой муж.
— Совсем ничего подозрительного есть не буду.
— Да ведь все может быть подозрительно.
— Ну уж это мое дело.
Со станции Сцабатка стали попадаться славянские названия станций: Тополия, Вербац.
На станции Вербац Николай Иванович сказал жене:
— Глаша! Теперь ты можешь ехать без опаски. Мы приехали в славянскую землю. Братья-славяне, а не венгерские цыгане... Давеча была станция Тополия, а теперь Вербац... Тополия от тополь, Вербац от вербы происходит. Стало быть, уж и еда и питье славянские.
— Нет-нет, не надуешь. Вон черномазые рожи стоят.
— Рожи тут ни при чем. Ведь и у нас, русских, могут такие рожи попасться, что с ребенком родимчик [11] сделается. Позволь, позволь... Да вот даже поп стоит и в такой же точно рясе, как у нас, — указал Николай Иванович.
— Где поп? — быстро спросила Глафира Семеновна, смотря в окно.
— Да вот... В черной рясе с широкими рукавами и в черной камилавке [12]...
— И в самом деле поп. Только он больше на французского адвоката смахивает.
— У французского адвоката должен быть белый язычок под бородой, на груди, да и камилавка не такая.
— Да и тут не такая, как у наших священников. Наверху края дна закруглены, и наконец — черная, а не фиолетовая. Нет, это должен быть венгерский адвокат.
— Священник, священник... Неужели ты не видала их на картинках в таких камилавках? Да вон у него и наперсный крест на груди. Смотри, смотри, провожает кого-то и целуется, как наши попы целуются — со щеки на щеку.
— Ну, если наперсный крест на груди, так твоя правда: поп.
— Поп, славянские названия станций, так чего ж тебе еще? Стало быть, мы из венгерской земли выехали. Да вон и белокурая девочка в ноздре ковыряет. Совсем славянка. Славянский тип.
— А не говорил ли ты давеча, что белокурая девочка может уродиться не в мать, не в отца, а в проезжего молодца? — напомнила мужу Глафира Семеновна.
Поезд в это время отходил от станции. Глафира Семеновна достала с веревочной полки корзинку с провизией, открыла ее и стала делать себе бутерброд с ветчиной.
— Своей-то еды поешь, в настоящем месте купленной, так куда лучше, — сказала она и принялась кушать.
Действительно, поезд уж мчался по полям так называемой Старой Сербии [13]. Через полчаса кондуктор заглянул в купе и объявил, что сейчас будет станция Нейзац.
— Нови-Сад... — прибавил он тут же и славянское название.
— Глаша! Слышишь, это уж совсем славянское название! — обратился Николай Иванович к жене. — Славянска земля? — спросил он кондуктора.
— Словенска, словенска, — кивнул тот, наклонился к Николаю Ивановичу и стал объяснять ему по-немецки, что когда-то это все принадлежало Сербии, а теперь принадлежит Венгрии. Николай Иванович слушал и ничего не понимал.
— Черт знает, что он бормочет! — пожал плечами Николай Иванович и воскликнул: — Брат-славянин! Да чего ты по-немецки-то бормочешь! Говори по-русски! Тьфу ты! Говори по-своему, по-славянски! Так нам свободнее разговаривать.
Кондуктор понял и заговорил по-сербски. Николай Иванович слушал его речь и все равно ничего не понимал.
— Не понимаю, брат-славянин... — развел он руками. — Слова как будто бы и наши, русские, а ничего не понимаю. Ну, уходи! Уходи! — махнул он рукой. — Спасибо. Мерси...
— С Богом, господине! — поклонился кондуктор и закрыл дверь купе.
Вот и станция Новый Сад. На станционном здании написано название станции на трех языках: по-венгерски — Уй-Видек, по-немецки — Нейзац и по-сербски — Нови-Сад. Глафира Семеновна тотчас же заметила венгерскую надпись и сказала мужу:
— Что ты меня надуваешь! Ведь все еще по венгерской земле мы едем. Вон название-то станции как: Уй-Видек... Ведь это же по-венгерски.
— Позволь... А кондуктор-то как же? Ведь и он тебе сказал, что это уж славянская земля, — возразил Николай Иванович.
— Врет твой кондуктор.
— Какой же ему расчет врать? И наконец, ты сама видишь надпись: «Нови-Сад».
— Ты посмотри на лица, что на станции стоят. Один другого черномазее. Батюшки! Да тут один какой-то венгерец даже в белой юбке.
— Где в юбке? Это не в юбке... Впрочем, один-то какой-нибудь, может быть, и затесался. А что до черномазия, то ведь и сербы черномазые.
По коридору вагона ходил мальчик с двумя кофейниками и чашками на подносе и предлагал кофе желающим.
— Хочешь кофейку? — предложил Николай Иванович супруге.
— Ни боже мой, — покачала та головой. — Я сказала тебе, что, пока мы на венгерской земле, крошки в рот ни с одной станции не возьму.
— Да ведь пила же ты кофе в Будапеште. Такой же венгерский город.
— В Будапеште! В Будапеште великолепный венский ресторан, лакеи во фраках, с капулем [14]. И разве в Будапеште были вот такие черномазые в юбках или в овчинных нагольных салопах?..
Поезд помчался. Справа начались то там, то сям возвышенности. Местность становилась гористая. Вот и опять станция.
— Петервердейн! — кричит кондуктор.
— Петровередин! Изволите видеть, опять совсем славянский город, — указывает Николай Иванович жене на надпись на станционном доме.
Глафира Семеновна лежит с закрытыми глазами и говорит:
— Не буди ты меня. Дай ты мне засветло выспаться, чтобы я могла ночь не спать и быть на карауле. Ты посмотри, какие подозрительные рожи повсюду. Долго ли до греха? С нами много денег. У меня бриллианты с собой.
— По Италии ездили, так и не такие подозрительные рожи нам по дороге попадались, даже можно сказать — настоящие бандиты попадались, однако ничего не случилось. Бог миловал.
А поезд уж снова бежал далеко от станции. Холмы разрастались в изрядные горы. Вдруг поезд влетел в туннель и все стемнело.
— Ай! — взвизгнула Глафира Семеновна. — Николай Иваныч! Где ты? Зажигай скорей спички, зажигай...
— Туннель это, туннель... успокойся! — кричал Николай Иванович, искал спички, но спичек не находилось. — Глаша! У тебя спички? Где ты? Давай руку!
Он искал руками жену, но не находил ее в купе.
Вскоре, однако, показался просвет и поезд выехал из туннеля. Глафиры Семеновны не было в купе. Дверь в коридор вагона была отворена. Он бросился в коридор и увидал жену, сидевшую в среднем купе между двумя немцами в дорожных мягких шапочках. На груди она держала свой шагреневый баульчик с деньгами и бриллиантами и говорила мужу:
— Убежала вот к ним. Я боюсь впотьмах. Отчего ты спички не зажигал? Вот эти мосье сейчас же зажгли спички. Но я споткнулась на них и упала. Они уж подняли меня, — прибавила она, вставая. — Надо извиниться. Пардоне, мосье, ке же вузе деранже... [15] — произнесла она по-французски.
Николай Иванович пожимал плечами.
IV
— Зачем ты к чужим-то убежала? — с неудовольствием сказал жене Николай Иванович. — Ступай, ступай в свое купе...
— Испугалась. Что ж поделаешь, если испугалась... Когда стемнело, я подумала не ведь что. Кричу тебе: «Огня! Зажигай спички!» А ты ни с места... — отвечала Глафира Семеновна, войдя в свое купе. — Эти туннели ужасно как пугают.
— Я и искал спички, но найти не мог. К чужим бежать, когда я был при тебе!
— Там все-таки двое, а ты один. Прибежала я — они и зажгли спички.
— Блажишь ты, матушка, вот что я тебе скажу.
— Сам же ты меня напугал цыганами: «Занимаются конокрадством, воровством». Я и боялась, что они впотьмах к нам влезут в купе.
А в отворенной двери купе супругов уже стоял один из мужчин соседнего купе, средних лет жгучий брюнет в золотых очках, с густой бородой, прибранной волосок к волоску, в клетчатой шелковой дорожной шапочке и с улыбкой, показывая белые зубы, говорил:
— Мадам есте русска? Господине русский?
— Да-да, мы из России, — отвечала Глафира Семеновна, оживляясь.
— Самые настоящие русские, — прибавил Николай Иванович. — Из Петербурга мы, но по происхождению с берегов Волги, из Ярославской губернии. А вы? — спросил он.
— Срб... — отвечал брюнет, пропустив в слове «серб» по-сербски букву «е», и ткнул себя в грудь указательным пальцем с надетым на нем золотым перстнем. — Срб из Београд, — прибавил он.
— А мы едем в Белград, — сообщила ему Глафира Семеновна.
— О! — показал опять зубы брюнет. — Молим, мадам, заходить в Београд на мой апотекрски ладунг. Косметически гешефт тоже има.
— Как это приятно, что вы говорите по-русски. Прошу покорно садиться, — предложил ему Николай Иванович.
— Я учился по-русски... Я учился на Нови-Сад в ортодоксальне гимназиум. Потом на Вена, в универзитет. Там есть катедр русский язык, — отвечал брюнет и сел.
— А мы всю дорогу вас считали за немца, — сказала Глафира Семеновна.
— О, я говорю по-немецки, как... эхтер [16] немец. Многи србы говорят добре по-немецки. От немцы наша цивилизация. Вы будете глядеть наш Београд — совсем маленьки Вена.
— Да неужели он так хорош? — удивилась Глафира Семеновна.
— О, вы будете видеть, мадам, — махнул ей рукой брюнет с уверенностью, не требующей возражения. — Мы имеем универзитет на два факультет: юристише и философише... — Брюнет мешал сербскую, русскую и немецкую речи. — Мы имеем музеум, мы имеем театр, национал-библиотек. Нови королевски конак... [17]
— Стало быть, есть там и хорошие гостиницы? — спросил Николай Иванович.
— О, как на Вин! Как на Вена.
— Скажите, где бы нам остановиться?
— Гран-готель, готель де Пари. Кронпринц готель — гостильница престолонаследника, — перевел брюнет и прибавил: — Добра гостильница, добры кельнеры, добро вино, добра еда. Добро ясти будете.
— А по-русски в гостиницах говорят? — поинтересовалась Глафира Семеновна.
— Швабы... Швабски келнеры, собарицы [18] — србки... Но вы, мадам, будете все понимать. Вино чермно [19], вино бело, кафа [20], овечье мясо... чаша пива. По-србски и по-русски — все одно, — рассказывал брюнет.
— Ну так вот, мы завтра, как приедем, так, значит, в гостинице престолонаследника остановимся, — сказал жене Николай Иванович. — Что нам разные готель де Пари! Французские-то гостиницы мы уж знаем, а лучше нам остановиться в настоящей славянской гостинице. В котором часу завтра мы в Белграде будем? — спросил он брюнета.
— Как завтра? Ми приедем в Београд сей день у вечера на десять с половина часы, — отвечал брюнет.
— Да что вы, мосье! Неужели сегодня вечером? — радостно воскликнула Глафира Семеновна. — А как же нам сказали, что завтра поутру? Николай Иваныч! что ж ты мне наврал?
— Не знаю, матушка, не знаю, — смешался супруг. — Я в трех разных местах трех железнодорожных чертей спрашивал, и все мне отвечали, что «морген», то есть завтра.
— Может быть, они тебе «гут морген» говорили, то есть здоровались с тобой, а ты понял в превратном смысле.
— Да ведь один раз я даже при тебе спрашивал того самого кондуктора, который от нас с гульденом сбежал. Ты сама слышала.
— Ну, так это он нас нарочно надул, чтоб испугать ночлегом в вагоне и взять гульден за невпускание к нам в купе посторонних. Вы, монсье, наверное знаете, что мы сегодня вечером в Белград приедем, а не завтра? — спросила Глафира Семеновна брюнета.
— Господи! Аз до дому еду и телеграфил.
— Боже мой, как я рада, что мы сегодня приедем в Белград и нам не придется ночевать в вагоне, проезжая по здешней местности! — радовалась Глафира Семеновна. — Ужасно страшный народ здешние венгерские цыгане. Знаете, мосье, мы с мужем в итальянских горах проезжали, видали даже настоящих тамошних бандитов, но эти цыгане еще страшнее тех.
Брюнет слушал Глафиру Семеновну, кивал ей даже в знак своего согласия, но из речи ее ничего не понял.
— На Везувий в Неаполе взбирались мы. Уж какие рожи нас тогда окружали — и все-таки не было так страшно, как здесь! Ведь оттого-то я к вам и бросилась спасаться, когда мы в туннель въехали, — продолжала Глафира Семеновна. — Мой муж хороший человек, но в решительную минуту он трус и теряется. Вот потому-то я к вам под защиту и бросилась. И вы меня простите. Это было невольно, инстинктивно. Вы меня поняли, монсье?
Брюнет опять кивнул и, хотя все-таки ничего не понял, но, думая, что речь идет все еще о том, когда поезд прибудет в Белград, заговорил:
— Теперь будет статион Карловцы и Фрушка-гора на Дунай-река... А дальше статион град Индия и град Земун — Землин по-русски.
— Всего три станции? Как скоро! — удивилась Глафира Семеновна.
— В Землин будет немецка митница [21], а в Београд — србска митница. Пасс есть у господина? Спросят пасс, — отнесся брюнет к Николаю Ивановичу.
— Вы насчет паспорта? Есть, есть... Как же быть русскому без паспорта? Нас и из России не выпустили бы, — отвечала за мужа Глафира Семеновна.
Брюнет продолжал рассказывать:
— Земун — семо, потом Дунай-река и мост, овамо [22] — Београд србски... Опять паспорт.
— Стало быть, и у вас насчет паспортов-то туго? — подмигнул Николай Иванович.
— Есть. Мы свободне держава, но у нас везде паспорт.
Разговаривая с брюнетом, супруги и не заметили, что уж давно стемнело и в вагоне горел огонь. Николай Иванович взглянул на часы. Было уж девять. Брюнет предложил ему папиросу и сказал:
— Србски табак. На Србия добр табак.
— А вот петербургскую папироску не хотите ли? — предложил ему в свою очередь Николай Иванович. — Вот и сама мастерица тут сидит. Она сама мне папиросы делает, — кивнул он на жену.
Оба взяли друг у друга папиросы, закурили и расстались. Брюнет ушел в свой купе, а супруги стали ждать станции Карловиц.
— Карловцы! — возгласил кондуктор, проходя по вагону.
После станции Карловиц Глафира Семеновна стала связывать свои пожитки: подушки, пледы, книги, коробки с закусками. Ей помогал Николай Иванович.
— Скоро уж теперь, скоро приедем в Белград, — радостно говорила она.
V
Подъезжали к станции Землин — австрийскому городу с коренным славянским населением, находящемуся на сербской границе. Вдали виднелись городские огни, в трех-четырех местах блестел голубовато-белый свет электричества.
Николай Иванович и Глафира Семеновна стояли у окна и смотрели на огни.
— Смотри-ка, огни-то как разбросаны, — сказала она. — Должно быть, большой город.
— Да. Это уж последний австрийский город. После него сейчас и Белград, славянское царство. Прощай, немчура! Прощай, Гуниади Янусы! [23] — проговорил он.
— Как Гуниади Янусы? — быстро спросила Глафира Семеновна.
— Да ведь это венгерская вода, из Венгрии она к нам в Россию идет. Ну, я венгерцев Гуниади Янусами и называю.
— Да что ты! То-то она мне так и противна бывает, когда случается ее принимать. Скажи на милость, я и не знала, что эта вода из цыганской земли идет! По Сеньке шапка. Что люди, то и вода... На черномазого человека взглянешь, так в дрожь кидает, и на воду ихнюю, так то же самое. И неужели они эту воду Гуниади так просто пьют, как обыкновенную воду?
Николай Иванович замялся, не знал, что отвечать, и брякнул:
— Жрут.
— Да ведь это нездорово, ежели без нужды.
— Привыкли, подлецы.
— Ужас что такое! — произнесла Глафира Семеновна, содрогаясь плечами, и прибавила: — Ну, отныне я этих венгерских черномазых цыган так и буду называть — Гуниадями.
Убавляя ход, поезд остановился на станции. В купе вагона заглянул полицейский в австрийской кепи и с тараканьими усами и потребовал паспорты. Николай Иванович подал ему паспорт. Полицейский вооружился пенсне, долго рассматривал паспорт, посмотрел почему-то бумагу его на свет, вынул записную книжку из кармана, записал что-то и, возвращая паспорт, спросил улыбаясь:
— Студено на Петербург?
— Ах, вы славянин? Говорите по-русски? — оживился Николай Иванович, но полицейский махнул ему рукой, сказал: «с Богом!» — и торопливо направился к следующему купе в вагоне.
— Все славяне! Везде теперь братья-славяне будут! — торжествующе сказал Николай Иванович и спросил жену: — Рада ты, что мы вступаем в славянское царство?
— Еще бы! Все-таки родной православный народ, — отвечала Глафира Семеновна.
— Да, за этих братьев-славян мой дяденька Петр Захарыч, царство ему небесное, в сербскую кампанию душу свою положил.
— Как? А ты мне рассказывал, что он соскочил на Дунае с парохода и утонул?
— Да. Но все-таки он в добровольцах тогда был и ехал сражаться, но не доехал. Пил он всю дорогу. Вступило ему, по всем вероятиям, в голову, показались белые слоны, ну, он от страха и спрыгнул с парохода в Дунай.
— Так какое же тут положение души?
— Так-то оно так... Но все-таки был добровольцем и ехал. Признаться, покойник папенька нарочно его и услал тогда, что уж сладу с ним никакого в Петербурге не было. Так пил, так пил, что просто неудержимо! Пропадет, пропьется и в рубище домой является. Впрочем, помутившись, он тогда и из Петербурга с партией выехал. А и поили же тогда добровольцев этих — страсть! Купцы поят, Славянский комитет [24] поит, дамы на железную дорогу провожают, платками машут, кричат «живио» [25]. На железной дороге опять питье... В вагоны бутылки суют. Страсть! Я помню... — покрутил головой Николай Иванович, вспоминая о прошлом.
А поезд между тем шел уже по железнодорожному мосту через Саву, приток Дуная, и входил на сербскую территорию.
Вот станция Белград. Поезд остановился. Большой красивый станционный двор, но на платформе пустынно. Даже фонари не все зажжены, а через два в третий.
— Что же это народу-то на станции никого нет? — удивилась Глафира Семеновна, выглянув в окошко. — Надо носильщика нам для багажа, а где его возьмешь? Гепектрегер! [26] Гепектрегер! — постучала она в окно человеку в нагольной овчинной куртке и овчинной шапке, идущему с фонарем в руке, но тот взглянул на нее и отмахнулся. — Не понял, что ли? — спросила она мужа и прибавила: — Впрочем, и я-то глупая! Настоящего славянина зову по-немецки. Как «носильщик» по-сербски?
— Почем же я-то, душенька, знаю! — отвечал Николай Иванович. — Вот еще серба какого нашла! Да давай звать по-русски. Носильщик! Носильщик! — барабанил он в стекло каким-то двум овчинным шапкам и манил к себе.
Глафира Семеновна тоже делала зазывающие жесты. Наконец в вагон влезла овчинная шапка с таким черномазым косматым лицом и с глазами навыкате, что Глафира Семеновна невольно попятилась.
— Боже мой! И здесь эти венгерские цыгане! — воскликнула она.
— Да нет же, нет, это брат-славянин. Не бойся, — сказал ей муж. — Почтенный! Вот тут наши вещи и саквояжи. Вынеси, пожалуйста, — обратился он к овчинной шапке. — Раз, два, три, четыре, пять... Пять мест.
— Добре, добре, господине. Пять? — спросила овчинная шапка, забирая вещи.
— Пять, пять. Видишь, он говорит по-русски, так какой же это цыган, — обратился Николай Иванович к жене. — Брат-славянин это, а только вот физиономия-то у него каторжная. Ну да Бог с ним. Нам с лица не воду пить. Неси, неси, милый... Показывай, куда идти.
Баранья шапка захватила вещи и стала их выносить из вагона. Выходил из вагона и брюнет в очках, таща сам два шагреневых чемодана. Он шел сзади супругов и говорил им:
— Митница. О, србска митница — строга митница!
Николай Иванович и Глафира Семеновна были тоже нагружены. Николай Иванович нес две кордонки со шляпками жены, зонтик, трость. Сама она несла баульчик, металлический чайник, коробок с едой. Их нагнал кондуктор, брат-славянин, и протягивал руку пригоршней.
— Господине, за спокой... Тринкгельд... — говорил он, кланяясь.
— Да ведь уж я дал гульден! — воскликнул Николай Иванович. — И неизвестно за что дал. Я думал, что мы ночь ночевать в вагоне будем, так чтоб в растяжку на скамейках спать, я и просил никого не пускать в наше купе, а не ехать ночь, так и этого бы не дал.
— На пиво, на чашу пива, высокий бояр... — приставал кондуктор.
— Гроша медного больше не получишь! — обернулся к нему Николай Иванович.
— Pass... Pass, mein Herr... — раздалось над самым его ухом.
Николай Иванович взглянул. Перед ним дорога была загорожена цепью и стоял военный человек в кепи с красным околышком и жгутами на пальто. Около него двое солдат в сербских шапочках-скуфейках.
— Паспорт надо? Есть, — отвечал Николай Иванович, поставил на пол коробки со шляпками и полез в карман за паспортом. — Пожалуйте... Паспорт русский... Из города Петербурга едем. Такие же славяне, как и вы... — подал он военному человеку заграничный паспорт-книжечку...
Тот начал его перелистывать и спросил довольно сносно по-русски:
— А отчего визы сербского консула нет?
— Да разве нужно? — удивился Николай Иванович. — Австрийская есть, турецкая есть.
— Надо от сербского консула тоже. Давайте четыре динара... Четыре франка... — пояснил он. — Давайте за гербовые марки на визу.
— С удовольствием бы, но у меня, голубчик, брат-славянин, только русские рубли да австрийские гульдены. Если можно разменять, то вот трехрублевая бумажка.
— Нет, уж лучше давайте гульдены.
Николай Иванович подал гульден.
— Мало, мало. Еще один. Вот так... Какую гостильницу берете? — задавал вопрос военный человек.
— То есть где мы остановимся? Говорят, есть здесь какая-то гостиница престолонаследника... Так вот.
— Готель кронпринц... Туда и пришлю паспорт. Там получите, — сухо отрезал военный и кивнул, чтобы проходили в отверстие в загородке.
— Нельзя ли хоть квитанцию? Как же без паспорта? В гостинице спросят, — начал было Николай Иванович.
— Зачем квитанцию? Я официальный человек, в форме, — ткнул себя в грудь военный и прибавил: — Ну, добре, добре. Идите в митницу и подождите. Там свой пасс получите.
Перед глазами Николая Ивановича была отворенная дверь с надписью «Митница».
VI
В белградской «митнице», то есть таможне, было темно, неприветливо. Освещалась она всего двумя стенными фонарями с стеариновыми огарками и смахивала со своими подмостками для досматриваемых сундуков на ночлежный дом с нарами. По митнице бродило несколько полицейских солдат в синих шинелях и в кепи с красными околышками. Солдаты были маленькие, худенькие, носатые, нестриженые, давно не бритые. Они оглядывали приезжих, щупали их пледы, подушки и связки. Один даже взял коробку со шляпкой Глафиры Семеновны и перевернул ее кверху дном.
— Тише, тише! Тут шляпка. Разве можно так опрокидывать! Ведь она сомнется! — воскликнула Глафира Семеновна и сверкнула глазами.
Полицейский солдат побарабанил пальцами по дну и поставил коробку, спросив с улыбкой:
— Дуван има?
— Какой такой дуван! Ну тебя к Богу! Отходи, — отстранил его Николай Иванович.
— Дуван — табак. Он спрашивает вас про табак, — пояснил по-немецки брюнет в очках, спутник Николая Ивановича по вагону, который был тут же со своими саквояжами.
Вообще приезжих было очень немного, не больше десяти человек, и митница выглядела пустынной. Все стояли у подмосток, около своего багажа и ждали таможенного чиновника, но он не показывался.
Подошел еще солдат, помял подушку, обернутую пледом, у Николая Ивановича и тоже, улыбнувшись, задал вопрос:
— Чай есте?
— Не твое дело. Ступай, ступай прочь... Вы кто такой? Придет чиновник — все покажем, — опять сказал Николай Иванович, отодвигая от него подушку.
— Ми — войник, — с достоинством ткнул себя в грудь солдат.
— Ну и отходи с Богом. Мы русские люди, такие же славяне, как и вы, а не жиды, и контрабанды на продажу провозить не станем. Все, что мы везем, для нас самих. Понял?
Но сербский полицейский «войник» только пучил глаза, очевидно ничего не понимая.
— Не особенно то ласково нас здесь принимают братья-славяне, — обратился Николай Иванович к жене. — Я думал, что как только узнают из паспорта, что мы русские, то примут нас с распростертыми объятиями, ан нет, не тем пахнет. На первых же порах за паспорт два гульдена взяли...
— Да сунь ты им что-нибудь в руку. Видишь, у них просящие глаза, — сказала Глафира Семеновна, изнывая около подмосток.
— Э, матушка! За деньги-то меня всякий полюбит даже и не в сербской земле, а в эфиопской, но здесь сербская земля. Неужели же они забыли, что мы, русские, их освобождали? Я и по сейчас в Славянский комитет вношу. Однако что же это таможенный-то чиновник? Да и нашего большого сундука нет, который мы в багаж сдали.
Наконец черномазые бараньи шапки в бараньих куртках внесли в митницу сундуки из багажного вагона.
— Вот наш сундук, у красного носа! — указала Глафира Семеновна и стала манить носильщика: — Красный нос! Сюда, сюда! Николай Иваныч! Дай ему на чай. Ты увидишь, что сейчас перемена в разговорах будет.
— И дал бы, да сербских денег нет.
— Дай австрийские. Возьмут.
Сундук поставлен на подмостки. Николай Иванович сунул в руку красному носу крону. Красный нос взглянул на монету и просиял:
— Препоручуем се [27], господине! Препоручуем се... — заговорил он, кланяясь.
Вообще монета произвела магическое действие на присутствующих. «Войник», спрашивавший о чае, подошел к Николаю Ивановичу и стал чистить своим рукавом его пальто, слегка замаранное известкой о стену, другой войник начал помогать Глафире Семеновне развязывать ремни, которыми были связаны подушки.
— Не надо, не надо... Оставьте, пожалуйста, — сказала она.
Войник отошел, но, увидя, что у Николая Ивановича потухла папироска, тотчас же достал спички, чиркнул о коробку и бросился к нему с зажженной спичкой.
— Давно бы так, братушка, — проговорил Николай Иванович, улыбаясь, и закурил окурок папиросы, прибавив: — Ну, спасибо.
Но тут показался таможенный чиновник в статском платье и в фуражке с зеленым околышем. Это был маленький, жиденький, тоже, как почти все сербы, носатый человек, но держащий себя необычайно важно. Его сопровождал человек тоже в форменной фуражке с зеленым околышком, но в овчинной куртке и с фонарем. Таможенный чиновник молча подошел к багажу Глафиры Семеновны, открыл первую кардонку со шляпкой и стал туда смотреть, запустив руку под шляпку.
— Моя шляпка, а под ней мой кружевной шарф и вуали, — сказала она. — Пожалуйста, только не мните.
Чиновник открыл вторую кардонку, тоже со шляпкой, и спросил по-русски:
— А зачем две?
— Одна летняя, а другая зимняя, фетровая. У меня еще есть третья. Не могу же я быть об одной! Мы едем из Петербурга в Константинополь. В Петербурге зима, а в Константинополе будет весна. Здесь тоже ни весна, ни зима. Каждая шляпка по сезону.
— Три. Гм... — глубокомысленно улыбнулся чиновник. — А зачем они куплены в Вене? Вот на коробе стоит: «Wien». Новые шляпы.
— Да зачем же их из России-то везти и к тому же старые? — возражала Глафира Семеновна. — Мы едем гулять, я не привыкла отрепанная ходить.
— Гм... Три много.
— А вы женаты? У вашей жены меньше трех?
На поддержку жены выступил Николай Иванович и опять заговорил:
— Мы, милостивый государь, господин брат-славянин, русские, такие же славяне, как и вы, а не жиды, стало быть, хоть и с новыми вещами едем, но везем их не на продажу. Да-с... Если у нас много хороших вещей, так оттого, что мы люди с достатком, а не прощелыги.
Чиновник ничего не ответил, сделал лицо еще серьезнее, велел сопровождавшему его солдату налепить на три коробки ярлычки, удостоверяющие, что вещи досмотрены, и приступил к осмотру подушек и пледов, спрашивая мрачно:
— Табак? Чай? Папиросы?
— Смотрите, смотрите, — уклончиво отвечала Глафира Семеновна, ибо в багаже имелись и чай, и папиросы.
Чиновник рылся, нашел жестяную бонбоньерку с шоколадом, открыл ее и понюхал.
— Нет, уж я вас прошу не нюхать! — вспыхнула Глафира Семеновна. — Я после чужих носов есть не желаю. Скажите на милость, нюхать начал!
Чиновник вспыхнул и принялся за осмотр сундука, запускал руку на дно его, вытащил грязное белье, завернутое в газеты, и начал развертывать.
— Грязное белье это, грязное белье. Оставьте. Впрочем, может быть, тоже хотите понюхать, так понюхайте, — отчеканила ему Глафира Семеновна.
Николай Иванович только вздохнул и говорил:
— А еще брат-славянин! Эх, братья! Русским людям не верите! Приехали мы к вам в гости, как к соплеменным родным, а вы нас за контрабандистов считаете!
Окончив осмотр сундука, чиновник ткнул пальцем в коробок и спросил:
— Тут что?
— Еда, и больше ничего. Сыр есть, ветчина, колбаса, булки, апельсины, — отвечал Николай Иванович.
— Молим показать.
— Только еду не нюхать! Только не нюхать! А то все побросаю, — опять воскликнула Глафира Семеновна, открывая коробок. — Не хочу я и после славянского носа есть.
— Чай? Кружева? — снова задал вопрос чиновник и стал развертывать завернутую в бумагу и аккуратно уложенную еду.
— Ветчина тут, ветчина.
Чиновник развернул из бумаги нарезанную ломтиками ветчину и опять поднес в носу. Глафира Семеновна не вытерпела, вырвала у него ветчину и швырнула ему ее через голову, прибавив:
— Понюхали — и можете сами съесть!
Чиновника покоробило. Он засунул еще раз в короб руку и налепил на него пропускной ярлык. С ним заговорил по-сербски брюнет в очках и, очевидно, тоже протестовал и усовещевал бросить такой придирчивый осмотр. Оставалось досмотреть еще саквояж Глафиры Семеновны. Чиновник махнул рукой и налепил на него ярлык без досмотра.
— Слава тебе Господи! Наконец-то все кончилось! — воскликнул Николай Иванович. — Грешной душе в рай легче войти, чем через вашу таможню в Белград попасть! Ну, братья-славяне! — закончил он и стал связывать подушки.
VII
Таможенный осмотр был окончен. Глафира Семеновна, как говорится, и рвала и метала на таможенного чиновника.
— Носастый черт! Вообрази, он мне всю шляпку измял своими ручищами. Прелестную шляпку с розами и незабудками, которую я вчера купила в Вене у мадам Обермиллер на Роттурмштрассе [28], — говорила она Николаю Ивановичу. — Послушай... Ведь можно, я думаю, на него нашему консулу жаловаться? Ты, Николай, пожалуйся.
— Хорошо, хорошо, душечка, но прежде всего нужно разыскать наш паспорт, который взяли в прописку.
А носатые войники схватили уже их подушки и саквояжи и потащили к выходу, спрашивая Николая Ивановича:
— Какова гостионица, господине?
— Стойте, стойте, братушки! Прежде всего нужно паспорт... — останавливал он их.
Но паспорт уже нес еще один войник, потрясая им в воздухе и радостно восклицая:
— Овдзе пасс! [29]
— Ну, слава Богу! — вырвалось восклицание у Николая Ивановича. — Пойдем, Глаша.
Он схватил паспорт и направился на подъезд в сопровождении войников и бараньих шапок. Бараньи шапки переругивались с войниками и отнимали у них подушки и саквояжи, но войники не отдавали. Глафира Семеновна следовала сзади. Один из войников, стоя на подъезде, звал экипаж.
— Бре, агояти! [30] — кричал он, махая руками.
Подъехала карета, дребезжа и остовом, и колесами. На козлах сидела баранья шапка с такими громадными черными усами, что Глафира Семеновна воскликнула:
— Николай Иванович, посмотри, и здесь такие же венгерские цыгане! Взгляни на козлы.
— Нет, друг мой, это братья-славяне.
Между тем войники со словами «молимо, седите» усаживали их в карету и впихивали туда подушки и саквояжи. Большой сундук их две бараньи шапки поднимали на козлы. Глафира Семеновна тщательно пересчитывала свои вещи.
— Семь вещей, — сказала она.
— Седам... [31] — подтвердил один из войников и протянул к ней руку пригоршней.
Протянул руку и другой войник, и третий, и четвертый, и две бараньи шапки. Послышалось турецкое слово «бакшиш», то есть «на чай».
— Боже мой, сколько рук! — проговорил Николай Иванович, невольно улыбаясь. — Точь-в-точь у нас на паперти в кладбищенской церкви.
Он достал всю имевшуюся при нем мелочь в австрийских крейцерах и принялся наделять, распихивая по рукам. Послышались благодарности и приветствия.
— Захвалюем [32], господине! — сказал один.
— Захвалюем... Видетьсмо [33], — проговорил другой.
— С Богом остайте! [34]
Извозчик с козел спрашивал, куда ехать.
— В гостиницу престолонаследника! — сказал Николай Иванович.
— Добре! Айде! — крикнули войники и бараньи шапки, и карета поехала по темному пустырю.
Пустырь направо, пустырь налево. Кой-где в потемках виднелся слабый свет. Мостовая была убийственная, из крупного булыжника, карета подпрыгивала и дребезжала гайками, стеклами, шалнерами.
— Боже мой! Да какая же это маленькая Вена! — удивлялась Глафира Семеновна, смотря в окно кареты на проезжаемые места. — Давеча в вагоне брюнет в очках сказал, что Белград — это маленькая Вена. Вот уж на Вену-то вовсе не похоже! Даже и на нашу Тверь их Белград не смахивает.
— Погоди. Ведь мы только еще от станции отъехали. А вон вдали электрический свет виднеется, так, может быть, там и есть маленькая Вена, — указал Николай Иванович.
И действительно, вдали мелькало электричество.
Начались двухэтажные каменные дома, но они чередовались с пустырями. Свернули за угол, и показался первый электрический фонарь, осветивший дома и тротуары, но прохожих на улице ни души. Дома, однако, стали попадаться всплошную, но дома какой-то казенной архитектуры и сплошь окрашенные в белую краску.
— Где же Вена-то? — повторила свой вопрос Глафира Семеновна. — Вот уж и электричество, а Вены я не вижу.
— Матушка, да почем же я-то знаю! — раздраженно отвечал Николай Иванович.
— В Вене оживленные улицы, толпы народа, а здесь никого и на улицах не видать.
— Может быть, оттого, что уж поздно. Десять часов.
— В Вене и в двенадцать часов ночи публика движется вереницами.
— Далась тебе эта Вена! Ну, человек так сказал. Любит он свой город — ну и хвалит его.
— Хорошую ли он нам гостиницу рекомендовал — вот что я думаю. Если у него этот Белград за маленькую Вену идет, так, может быть, и гостиница...
— Гостиница престолонаследника-то? Да он нам вовсе не рекомендовал ее, а только назвал несколько лучших гостиниц, а я и выбрал престолонаследника.
— Зачем же ты выбрал именно ее?
— Слово хорошее... Из-за слова... Кроме того, остальные гостиницы были с французскими названиями. Позволь, позволь... Да ты даже сама решила, что в разных готель де Пари мы уж и так много раз во всех городах останавливались.
Карета ехала по бульвару с деревьями, красующимися весенними голыми прутьями. Дома выросли в трехэтажные. Навстречу кареты по бульвару пробежал вагон электрической конки [35], вспыхивая огоньками по проволокам.
— Ну вот тебе и электрическая конка. Может быть, из-за этого-то наш сосед по вагону и сказал, что Белград — маленькая Вена, — проговорил Николай Иванович.
— А в Вене даже и электрической конки-то нет, — отвечала Глафира Семеновна.
В домах попадались лавки и магазины, но они были сплошь заперты. Виднелись незатейливые вывески на сербском и изредка на немецком языках. Глафира Семеновна читала вывески и говорила:
— Какой сербский язык-то легкий! Даже с нашими русскими буквами и совсем как по-русски... Коста Полтанов... Милан Иованов... Петко Петкович... — произносила она прочитанное и спросила: — Но отчего у них нигде буквы «ъ» нет?
— Да кто ж их знает! Должно быть, уж такая безъеристая грамматика сербская.
— Постой, постой... Вон у них есть буквы, которых у нас нет. Какое-то «ч» кверху ногами и «н» с «ериком» у правой палки, — рассматривала Глафира Семеновна буквы на вывесках.
Показалось большое здание с полосатыми будками и бродившими около него караульными солдатами с ружьями.
— Это что такое за здание? — задал себе вопрос Николай Иванович. — Дворец не дворец, казармы не казармы. Для острога — уж очень роскошно. Надо извозчика спросить.
Он высунулся из окна кареты и, указывая на здание пальцем, крикнул:
— Эй, братушка! Извозчик, что это такое? Чей это дом?
С козел отвечали два голоса. Что они говорили, Николай Иванович ничего не понял, но, к немалому своему удивлению, взглянув на козлы, увидал, кроме извозчика, войника, сидевшего рядом с извозчиком. Николай Иванович недоумевал, когда и зачем вскочил на козлы войник, и, подняв стекло у кареты, дрожащим голосом сказал жене:
— Глафира Семеновна! Вообрази, у нас на козлах сидит полицейский солдат.
— Как полицейский солдат? Что ему нужно? — тревожно спросила Глафира Семеновна.
— И ума не приложу. Удивительно, как мы не заметили, что он вскочил к нам на станции железной дороги, потому что иначе ему неоткуда взяться.
— Так прогони его. Я боюсь его, — произнесла Глафира Семеновна.
— Да и я побаиваюсь. Черт его знает, зачем он тут! Что ему нужно?
У Николая Ивановича уже тряслись руки. Он опять опустил стекло у кареты, выглянул в окошко и крикнул извозчику:
— Стой! стой, извозчик! Остановись!
Но извозчик, очевидно, не понял и не останавливался, а только пробормотал что-то в ответ.
— Остановись, мерзавец! — закричал Николай Иванович еще раз, но тщетно. — Не останавливается, — сообщил он жене, которая уж крестилась и была бледна как полотно. — Войник! Братушка! Зачем ты на козлы влез? Ступай прочь! — обратился он к полицейскому солдату и сделал ему пояснительный жест, чтобы он сходил с козел.
Войник пробормотал что-то с козел, но слезать и не думал. Извозчик усиленно погонял лошадей, махая на них руками. Николай Иванович, тоже уже побледневший, опустился в карете на подушки и прошептал жене:
— Вот что ты наделала своим строптивым характером в таможне! Ты кинула в лицо таможенному чиновнику куском ветчины, и за это нас теперь в полицию везут.
— Врешь... Врешь... Я вовсе и не думала ему в лицо кидать... Я перекинула только через голову... через голову... и ветчина упала на пол... Но ведь и он не имеет права...
Глафира Семеновна дрожала как в лихорадке.
— Да почем ты знаешь, что в полицию? — спросила она мужа. — Разве он тебе сказал?
— Черт его разберет, что он мне сказал! Но куда же нас иначе могут везти, ежели полицейский с козел не сходит? Конечно же в полицию. О, братья-славяне, братья-славяне! — роптал Николай Иванович, скрежеща зубами и сжимая кулаки. — Хорошо же вы принимаете у себя своих соплеменников, которые вас освобождали и за вас кровь проливали!
Глафира Семеновна была в полном отчаянии и бормотала:
— Но ведь мы можем жаловаться нашему консулу... Так нельзя же оставаться. Скажи, крикни ему, что мы будем жаловаться русскому консулу. Выгляни в окошко и крикни! Что ж ты сидишь как истукан! — крикнула она на мужа.
Карета свернула в улицу и остановилась у ворот белого двухэтажного дома. С козел соскочил войник и отворил дверцу кареты.
VIII
— Приехали... Доплясались!.. А все из-за тебя... — говорил Николай Иванович, прижавшись в угол кареты. — А все из-за тебя, Глафира Семеновна. Ну, посуди сама: разве можно в казенного таможенного чиновника бросать ветчиной! Вот теперь и вывертывайся как знаешь в полиции.
На глазах Глафиры Семеновны блистали слезы. Она жалась к мужу от протянутой к ней руки войника, предлагающего выйти из кареты, и бормотала:
— Но ведь и он тоже не имел права нюхать нашу ветчину. Ведь это же озорничество...
А войник продолжал стоять у дверей кареты и просил:
— Молимо, мадам, излазте...
— Уходи прочь! Не пойду я, никуда не пойду! — кричала на него Глафира Семеновна. — Николай Иваныч, скажи ему, чтобы он к русскому консулу нас свез.
— Послушайте, братушка, — обратился Николай Иванович к войнику. — Вот вам прежде всего на чай крону и свезите нас к русскому консулу! Полиции нам никакой не надо. Без консула в полицию мы не пойдем.
Войник слушал, пучил глаза, но ничего не понимал. Взглянув, впрочем, на сунутую ему в руку крону, он улыбнулся и, сказав: «Захвалюем, господине!», опять стал настаивать о выходе из кареты.
— Гостиница престолонаследника... Молим... — сказал он и указал на дом.
Николай Иванович что-то сообразил и несколько оживился.
— Постой... — сказал он жене. — Не напрасная ли тревога с нашей стороны? Может быть, этот войник привез нас в гостиницу, а не в полицию. Он что-то бормочет о гостинице престолонаследника. Вы нас куда привезли, братушка, в гостиницу? — спросил он войника.
— Есте.
— В гостиницу престолонаследника?
— Есте, есте, господине, — подтвердил войник.
— Не верь, не верь! Он врет! Я по носу вижу, что врет! — предостерегала мужа Глафира Семеновна. — Ему бы только выманить нас из кареты. А это полиция... Видишь, и дом на манер казенного. Разве может быть в таком доме лучшая в Белграде гостиница!
— А вот пусть он мне укажет прежде вывеску на доме. Ведь уж ежели это гостиница, то должна быть и вывеска, — сообразил Николай Иванович. — Из кареты я не вылезу, а пусти меня на твое место, чтобы я мог выглянуть в окошко и посмотреть, есть ли над подъездом вывеска гостиницы, — обратился он к жене.
Глафира Семеновна захлопнула дверь кареты. В карете начались перемещения. Николай Иванович выглянул в окошко со стороны жены, задрал голову кверху и увидал вывеску, гласящую: «Гостиница престолонаследника».
— Гостиница! — радостно воскликнул он. — Войник не наврал! Можем выходить без опаски!
Как бы какой-то тяжелый камень отвалил от сердца у Глафиры Семеновны, и она просияла, но все-таки, руководствуясь осторожностью, еще раз спросила:
— Да верно ли, что гостиница? Ты хорошо ли разглядел вывеску?
— Хорошо, хорошо. Да вот и сама можешь посмотреть.
А войник между прочим уж позвонил в подъезд. Распахнулись широкие полотна ворот, заскрипев на ржавых петлях. Из ворот выходили баранья шапка в усах и с заспанными глазами, швейцар в фуражке с полинявшим золотым позументом, какой-то кудрявый малец в опанках [36] (вроде наших лаптей, но из кожи), и все ринулись вытаскивать багаж из кареты. Глафира Семеновна уже не противилась, сама подавала им вещи и говорила мужу:
— Но все-таки нужно допытаться, для чего очутился у нас на козлах полицейский солдат. Ведь без нужды он не поехал бы.
— А вот войдем в гостиницу, там разузнаем от него, — отвечал Николай Иванович. — Я так думаю, что не для того ли, чтоб удостовериться в нашем месте жительства, где мы остановились.
— А зачем им наше жительство?
— Ах, Боже мой! А ветчина-то? А таможенный чиновник?
— Дался тебе этот таможенный чиновник с ветчиной! Да и я-то дура была, поверив тебе, что нас везут в полицию за то, что я кусок ветчины в чиновника кинула! Уж если бы этот чиновник давеча обиделся, то сейчас бы он нас и заарестовал.
— А вот посмотрим. Неизвестно еще, чем это все разыграется, — подмигнул жене Николай Иванович и, обратясь к швейцару, спросил: — Говорите по-русски? Комнату бы нам хорошую о двух кроватях?
— Есте, есте... Алес вас нур инен гефелих, мейн герр! [37] — отвечал старик-швейцар.
— Немец! — воскликнул Николай Иванович. — Боже мой! В славянском городе Белграде — и вдруг немец!
— Срб, срб, господине. Заповедите... [38]
Швейцар поклонился. Войник подскочил к нему и спросил:
— Има ли добра соба? [39]
— Есте, есте, — закивал швейцар. — Козма! Покажи. Дай, да видит господине, — обратился он к бараньей шапке с заспанными глазами и в усах.
— Отлично говорит по-русски. Не понимаю, что ему вдруг вздумалось из себя немца разыгрывать! — пожал плечами Николай Иванович и вместе с женой отправился в подъезд, а затем вверх по каменной лестнице смотреть комнату.
Лестница была холодная, серой окраски, неприветливая, уставленная чахлыми растениями, без ковра. На площадке стояли старинные английские часы в высоком и узком, красного дерева чехле. Освещено было скудно.
— Неужели это лучшая гостиница здесь? — спрашивала Глафира Семеновна у мужа.
— Да кто ж их знает, милая! Брюнет в очках рекомендовал нам за лучшую.
— Ну маленькая Вена! И это называется маленькая Вена! Пожалуй, здесь и поесть ничего не найдется? А я есть страсть как хочу.
— Ну как не найтиться! Эй, шапка! Ресторан у вас есть?
— Есте, есте, има, господине.
Подскочил к шапке и войник, все еще сопровождавший супругов.
— Има ли што готово да се еде? — в свою очередь спросил он шапку.
— Има, има, все има... — был ответ.
— Боже мой! Да этот злосчастный войник все еще здесь! — удивилась Глафира Семеновна. — Что ему нужно? Прогони его, пожалуйста, — обратилась она к мужу.
— Эй, шапка! Послушай! Прогони ты, ради Бога, этого войника. Чего ему от нас нужно? — сказал Николай Иванович, указывая на полицейского солдата.
Шапка смотрела на Николая Ивановича, но не понимала, что от нее требуют. Николай Иванович стал показывать жестами. Он загородил войнику дорогу в коридор и заговорил:
— Провались ты! Уйди к черту! Не нужно нам тебя! Шапка! Гони его!
Войник протянул руку пригоршней:
— Интерес, господине... Бакшиш...
— Какой такой бакшиш? Я тебе два раза уж давал бакшиш!.. — обозлился Николай Иванович.
— Он хтыт от нас бакшиш, господине, — пояснила шапка, тыкая себя в грудь, и сказала войнику: — Иде на контора... Там господар...
— Ну, с Богом... — поклонился войник супругам и неохотно стал спускаться вниз по лестнице, чтоб обратиться за бакшишом в контору, где сидит «господар», то есть хозяин гостиницы.
— Глаша! Глаша! Теперь объяснилось, отчего войник приехал с нами на козлах, — сказал жене Николай Иванович. — Он приехал сюда, чтобы показать, что он нас рекомендовал в эту гостиницу, и сорвать с хозяина бакшиш, интерес, то есть известный процент.
— Есте, есте, господине, — поддакнула шапка.
— Ах вот в чем дело! Ну, теперь я понимаю. Это так... — проговорила Глафира Семеновна. — А давеча ты напугал. Стал уверять, что нас он в полицию везет.
— Да почем же я знал, душечка!.. Мне так думалось.
Они стояли в плохо освещенном широком коридоре. Баранья шапка распахнула им дверь в темную комнату.
— Осам динары за дан... [40] — объявила шапка цену за комнату.
IX
Кудрявый, черномазый малец в опанках втащил в комнату две шестириковые свечки [41] в подсвечниках — и комната слабо осветилась. Это была большая, о трех окнах, комната со стенами и потолком, раскрашенными по трафарету клеевой краской. На потолке виднелись цветы и пальмовые ветви, по стенам — серые розетки в белом фоне. У стен одна против другой стояли две кровати венского типа со спинками из листового железа, раскрашенными как подносы. Перины и подушки на кроватях были прикрыты пестрыми сербскими коврами. Мебель была тоже венская, легкая, с привязными жиденькими подушками к сиденью, на выкрашенном суриком [42] полу лежал небольшой мохнатый ковер. В углу помещалась маленькая изразцовая печка. Показав комнату, баранья шапка спросила:
— Добре, господине?
— Добре-то добре... — отвечал Николай Иванович, посмотрев по сторонам, — но уж очень темно. Нельзя ли нам лампу подать? Есть у вас лампа?
— Есте, есте... Има, господине, — отвечала шапка. — Дакле с Богом, видетьемо се [43], — поклонилась она и хотела уходить.
— Стой, стой! — остановил шапку Николай Иванович. — Мы сейчас умоемся, да надо будет нам поесть и хорошенько чаю напиться, по-русски, знаешь, настоящим образом, на православный славянский манер, с самоваром. Понял?
Баранья шапка слушала и хлопала глазами.
— Не понял. Вот поди ж ты, кажись, уж настоящие славяне, а по-русски иное совсем не понимают, — сказал Николай Иванович жене. — Ясти, ясти... Аз ясти хощу... — начал он ломать язык, обратясь снова к шапке, раскрыл рот и показал туда пальцем.
— Има, господине... — кивнула шапка.
— Да что има-то? Карта есть? Принеси карту кушанья и вин!
— Одна, господине... Упут... [44] — поклонилась шапка и исчезла.
Супруги начали приготовляться к умыванью, но только что Глафира Семеновна сняла с себя лиф и платье, как раздался сильный стук в дверь.
— Кто там? Погоди! Карту потом подашь. Прежде дай помыться! — крикнул Николай Иванович, думая, что это баранья шапка с картой кушаний, и снял с себя пиджак.
Стук повторился.
— Говорят тебе, подожди! Не умрешь там.
Николай Иванович снял рукавчики и стал намыливать себе руки. Стучать продолжали.
— Врешь, врешь! Над тобой не каплет, — отвечал Николай Иванович и начал мыть лицо.
Стук усиливался, и бормотали два голоса.
— Вот неймется-то! Ну прислуга! Ломятся, да и шабаш!
Николай Иванович наскоро смыл мыло с лица и приотворил дверь. В коридоре стоял извозчик, которому не заплатили еще денег за привоз с железнодорожной станции. Его привел носастый войник, который ехал на козлах.
— Батюшки! Извозчику-то мы и забыли впопыхах заплатить деньги! — воскликнул Николай Иванович. — Но ты здесь, эфиопская морда, зачем? — обратился он к войнику.
Бормотал что-то по-сербски извозчик, бормотал что-то и войник, но Николай Иванович ничего не понимал.
— Сейчас. Дай мне только утереться-то. Видишь, я мокрый, — сказал он извозчику и показал полотенце. — Глаша! Чем я с извозчиком рассчитаюсь? У меня ни копейки сербских денег, — обратился он к жене, которая плескалась в чашке.
— Да дай ему рубль, а он тебе сдачи сдаст. Неужто уж сербы-то нашего рубля не знают? Ведь братья-славяне, — отвечала Глафира Семеновна.
Николай Иванович отерся полотенцем, достал рублевую бумажку и, подойдя к полуотворенной двери, сказал извозчику:
— Братушка! Вот тебе наш русский рубль. У меня нет сербских денег. Возьмешь рубль?
Извозчик посмотрел на протянутую ему рублевую бумажку и отмахнулся.
— Айа, айа. Треба три динары [45], — сказал он.
— Фу ты леший! Да если у меня нет динаров! Ну разменяешь завтра на свои динары. Три динара... Я тебе больше даю. Я даю рубль. Твой динар — четвертак, а я тебе четыре четвертака даю! Бери уж без сдачи. Черт с тобой!
Опять протянута рублевая бумажка, опять замахал руками извозчик, попятился и заговорил что-то по-сербски.
— Не берет, черномазый, — отнесся Николай Иванович к жене. — Вот они братья-то славяне! Даже нашего русского рубля не знают. Спасали, спасали их, а они от русского рубля отказываются. Я не знаю, что теперь и делать?
— Да дай ему гульден. Авось возьмет. Ведь на станции австрийскими деньгами рассчитывался же, — сказала Глафира Семеновна, обтирая лицо, шею и руки полотенцем.
— Да у меня и гульдена нет. В том-то и дело, что я на станции все австрийские деньги роздал.
— У меня есть. Два гульдена осталось. Вот тебе.
И Глафира Семеновна подала мужу новенький гульден.
— Братушка! А гульден возьмешь? — спросил Николай Иванович извозчика, протягивая ему монету.
Тот взял гульден и сказал:
— Малко. Иошт треба. Се два с половина динары...
— Мало ему. Нет ли у тебя хоть сколько-нибудь австрийской мелочи? — спросил Николай Иванович.
Глафира Семеновна подала ему несколько никелевых австрийских монеток. Николай Иванович прибавил их к гульдену.
— Захвалюем, господине, — поблагодарил извозчик, поклонившись, и тотчас же поделился деньгами с войником, передав ему мелочь.
— Глаша! Вообрази! Почтенный носатый войник и с извозчика нашего сорвал халтуру! — воскликнул Николай Иванович.
— Да что ты! Вот ярыга-то! [46] Славянин ли уж он? Может быть, жид, — выразила сомнение супруга и стала со свечкой оглядывать постель. — Все чисто, — сказала она, заглядывая под ковер. — Мягкий тюфяк на пружинах и хорошее одеяло.
Вскоре явился владелец бараньей шапки, на этот раз уже без шапки и переменив замасленный серый пиджак на черный. Он внес в комнату лампу, поставил ее на стол и положил около нее тетрадку, составляющую репертуар кушаний и вин ресторана, находящегося при гостинице престолонаследника.
— А! и карточку принес, братушка! Ну, спасибо. Захвалюем... — произнес Николай Иванович, запомня часто слышимое им слово, и стал перелистывать книжку.
Книжка была рукописная. Кушанья были в ней названы по-немецки, по-сербски, но написаны преплохим почерком.
— Ну-с, будем читать. Не знаю только, разберем ли мы тут что-нибудь, — сказал он.
— Да не стоит и разбирать, — отвечала Глафира Семеновна. — Все равно, кроме бифштекса, я есть ничего не буду. Бифштекс с картофелем и чаю... Чаю до смерти хочу. Просто умираю.
— Не хочешь ли, может быть, предварительно квасу? — предложил Николай Иванович. — Квас уж наверное в славянской земле есть.
— Пожалуй. Кисленького хорошо. Ужасная у меня после этого переполоха с полицейским солдатом жажда явилась... Знаешь, я не на шутку тогда испугалась.
— Еще бы не испугаться! Я сам струсил.
— Ну, да ты-то трус известный. Ты везде... Есть у вас квас? Славянский квас? — спросила Глафира Семеновна человека, принесшего карту.
Тот выпучил глаза и не знал, что отвечать.
— Квас, квас. Разве не знаешь, что такое квас? — повторил Николай Иванович. — Пить... Пити... — пояснил он.
— Нийе... Не има... — отрицательно потряс головой слуга.
— Странное дело! Славянские люди — и простого славянского напитка не имеют!
— Тогда пусть подаст скорее чаю и два бифштекса, — сказала Глафира Семеновна.
— Ну так вот... Скорей чаю и два бифштекса с картофелем, а остальное мы потом выберем, — обратился к слуге Николай Иванович. — Чай, надеюсь, есть? Чай. По-немецки — те...
— Есте, есте... — кивнул слуга.
— И бифштексы есть?
— Има... Има... Есте.
— Ну слава Богу! Так живо!.. Два бифштекса и чай. Да подать самовар! Два бифштекса. Два... Смотри не перепутай.
И Николай Иванович показал удаляющемуся слуге два пальца.
X
— Ну, какие у них там есть кушанья? Прочти-ка... — спрашивала Глафира Семеновна мужа, вздевшего на нос пенсне и смотрящего в карточку.
— Все разобрать трудно. Иное так написано, словно слон брюхом ползал, — отвечал тот. — Но вот сказано: супа...
— Какой суп?
— А кто ж его знает! Просто: супа. Конечно, уж у них особенных разносолов нет. Сейчас видно, что сербы народ неполированный. Хочешь, спросим супу?
— Нет, я не стану есть.
— Отчего?
— Не стану. Кто их знает, что у них там намешано! Посмотри, что еще есть?
— Риба... Но ведь рыбу ты не станешь кушать.
— Само собой.
— А я спрошу себе порцию рыбы. Только вот не знаю, какая это рыба. Такое слово, что натощак и не выговоришь. Крто... Не ведь что такое!
— Постой... Нет ли какого-нибудь жаркого? — сказала Глафира Семеновна и сама подсела к мужу разбирать кушанья.
— «Печене»... — прочел Николай Иванович. — Вот печенье есть.
— Да ведь печенье это к чаю или на сладкое, — возразила Глафира Семеновна.
— Погоди, погоди... Добился толку. Печене — по-ихнему жаркое и есть, потому вот видишь сбоку написано по-немецки: «братен».
— Да, братен — жаркое. Но какое жаркое?
— А вот сейчас давай разбирать вдвоем. Во-первых, «пиле», во-вторых, «просад» [47].
— А что это значит — «пиле»? [48]
— Да кто ж их знает? Никогда я не воображал, что среди этих братьев-славян мы будем как в темном лесу. Разбери, что это такое — «пиле»?
— Может быть, коза или галка.
— Уж и галка!
— Да кто ж их знает! Давай искать телятины. Как телятина по-ихнему?
— Почем же мне-то знать. Погоди, погоди. Нашел знакомое блюдо: «кокош», сбоку по-немецки: «хун» — курица. Стало быть, «кокош» — курица.
— Скорей же «кокош» — яйца... — возразила супруга.
— Нет, яйца — «яе». Вот они в самом начале, а сбоку по-немецки: «ейер».
— «Чурка», «зец»... [49] — читала Глафира Семеновна. — Не знаешь, что это значит?
— Душенька, да ведь я столько же знаю по сербски, сколько и ты, — отвечал Николай Иванович.
— Ищи ты телятину или телячьи котлеты.
— Да ежели нет их. Стой! Еще знакомое блюдо нашел! «Овече мясо», — прочел Николай Иванович. — Это баранина. Хочешь баранины?
— Бог с ней. Свечным салом будет пахнуть, — поморщилась Глафира Семеновна. — Нет, уж лучше яиц спроси. Самое безопасное! Наверное не ошибешься.
— Стоило из-за этого рассматривать карточку!
Показался слуга. Он внес два подноса. На каждом подносе стояло по чайной чашке, по блюдечку с сахаром, по маленькому мельхиоровому чайнику и по полулимону на тарелочке.
— Что это? — воскликнул Николай Иванович, указывая на подносы.
— Чай, господине, — отвечал слуга.
— А где ж самовар? Давай самовар.
Слуга выпучил глаза и не знал, что от него требуют.
— Самовар! — повторил Николай Иванович.
— Темашине... — прибавила Глафира Семеновна по-немецки.
— А, темашине... Нема темашине... — покачал головой слуга.
— Как нема! В славянской земле, в сербском городе Белграде, да чтоб не было самовара к чаю! — воскликнули в один голос супруги. — Не верю.
— Нема... — стоял на своем слуга.
— Ну так, стало быть, у вас здесь не славянская гостиница, а жидовская, — сказал Николай Иванович. — И очень мы жалеем, что попали к жидам.
Глафира Семеновна сейчас открыла чайники, понюхала чай и воскликнула:
— Николай! Вообрази, и чай-то не по-русски заварен, а по-английски, скипечен. Точь-в-точь такой, что нам в Париже в гостиницах подавали. Ну что ж это такое! Даже чаю напиться настоящим манером в славянском городе невозможно!
Слуга стоял и смотрел совсем растерянно.
— Кипяток есть? Вода горячая есть? — спрашивала у него Глафира Семеновна. — Понимаешь, горячая теплая вода.
— Топла вода? Има... — поклонился слуга.
— Ну так вот тебе чайник, и принеси сейчас его полный кипятком. — Глафира Семеновна подала ему свой дорожный металлический чайник.
— Да тащи скорей сюда бифштексы! — прибавил Николай Иванович.
Слуга кисло улыбнулся и сказал:
— Нема бифштексы.
— Как нема? Ах ты, разбойник! Да что же мы будем есть? Ясти-то что мы будем?
— Нема, нема... — твердил слуга, разводя руками, и начал что-то доказывать супругам, скороговоркой бормоча по-сербски.
— Не болтай, не болтай... Все равно ничего не понимаю! — махнул ему рукой Николай Иванович и спросил: — Что же у вас есть нам поесть? Ясти... Понимаешь, ясти!
— Овече мясо има... — отвечал слуга.
— Только? А кокош? Есть у тебя кокош жареный? Это по-нашему курица. Печене кокош?
— Кокош? Нема кокош.
— И кокош нема? Ну просад тогда. Вот тут стоит какой-то просад, — ткнул Николай Иванович пальцем в карту кушаний.
— Просад? Нема просад, — отрицательно потряс головой слуга.
— Да у вас, у чертей, ничего нет! Ловко. Рыба по крайней мере есть ли?
— Нема риба.
— Ну скажите на милость, и рыбы нет! Решительно ничего нет. Что же мы есть-то будем?
— Из своей провизии разве что-нибудь поесть? — отвечала Глафира Семеновна. — Но ветчину я в таможне кинула. Впрочем, сыр есть и икра есть. Спроси, Николай, яиц и хлеба. Яйца уж наверное есть. Яиц и хлеба. Да хлеба-то побольше, — обратилась она к мужу.
— Ах, вы несчастные, несчастные! — покачал головой Николай Иванович.
— Вечер, господине, ночь, господине... — разводил руками слуга, ссылаясь на то, что теперь поздно. — Единаесты саат [50], — прибавил он.
— Ну, слушай, братушка. Яйца уж наверное у вас есть. Яе...
— Яе? Има... Есте, есте.
— Ну так принеси десяток яиц вкрутую или всмятку, как хочешь. Десять яе! И хлеба. Да побольше хлеба. Понимаешь, что такое хлеб?
— Хлеб? Есте.
— Ну слава Богу. Да кипятку вот в этот чайник... И две порции овечьего мяса.
— Овечье мясо? Есте.
— И десяток яиц.
Николай Иванович растопырил перед слугой все десять пальцев обеих рук и прибавил: «Только скорей».
— Нет, какова славянская земелька! — воскликнул он. — В столичном городе Белграде, в лучшей гостинице не имеют самовара и в одиннадцать часов вечера из буфета уж ничего получить нельзя!
Но супругов ждало еще большее разочарование. Вскоре слуга вернулся, и хотя принес, что от него требовали, но овечье мясо оказалось холодное, яйца были сырые, хлеб какой-то полубелый и черствый, а вместо кипятку в чайнике была только чуть теплая вода. Он начал пространно говорить что-то в свое оправдание, но Николай Иванович вспылил и выгнал его вон.
— Делать нечего! Придется чайничать так, как в Париже чайничали! — вздохнула Глафира Семеновна вынула из саквояжа дорожный спиртовой таган, бутылку со спиртом и принялась кипятить воду в своем металлическом чайнике.
В комнату вошла заспанная горничная с целой копной волос на голове, принялась стлать чистое белье на постели, остановилась и в удивлении стала смотреть на хозяйничанье Глафиры Семеновны.
— Чего смотришь? Чего рот разинула? — сказала ей та. — У, дикая! — прибавила она и улыбнулась.
XI
Утром супруги Ивановы долго бы еще спали, но раздался стук в дверь. Глафира Семеновна проснулась первая и стала будить мужа. Тот не просыпался. Стук усиливался.
— Николай! Кто-то стучит из коридора. Уж не случилось ли чего? Встань, пожалуйста, и посмотри, что такое... — крикнула она. — Может быть, пожар.
При слове «пожар» Николай Иванович горохом скатился с постели и бросился к двери.
— Кто там? Что надо? — кричал он.
За дверью кто-то бормотал что-то по-сербски. Николай Иванович приотворил дверь и выглянул в коридор. Перед ним стоял вчерашний черномазый малец в опанках и подавал выставленные с вечера для чистки сапоги Николая Ивановича, а сзади мальца лежала маленькая вязанка коротеньких дубовых дров.
— И из-за сапогов ты смеешь нас будить! — закричал на него Николай Иванович, схватив сапоги. — Благодари Бога, что я раздет и мне нельзя выскочить в коридор, а то я задал бы тебе, косматому, трепку! Черт! Не мог поставить вычищенные сапоги у дверей!
Малец испуганно попятился, но, указывая на вязанку дров, продолжал бормотать. Слышались слова: «дрова», «студено».
— Вон! — крикнул на него Николай Иванович и захлопнул дверь, щелкнув замком. — Вообрази, вчерашний черномазый малец принес сапоги и дрова и лезет к нам топить печь, — сказал он жене. — Смеет будить, каналья, когда его не просили!
Глафира Семеновна потягивалась на постели.
— Да порядки-то здесь, посмотрю я, как у нас в глухой провинции на постоялых дворах. Помнишь, в Тихвин на богомолье ездили и остановились на постоялом дворе?
— В Тихвине на постоялом дворе нас хоть кормили отлично. Мы также приехали вечером и сейчас же нам дали жирных горячих щей к ужину и жареного поросенка с кашей, — отвечал Николай Иванович. — А здесь, в Белграде, вчера, кроме холодной баранины и сырых яиц, ничего не нашлось для нас. Там, в Тихвине, действительно подняли нас утром в шесть часов, но шумели постояльцы, а не прислуга.
— Так-то оно так, но на самом деле уж пора и вставать. Десятый час, — проговорила Глафира Семеновна и стала одеваться.
Одевался и Николай Иванович и говорил:
— Придется уж по утрам кофей пить, как в немецких городах. Очевидно, о настоящем чае и здесь мечтать нечего. Самовара в славянской земле не знают! — негодовал он. — Ах черти!
Надев сапоги и панталоны, он подошел к электрическому звонку, чтоб позвонить прислугу и приказать подать кофе с хлебом, и остановился перед надписью над звонком, сделанною по-сербски и по-немецки и гласящею, кого из прислуги сколькими звонками вызывать.
— Ну-ка, будем начинать учиться по-сербски, — сказал он. — Есть рукописочка. Вот вчерашний черномазый слуга, не могший схлопотать нам даже бифштексов к ужину, по-сербски так же называется, как и по-немецки, — келнер. Разница только, что мягкого знака нет. А девушка — «медхен» по-немецки — по-сербски уж совсем иначе: «собарица».
— Как? — спросила Глафира Семеновна.
— Собарица. Запомни, Глаша.
— Собарица, собарица... — повторила Глафира Семеновна. — Ну да я потом запишу.
— А вот малец в опанках, что сейчас нас разбудил, называется покутарь. Запомни: покутарь... Его надо вызывать тремя звонками, собарицу — двумя, а келнера — одним. «Едан путь»... «Ейн маль», по-немецки, а по-русски «один раз». Будем звонить келнера...
И Николай Иванович, прижав пуговку электрического звонка, позвонил один раз.
— Погоди. Дай же мне одеться настоящим манером, — сказала Глафира Семеновна, накидывая на себя юбку. — Ведь ты зовешь мужчину.
— Поверь, что три раза успеешь одеться, пока он придет на звонок.
Николай Иванович не ошибся. Глафира Семеновна умылась и надела на себя ночную кофточку с кружевами и прошивками, а «келнер» все еще не являлся. Пришлось звонить вторично. Николай Иванович подошел к окну, выходившему на улицу. Улица была пустынна, хотя перед окном на противоположной стороне были два магазина с вывешенными на них шерстяными и бумажными материями. Только приказчик в пиджаке и шляпе котелком мел тротуар перед лавкой да прошла баранья шапка в куртке и опанках, с коромыслом на плече, по концам которого висели вниз головами привязанные за ноги живые утки и куры.
— Посмотри, посмотри, Глаша, живых птиц, привязанных за ноги, тащат! — крикнул Николай Иванович жене и прибавил: — Вот где обществу-то покровительства животным надо смотреть!
— Ах варвары! — воскликнула Глафира Семеновна, подойдя к окну.
— Да, по всему видно, что это серый, неполированный народ. Ну убей их, а потом и тащи. А то без нужды мучить птиц! Однако кельнер-то не показывается.
Николай Иванович позвонил в третий раз. Явилась черноглазая горничная с копной волос на голове, та самая, что вчера стлала белье на постель.
— Собарица? — спросил ее Николай Иванович.
— Собарица, — кивнула та. — Што вам е по воли? Заповедите [51].
— Ужасно мне нравится это слово — собарица, — улыбнулся Николай Иванович жене.
— Ну-ну-ну... — сморщила брови Глафира Семеновна — Прошу только на нее особенно не заглядываться.
— Как тебе не стыдно, душечка! — пожал плечами Николай Иванович.
— Знаю я, знаю вас! Помню историю в Париже, в гостинице. Это только у вас память коротка.
— Мы, милая собарица, звали кельнера, а не вас, — обратился к горничной Николай Иванович.
— Вот уж ты сейчас и «милая», и все... — поставила ему шпильку жена.
— Да брось ты. Как тебе не стыдно! С прислугой нужно быть ласковым.
— Однако ты не называл милым вчерашнего эфиопа!
— Кафе нам треба, кафе. Два кафе. Скажите кельнеру, чтобы он принес нам два кафе с молоком. Кафе, молоко, масло, хлеб, — старался сколь можно понятливее отдать приказ Николай Иванович и спросил: — Поняли?
— Кафе, млеко, масло, хлеб? Добре, господине, — поклонилась горничная и удалилась.
— Сейчас мы напьемся кофею, оденемся и поедем осматривать город, — сказал Николай Иванович жене, которая, все еще надувши губы, стояла у окна и смотрела на улицу.
— Да, но только надо будет послать из гостиницы за извозчиком, потому вот уж я сколько времени стою у окна и смотрю на улицу — на улице ни одного извозчика, — отвечала Глафира Семеновна.
— Пошлем, пошлем. Сейчас вот я позвоню и велю послать.
— Только уж, пожалуйста, не вызывайте этой собарицы!
— Позволь... Да кто же ее вызывал? Она сама явилась.
— На ловца и зверь бежит. А ты уж сейчас и улыбки всякие перед ней начал расточать, плотоядные какие-то глаза сделал.
— Оставь, пожалуйста. Ах, Глаша, Глаша!
Показался кельнер и принес кофе, молоко, хлеб и масло. Все это было прилично сервировано.
— Ну вот, что на немецкий манер, то они здесь отлично подают, — проговорил Николай Иванович, усаживаясь за стол. — Вот что, милый мужчина, — обратился он к кельнеру. — Нам нужно извозчика, экипаж, чтобы ехать. Так вот приведите.
— Экипаже? Има, има, господине! — И кельнер заговорил что-то по-сербски.
— Ну довольно, довольно... Понял — и уходи! — махнул ему Николай Иванович.
Через час Николай Иванович и разряженная Глафира Семеновна сходили по лестнице в подъезд, у которого их ждал экипаж.
XII
— Помози Бог! — раскланялся швейцар с постояльцами.
— Добро ютро! — робко произнес малец в опанках, который был в подъезде около швейцара.
Затем швейцар попросил у Николая Ивановича на немецком языке дать ему визитную карточку, дабы с нее выставить его фамилию на доске с именами постояльцев. Николай Иванович дал.
— Никола Иванович Иванов, — прочел вслух швейцар и спросил: — Экселенц? [52]
— Какое! — махнул рукой Николай Иванович. — Простой русский человек.
— Эфенди? [53] — допытывался швейцар. — Официр? С Петроград?
— Ну, пусть буду эфенди с Петроград.
Экипаж, который ждал супругов у подъезда, был та же самая карета, в которой они приехали в гостиницу со станции, на козлах сидела та же баранья шапка в длинных усах, которая вчера так долго спорила с Николаем Ивановичем, не принимая русского рубля. Увидав карету и возницу, супруги замахали руками и не хотели в нее садиться.
— Нет-нет! Что это за экипаж! Неужто вы не могли лучше-то нам припасти! — закричал Николай Иванович, обращаясь к швейцару. — И наконец, нам нужно фаэтон, а не карету. Мы едем смотреть город. Что мы увидим из кареты? Приведи другой экипаж.
— Нема другой.
— Как — нема? Нам нужен открытый экипаж, фаэтон.
— Будет фаэтон, — сказал возница, слыша разговор, соскочил с козел и стал превращать карету в фаэтон, так как она изображала из себя ландо, в нескольких местах связанное по шарнирам веревками. Он вынул нож, перерезал веревки и стал откидывать верх.
— Добре буде. Изволите сести, — сказал он наконец, сделав экипаж открытым.
Супруги посмотрели направо и налево по улице, экипажа другого не было, и пришлось садиться в этот.
Экипаж помчался, дребезжа гайками и стеклами.
— Куда возити? — обратился к супругам извозчик.
— Семо и овамо, — отвечал Николай Иванович, припоминая старославянские слова и приспособляясь к местному языку. — Смотреть град... Град ваш видити... улицы, дворец.
— Град позити? Добре, господине.
Проехали одну улицу, другую — пусто. Кой-где виднеется пешеход, редко два. Женщин еще того меньше. Прошел офицер в серо-синем пальто и такой же шапочке-скуфейке, гремя кавалерийской саблей, — совсем австриец, и даже монокль в глазу на излюбленный австрийский кавалерийский манер. Он посмотрел на Глафиру Семеновну и улыбнулся.
— Чего он зубы скалит? — спросила та мужа.
— Душечка, у тебя уж крылья очень велики на новой шляпке — вот он, должно быть...
— Да ведь это последний фасон из Вены.
— Все-таки велики. Ты знаешь, в карету ты и не влезла в этой шляпке. Ведь каланча какая-то с крыльями и флагами у тебя на голове.
— Выдумайте еще что-нибудь!
Въехали в улицу с магазинами в домах. На окнах — материи, ковры, шляпки, мужские шляпы и готовое платье, но ни входящих, ни выходящих из лавок не видать. Прошла через улицу баба, совсем наша русская баба в ситцевом платке на голове и в ситцевом кубовом платье. Она несла на плече палку, а на концах палки были глиняные кувшины с узкими горлами, привязанные на веревках. Прошел взвод солдат, попался один-единственный экипаж, еще более убогий, чем тот, в котором сидели супруги.
— Вот тебе и маленькая Вена! Очень похожа! — иронически восклицала Глафира Семеновна. — Где же наконец дамы-то? Мы еще не видели ни одной порядочной дамы.
— А вон наверху в окне дама подол у юбки вытряхает, — указал Николай Иванович.
Действительно, во втором этаже выбеленного известкой каменного дома стояла у окна, очевидно, «собарица» и вытрясала выставленный на улицу пыльный подол женского платья. Немного подальше другая такая же «собарица» вывешивала за окно детский тюфяк с большим мокрым пятном посредине.
Выехали на бульвар. Стали попадаться дома с лепной отделкой и выкрашенные не в одну только белую краску. Здания стали выше. Прошмыгнул вагон электрической конки, но наполовину пустой.
— Какая это улица? Как она называется? — спросил Николай Иванович у извозчика.
— Княже Михаила, а тамо Теразия улица... — отвечал извозчик, указывая на продолжение улицы.
Улица эта со своими зданиями действительно смахивала немножко на Вену в миниатюре, если не обращать внимания на малолюдность, и Глафира Семеновна сказала:
— Вот эту-то местность, должно быть, наш сербский брюнет и называл маленькой Веной.
Показалась площадь с большим зданием.
— Университет, — указал извозчик.
Ехали далее. Показалось двухэтажное красивое здание с тремя куполами, стояли будки и ходили часовые.
— Кралев конак, — отрекомендовал опять извозчик.
— Конак — это дворец! Королевский дворец, — пояснил жене Николай Иванович и спросил возницу: — Здесь и живет король?
— Не... Овзде краль [54]. Малы конак, — указал он на другое здание, рядом.
— Вот видишь, у них два дворца — большой и малый. Король живет в малом, — сказал Николай Иванович и указал на следующее здание, спросив возницу: — А это что?
— Кролевско министерство, — был ответ.
— Дама, дама идет! Даже две дамы! — воскликнула Глафира Семеновна, указывая на идущих им навстречу дам. — Ну, вот посмотри на них. Разве у них перья на шляпках ниже моих? — спросила она.
— Да, тоже двухэтажные, но у тебя все-таки выше. У тебя какой-то мезонин еще сверху.
— Дурак, — обиделась Глафира Семеновна. — Не понимаешь женских мод. Слушайте, извозчик, свезите нас теперь посмотреть Дунай. Понимаете: река Дунай. Так по-вашему она зовется, что ли? — обратилась она к вознице.
— Есте, есте. Найприе треба твердыня пазити [55], — отвечал тот.
— Ну, твердыню так твердыню, — сказал Николай Иванович, поняв, что «твердыня» — крепость, и прибавил: — Слова-то у них... Только вдуматься надо — и сейчас поймешь...
Возница погнал лошадей. Экипаж понесся в гору и опять стал спускаться. Стали попадаться совсем развалившиеся домишки, иногда просто мазанки. У некоторых домишек прямо не хватало сбоку одной стены, то там, то сям попадались заколоченные досками окна. В более сносных домишках были кофейни с вывесками, гласящими: «Кафана». Над дверями висели колбасы, попадались цирульни, в отворенные двери которых были видны цирульники, бреющие подбородки черноусых субъектов. Народу стало попадаться по пути больше, но все это был простой народ в опанках и бараньих шапках, бабы в ситцевых платках. То там, то сям мелькали лавчонки ремесленников, тут же, на порогах своих лавчонок, занимающихся своим ремеслом. Вот на ржавой вывеске изображены ножницы и надпись «Терзия» (т. е. портной), а на пороге сидит портной и ковыряет иглой какую-то материю. Далее слесарь подпиливает какой-то крюк.
— Стари турски град, — отрекомендовал возница местность.
— Старый турецкий город, — пояснил Николай Иванович жене.
— Понимаю, понимаю. Неужто уж ты думаешь, что я меньше твоего понимаю по-сербски, — отвечала та, сморщила нос и прибавила: — А только и вонища же здесь!
Действительно, на улице была грязь непролазная и благоухала как помойная яма.
XIII
— Има мнози турки здесь? — спрашивал Николай Иванович возницу, ломая язык и думая, что он говорит по-сербски.
— Мало, господине. Свагдзе [56] србски народ. Стари туркски град.
— Теперь мало турок. Это старый турецкий город, — опять пояснил жене Николай Иванович.
— Пожалуйста, не объясняй. Все понимаю, — отвечала та. — Вот еще какой профессор сербского языка выискался!
Начали снова подниматься в гору. Поперек стояла крепостная стена, начинающая уже сильно разрушаться. Проехали ворота с турецкой надписью над ними, оставшейся еще от прежнего турецкого владычества. Стали появляться солдаты, мелкие, плохо выправленные. Они с любопытством смотрели на экипаж, очевидно бывающий здесь редким гостем. Опять полуразрушенные стены, небольшой домик с гауптвахтой. На крепостных стенах виднелось еще кое-где забытое изображение луны [57]. Опять проехали крепостные ворота. Около стен везде валяется щебень. А вот овраг и свалка мусору. Виднеются черепки битой посуды, куски жести, изломанные коробки из-под чего-то, тряпки, стоптанный башмак. Дорога шла в гору террасами. Наконец открылся великолепный вид на две реки.
— Сава... Дунай... — указал возница на впадающую в Дунай Саву.
— «На Саву, на Драву, на синий Дунай» [58], — сказал Николай Иванович и прибавил: — Это в какой-то песне поется.
— Кажется, ты сам сочинил эту песню, — усумнилась Глафира Семеновна.
— Ну вот... Почему же мне река Драва-то вспомнилась?
— В географии учил.
На Дунае и на Саве виднелись мачтовые суда и пароходы, стоявшие на якорях, но движения на них и около них по случаю ранней еще весны заметно не было.
Стали подниматься еще выше. Показались казармы, затем еще здание.
— Госпиталь, — пояснил возница. — Ключ, кладенац [59], — указал он на третье облупившееся и обсыпавшееся зданьице.
Проехали еще. Стояла часовня.
— Русьица црква... — сказал опять возница.
— Как русская? — воскликнул Николай Иванович. — Глаша! Русская церковь. Зайдем посмотреть?
Но Глафира Семеновна ничего не ответила. Ей не нравилось, что муж по-прежнему продолжает переводить сербские слова.
На пути была башня «Небойся» [60]. Возница и на нее указал, назвав ее.
— Так она и называется — Небойся? — спросил Николай Иванович.
— Есте, господине.
— Отчего так называется? Почему? Зачем?
Возница понял вопросы и стал объяснять по-сербски, но супруги ничего не поняли. Глафира Семеновна тотчас же уязвила мужа и спросила:
— Профессор сербского языка, все понял?
— Нет. Но вольно ж ему так тараторить, словно орехи на тарелку сыплет. Все-таки, я тебе скажу, он хороший чичероне [61].
Достигнув верхней крепости, начали спускаться вниз к Дунаю.
— Ну, теперь пусть свезет в меняльную лавку, — сказала Глафира Семеновна мужу. — Ведь у тебя сербских денег нет. Надо разменять да пообедать где-нибудь в ресторане.
— Братушка! В меняльную лавку! — крикнул Николай Иванович вознице. — Понял?
Тот молчал.
— К меняле, где деньги меняют. Деньги... Неужели не понимаешь? Русски деньги — сербски деньги.
В пояснение своих слов Николай Иванович вытащил трехрублевую бумажку и показал вознице.
— Вексельбуде... — пояснила Глафира Семеновна по-немецки.
— А пара [62]... Новце... [63] Сараф... [64] Добре, добре, господине, — догадался возница и погнал лошадей.
Возвращались уж через базар. Около лавчонок и ларьков висели ободранные туши баранов, бродили куры, гуси, утки. По мере надобности их ловили и тут же резали для покупателя. На базаре все-таки был народ, но простой народ, а интеллигентной, чистой публики, за исключением двух священников, и здесь супруги никого не видали. К экипажу их подскочила усатая фигура в опанках и в бараньей шапке и стала предлагать купить у нее пестрый сербский ковер. Подскочила и вторая шапка с ковром, за ней третья.
— Не надо, не надо! — отмахивался от них Николай. Иванович.
Глафира Семеновна смотрела на народ на базаре и дивилась:
— Но где же чистая-то публика! Ведь сидит же она где-нибудь! Я только двух дам и видела на улице.
Наконец возница остановился около лавки с вывеской «Сараф». Тут же была и вторая вывеска, гласившая: «Дуван» (т. е. «Табак»). На окне лавки лежали австрийские кредитные билеты и между ними русская десятирублевка, а также коробки с табаком, папиросами, мундштуки, несколько карманных часов, две-три часовые цепочки и блюдечко с сербскими серебряными динариями.
— Сафар, сафар! — твердил Николай Иванович, выходя из экипажа. — Сафар. Вот как меняла-то по-сербски. Надо запомнить.
Вышла и Глафира Семеновна. Они вошли в лавочку. Запахло чесноком. За прилавком сидел средних лет, черный, как жук, бородатый человек в сером пиджаке и неимоверно грязных рукавчиках сорочки и, держа в глазу лупу, ковырял инструментом в открытых часах.
— Молим вас менять русски деньги, — начал Николай Иванович ломать русский язык, обращаясь к ковырявшему часы человеку.
— Разменять русские деньги? Сколько угодно. Люблю русские деньги, — отвечал с заметным еврейским акцентом чернобородый человек, вынимая из глаза лупу и поднимаясь со стула. — У вас что: сторублевого бумажка?
— Вы говорите по-русски? Ах, как это приятно! — воскликнула Глафира Семеновна. — А то здесь так трудно, так трудно с русским языком.
— Я говорю, мадам, по-русски, по-сербски, по-немецки, по-болгарски, по-итальянски, по-турецки, по-французски, по-венгерски... — поклонился меняла. — Даже и по-армянски...
— Ну, нам и одного русского довольно, — перебил его Николай Иванович.
— Нет, в самом деле, я на какова угодно языка могу... Я жил в Одесса, жил в Константинополь... Ривке! — крикнул меняла в комнату за лавкой, откуда слышался стук швейной машины. — Ривке! Давай сюда два стул! Хорошие русские господа приехали! Так вам разменять сторублевого бумажку на сербская бумажки? Сегодня курс плох. Сегодня мы мало даем. Не в счастливый день вы приехали. А вот позвольте вам представить моя жена. По-русскому Софья Абрамовна, — указал он на вышедшую из другой комнаты молодую, красивую, но с грязной шеей женщину в ситцевом помятом платье и с искусственной розой в роскошных черных волосах. — Вот, Ривке, наши русского соотечественники из Одесса.
— Нет, мы из Петербурга, — сказала Глафира Семеновна.
— Из Петербурга? О, еще того лучше!
Ривка поклонилась, как институтка, сделав книксен, и стала просить присесть посетителей на стулья.
— Стало быть, вы русский подданный, что называете нас своими соотечественниками? — спросил Николай Иванович, садясь и доставая из кармана бумажник.
— О, я был русскова подданный, но я уехал в Стамбул, потом уехал в К
