автордың кітабын онлайн тегін оқу Кремулятор

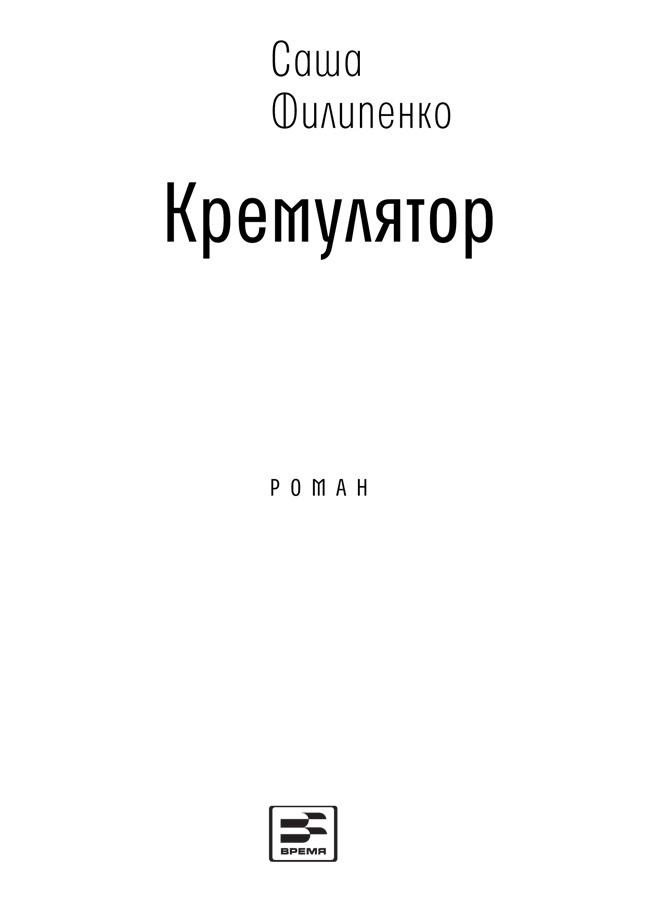
Информация
от издательства
Художественное электронное издание
18+
Идея оформления обложки
Роман Филипенко
Оформление и макет
Валерий Калныньш
Филипенко, Саша
Кремулятор: роман / Саша Филипенко. — М. : Время, 2022. — (Самое время!)
ISBN 978-5-9691-2263-5
От этого текста пышет печным жаром и тянет могильным холодом — причем одновременно. В основе романа материалы следственного дела Петра Ильича Нестеренко, директора Московского крематория на территории Донского некрополя. Работая над романом, Саша Филипенко повторил путь главного героя, вслед за ним побывав в Саратове и Париже, в Стамбуле и Варшаве. Огромный объем архивных документов предоставило автору общество «Мемориал». «Кремулятор» — художественная реконструкция совершенно удивительной судьбы.
© Филипенко А. А., 2022
© «Время», 2022
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
СЛЕДСТВИЕ
Обыск и арест проводят 23 июня 1941 года. На всё про всё уходит шесть часов. Работа привычная, однако атмосфера нервная — всего день как объявлена война. Пока Брестская крепость сдерживает невообразимое давление фашистской машины, столицу Советского Союза накрывает волна незаметных изъятий. В квартирах и в парках, в институтах и в наркоматах вяжут потенциальных шпионов. Несмотря на размах мероприятия, задержаний не так уж и много — арестовывают всего 1077 человек, в которых бдительные советские органы видят предателей и троцкистов, бактериологических диверсантов и прочих (для заключения под стражу существует и такая графа). Цифра столь незначительна, потому что с большинством линейников разобрались еще в 37-м, когда только по подозрению в работе на Польшу к расстрелу были приговорены более ста тысяч человек (если быть точным — 111 091 гражданин). Действительный штат польской разведки не насчитывает и двухсот агентов по всему миру, но что уж тут поделаешь, ты же знаешь, милая, наши старательные органы уничтожают впрок и наверняка.
«Лучше перебздеть, чем недобздеть», — переворачивая мою библиотеку, замечает один из чекистов. От грубости этой крохотную квартирку начинает выворачивать вещами, и меня выводят на улицу.
В пользу следствия они изымают восстановленный военный билет, записные книжки (шесть штук) и разного рода письма (в количестве 30). Кроме этого, проводящих обыск товарищей Козлова и Лягина интересуют адреса и телефоны (на 76 листах), личная переписка (почти 200 страниц) и три книги: о магии, о штундистах и о карма-йоге.
Вечером того же дня меня доставляют во внутреннюю тюрьму НКГБ, где фотографируют, опрашивают для анкеты и отбирают взятые с собою вещи:
одеяло серое байковое — 1шт.;
простыни х/б — 2 шт.;
полотенце — 2 шт.;
наволочки — 2 шт.;
платки носовые — 6 шт.;
рубашки разные — 2 шт.;
трусы х/б — 1 шт.;
носки разные — 2 пары;
щетку зубную —1 шт.;
мыло простое — 1 кусок;
салфетку — 1 шт.
Всё это собрано мною впопыхах, всё это, конечно, более ни к чему.
Оставшись в камере, я не скулю, не плачу и не бьюсь головой о стену. «Произошла ошибка!» — о нет, подобных глупостей, взывая к надзирателям, я не кричу. Бессмысленные и пошлые проявления человеческих эмоций меня не занимают, а потому, сев на холодный пол, я без особенного интереса разглядываю клюв высиживающей меня наседки:
— Расстреляют тебя? — совершенно бестактно спрашивает он.
— Нет.
— Почему?
— Потому что шесть французских платков отобраны, но одну советскую простынь они все-таки выдают…
«Смерть есть мое первое детское воспоминание», — однажды, задолго до ареста, в одном из изъятых теперь дневников запишу я.
Каждый день, куда бы мы ни шли вместе с мамой, путь наш непременно пролегает через сельское кладбище. Иногда мама останавливается возле какого-то креста, чаще, ускоряя шаг, проходит мимо. Неизменно одно — даже если нам нужно месить грязь в совершенно другом направлении, каждый день мы оказываемся здесь — петля.
Научившись складывать буквы в слова, я поражаюсь однажды, что на кресте выведены мои имя и фамилия.
— Мама, это для меня? Сюда меня положат, когда я вырасту?
— Нет, глупенький! Здесь похоронен твой родственник! Тебя назвали в честь него…
Каждый день мы проходим мимо могилы с моим именем, и я обещаю себе, что никогда не умру…
«И вытри кровь, пожалуйста…» — с любовью говорит мне мама. Как ты помнишь, с самого детства у меня плохие сосуды.
Первый московский допрос проходит стремительно и комично. Следователь поздравляет меня с наступающим пятьдесят пятым днем рождения и заявляет, что перед ним шпион. На какую именно разведку я работаю, он не уточняет, однако, раскрыв юную, хрупкую еще совсем папку-абитуриентку, не поднимая глаз, для чего-то наигранно щелкает языком и добавляет только, что Нестеренко Петру Ильичу светит 58-я статья.
— И? — спокойно спрашиваю я.
— У-во-ди-те! — вдруг чеканит он.
Фальстарт. Попробуем заново.
В течение четырех месяцев это бессмысленное представление то и дело повторяется. Словно в гимназии, следователь усаживает меня на стул, строго отчитывает и задает совершенно бестолковые вопросы: «Кто? Зачем? Почему?» Затем он для чего-то пробует меня напугать, однако, не имея времени на полноценные пытки (таких, как я, у него полна горница), всякий раз делает это довольно поверхностно и штатно. Убедившись, что я не собираюсь свидетельствовать против себя, дознаватель вновь и вновь тяжело вздыхает и приказывает меня вывести.
Глупо, но мы буксуем.
Следователь злится — мяч на моей стороне. Как бы странно это ни звучало, но летом и осенью 41 года я имею некоторый перевес. Время теперь работает на меня. 37-й, по которому так тотальгирует мой дознаватель, прошел. Обновленное квазиправосудие требует от него пускай и формальных, однако допросов, возможно и выбитых, но все же свидетельств (валяй и лже). Увы и ах, но просто так меня теперь не расстрелять. В границах осажденной Москвы следователю положено потрудиться, как и в любом другом советском дельце, выполнить хотя и совершенно бессмысленную, однако норму. Этому бесполезному человеку необходимо хоть что-то на меня накопать, а контекст между тем препятствует — немцы стоят уже у Москвы. Гитлер приказывает выслать своим солдатам парадную форму, и, пока одни жители столицы учат первые немецкие словосочетания: «Guten Tag!», «Wie ist Ihre Stimmung?» и «Heil Hitler!», — другие набивают помойки портретами всесильных Ленина и Сталина. От наскоро сжигаемых документов чернеет земля, и самый частый звук теперь хруст — не снега, но разрываемых партийных билетов. В этой ситуации моему дорогому следователю можно только посочувствовать — выбивать необходимые признания в столь неудобных обстоятельствах — сложно.
— Ты чего такой радостный, а? Ты что, не понимаешь, что скоро начнется отступление, и чекисты всех нас перестреляют?! — то наступая, то отпрыгивая назад, истерично дергается и кричит мой трусливый шакал-сокамерник.
— Не расстреляют…
— Почему ты в этом так уверен?!
— Потому что в случае взятия Москвы немцы используют наши трупы в пропагандистских целях — в начале войны подобные ошибки допускать нельзя…
— Уверен?
Да, потому что точно так же они сделают, например, во Львове. Войдя в город, фашисты обнаружат заваленную трупами тюрьму и, вместо того чтобы скрыть ужас от глаз людских, пригласят родственников. «Смотрите, — скажут новые хозяева города, — вот что, отступая, натворили красные с вашими отцами, братьями и сыновьями. Выбирайте, на чьей стороне вы теперь хотите воевать…»
Всё это очень понятно. В мирное время одни правила игры, в военное — другие. Главное — вовремя перестроиться и не унывать. Хаос хаосом, но, в общем-то, некоторые события несложно предугадывать. Война алогична, а это уже кое-что, чтобы начать ее понимать.
Ровно поэтому, когда сентябрьской ночью меня вдруг выводят из сырой камеры, я не прикусываю губу и не приглаживаю редкие, ставшие слабыми за последние годы волосы. На прощанье я не вспоминаю ни огни Босфора (хотя мог бы), ни твой острый подбородок, милая. Я понимаю, что меня ведут не к палачу, и в который раз в жизни оказываюсь прав…
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии дела к своему производству
Гор. Саратов, 1941 года сентября «17» дня.
Я, ст. следователь Следственной группы 2-го Управления НКВД СССР лейтенант Госбезопасности Перепелица, рассмотрев материалы следственного дела № 2716 по обвинению Нестеренко Петра Ильича — НАШЕЛ:
Нестеренко П. И. арестован в Москве 23/VI 1941 года по обвинению в шпионской деятельности и этапирован в гор. Саратов.
Учитывая, что по делу необходимо вести дальнейшее следствие, руководствуясь ст.ст. 110 и 96 УПК СССР, —
ПОСТАНОВИЛ:
Следственное дело за № 2716 по обвинению Нестеренко Петра Ильича для дальнейшего следствия принять к своему производству.
Ст. следователь След. группы
2-го Управления НКВД СССР
лейтенант Госбезопасности
Перепелица
Как ты уже поняла, милая, подозрительный по шпионажу, две недели я трясусь вагонзаком в Саратов. Конвоиры пьянствуют, собачатся на самые антисоветские темы и роются в моих вещах — суки подлые, — еды почти не дают.
Разглядывая диезы решеток, за неимением прочих забот долгими остановками я размышляю о собственной судьбе:
«Верно ли прожита твоя жизнь, старик, если, истоптав пятьдесят пять лет, ты вдруг оказываешься в чреве казенной гусеницы, что через всю страну, то сжимаясь, то дергаясь вперед, тащит тебя к месту нового допроса? Правильно ли отыграна твоя пьеса, соколик, коли в столь приличном возрасте ты путешествуешь поездом, в котором шипит не шампанское, а подыхающий человек?..»
Вопросы эти, конечно, в пустоту. В действительности они необходимы мне только для того, чтобы не думать о тебе и чем-нибудь себя занять. Ехать две недели в Саратов — тяжело, ехать так утомительно и скучно.
— Чё, не очень-то они пекутся о нас, да? — выглядывая из-за чьего-то плеча, спрашивает вдруг анекдотист с полным выпавших клавиш ртом.
— Это путешествие, мой дорогой друг, мало чем отличается от времен гражданской войны…
— Так ты из белых, что ли, будешь?
— Из серых…
— Это как?
— А долго объяснять, уважаемый…
— Так ведь вроде есть у нас время на длинные беседы…
— Вот и давайте его промолчим…
Саратовская тюрьма, которую за форму ее называют «Титаником», оказывается укоренившимся в земле продолжением этапа. Острог как острог. Утром баландер приносит теплую водичку с солью, на обед подают болтушку с рыбьей головой. Вечером похлебка из зеленых помидоров и раз в месяц, если повезет, сахар, который насыпают прямо в руки. В такие моменты, разглядывая ладони, я представляю высохшую степь, которую укрывает снег.
Из хлеба я мастерю шахматы, однако каждые три дня находится мудачок, который фигурки мои тащит да съедает. Одним из сокамерников оказывается академик Вавилов, и я все время думаю на него — за большим именем прятаться легко. Вавилов целыми днями ходит туда-сюда и для чего-то бубнит, что в аресте его виновен Лысенко (будто теперь это может на что-то повлиять). Иногда великий советский ученый останавливается и в моменты такие начинает заниматься просветительской деятельностью, словно кто-то его об этом просит:
— Если же попытаться осмыслить наше время, — заводится он, — станет очевидно, товарищи, что мы просто-напросто не успеваем облагораживать народные массы! Ровно так, как мы не можем окультурить все поля, не получается у нас пока (!) и вывести нового человека. Несмотря на все сложности и препятствия, людей рождается всё больше, а количество образованных граждан остается на прежнем уровне. Как результат, у нас увеличивается пропасть между образованными и необразованными людьми. Если так пойдет и дальше, однажды мы заметим, что сорняк — наша главная и единственная культура!
— Ничего, война перепашет! — раздается с верхних нар.
Я слушаю и улыбаюсь. Ты же знаешь, милая, жонглирование метафорами меня никогда не раздражало. Понятно, что каждый спасается как может. Этого сдавшегося бедолагу мне даже немного жаль. Маловероятно, что он выберется отсюда. Академик наверняка умрет здесь голодной смертью, и единственное, на что ему теперь стоит рассчитывать, — соседнюю улицу, которую много лет спустя, признав ошибки партии, зачем-то назовут в его честь.
«Будет настроение, — думаю я, — обязательно расскажу тебе, мил человек, чем в действительности удобряют эту землю».
Пока же, закрыв уши руками после французского и турецкого, после польского и болгарского, в мыслях поцеловав тебя, я берусь за изучение нового языка:
Айк — икона
Балабас — сахар
Вара — контрабанда
Гамза — деньги
Декча — голова
Енгин — опасность
Журня — морг
Запомнив самые необходимые в новой жизни слова, я закрываю глаза и готовлюсь заснуть, однако сделать этого не успеваю — меня вызывают на первый саратовский допрос.
ДОПРОС ПЕРВЫЙ #
Войдя в сумеречную камеру, я хрюкаю и улыбаюсь. Да-да, так и происходит, поверь мне! Сдержаться сложно, смешок вырывается сам собой. Следователю моему нет и тридцати. Лицо чистое, румяное, пионерское. Перепелица Павел Андреевич — будем знакомы!
Едва взглянув на него, я понимаю, что щеки молодца наливает свежая чекистская кровь. Новый кадр. Очевидно, паренек пришел в органы после последней волны чисток. Орленок в чужом гнезде. Персонаж, судя по всему, старательный — такой юный, а уже старший следак. В то время как его сверстников в срочном порядке вывозят погибать на разворачивающуюся бойню, он — серая мышка — усердно штампует расстрельные статьи. В Москве у следователя Перепелицы новая квартира в доме на улице Горького — есть за что сражаться.
«И соседи у него, — думаю я, — непростые: на лестничной площадке, вероятнее всего, квартирует Минос — судья царства умерших, этажом выше Геката — богиня мрака, а под ним, вне всяких сомнений, то и дело передвигают мебель подполковники Танатос и Гипнос…»
Следователь Перепелица берет с места в карьер. Биографию мою он меряет косой саженью, спрашивает то о службе, то о Великой войне. Дельце это ему хочется сшить наскоро, однако помогать в столь спорном предприятии я не готов — мне, как ты понимаешь, умирать не с руки.
— Значит, будем бодаться?
— Никак нет, товарищ следователь…
— Я вам не товарищ!
— Тоже верно…
И хотя Харон — такой же штатный сотрудник НКВД, как и Перепелица, лодка его всё же имеет некоторое расписание — несколько первых ходок я предпочитаю пропустить.
— Нестеренко, у нас с тобой есть два варианта: ты сейчас же мне честно во всем сознаешься, и суд, принимая во внимание твое содействие, вынесет справедливый советский приговор, или же…
— Или же?
— Или же есть путь второй... Думаю, тебе, человеку военному, объяснять не нужно. Скажу только, что путь этот потребует от меня применения всех методов оперативной работы…
— Прямо всех?
— Да, Нестеренко, всех!
— Что ж, в таком случае я предпочитаю его.
— Хорохоришься, значит?
— Хочу, чтобы невиновность моя была доказана всеми возможными способами, гражданин начальник!
— Ну что ж…
«Ясно», — недовольно ворчит Харон и, выбросив окурок, отталкивается веслом от берега.
Покамест нам не по пути.
Так и не сумев наскоро усадить меня в кимбий, следователь Перепелица вынужденно открывает многомесячный марафон допросов, в котором одни наши встречи оказываются стремительными, как влюбленность, а другие совершенно бесконечными, как боль.
— Ладно, Нестеренко, сегодня мы с тобой вот с чего начнем: расскажи мне, за сколько сгорает человек?
— Что?
— Я спрашиваю тебя, за сколько сгорает человек?
— За жизнь! — вырывая волосок из носа, отвечаю я.
— Нестеренко!
— Человек сгорает за полтора часа, товарищ следователь.
— Я уже говорил тебе, что я тебе не товарищ!
— Простите великодушно…
— Продолжай!
— Если причиной смерти становится расстрел, — спокойно и подробно объясняю я, — в ведерке с прахом остаются пули — одна, иногда две…
— Разве пули не плавятся при такой высокой температуре?
— Это зависит от сердечника…
— Понимаю… Показывай дальше!
— А что дальше?
— Нестеренко, показывай с того места, на котором вы со следователем остановились в Москве, рассказывай относительно ночи, когда в крематорий приехал Голов и потребовал от тебя выдать ему прах Зиновьева и Каменева…
— Понял, показываю дальше: обыкновенно пули из праха никто не извлекал…
— Почему?
— Потому что на все пули не хватило бы ведер…
— Так, давай без литературы!
— Давайте…
— Значит, Голов потребовал от тебя прах Зиновьева и Каменева, верно?
— Верно. В ту ночь Голов действительно потребовал, чтобы я вынес ему прахи больших товарищей Советского Союза Зиновьева и Каменева, из которых он собственноручно на моих глазах извлек пули…
— Зачем?
— А мне почем знать? Может, на зубы хотел переплавить?!
— Нестеренко, давай мы сразу с тобой договоримся, что обойдемся без шуток! Я сказал без шуток, понял?!
— Да…
— Таких, как ты, у меня здесь целый корабль! Я не позволю тебе тратить мое время, усек?!
— Еще как…
— А теперь продолжай! Для чего, по-твоему, гражданин Голов потребовал от тебя пули из прахов Зиновьева и Каменева?
Хороший вопрос, только стоит ли на него отвечать? Как думаешь, сможет ли товарищ следователь поверить в то, что я расскажу? А если и поверит, то что с того? Что это может изменить? На что повлиять? Внутрипартийные ритуалы — вещь изощренная и сложноподчиненная. Нужен ли ему свой собственный Вергилий?
— Отвечай, говорю!
— Думаю, что, исполняя приказ, Голов очистил пули и отвез их товарищу Ягоде…
— Для чего, по-твоему, эти пули нужны были Ягоде?
— Сложно сказать…
— А ты представь!
— Думаю, что как человек сентиментальный для собственного удовольствия, теша самолюбие или наслаждаясь местью, а вполне возможно и то и другое, Генрих Ягода некоторое время держал эти пули в ящике письменного стола, однако, когда его самого расстреляли, памятные артефакты перекочевали в шуфлядку к товарищу Ежову, которого тоже, как вы знаете, кончили…
— Что такое шуфлядка?
— Когда я служил в Барановичах, так называли выдвижной ящик стола…
— Ясно. Продолжай показывать про пули…
— После Ежова пули, надо полагать, предложили товарищу Берии, однако он, будучи человеком не столько умным, сколько суеверным, думаю, отказался…
— Нестеренко, я последний раз тебя предупреждаю — оставь свои шуточки и остроты!
— Да пожалуйста, но вы же сами спрашиваете, а я отвечаю…
— Ты утверждаешь, что Ягода и Ежов хранили пули расстрелянных Зиновьева и Каменева только для собственного удовольствия?
— Других причин не вижу…
— Ясно. Тебе известно, кто расстрелял их?
— Кто стоял за расстрелом или кто непосредственно выполнял?
— Кто выполнял?
— А какая разница?
— Вопросы здесь задаю я!
— Понятно… Зиновьева и Каменева расстрелял товарищ Блохин…
— Почему ты в этом так уверен?
— Это было видно невооруженным…
— Поясни!
— Я почерк Василия Михайловича Блохина хорошо знаю и работу его чрезвычайно ценю…
— В каком смысле?
— В таком смысле, что Блохин всегда аккуратен. Он труженик и настоящий профессионал. С уважением подходит к собственному делу, а следовательно, и к моему. Такие люди редкость.
— Поясни, говорю!
— Блохин всегда стреляет так, что пуля проходит в затылок снизу вверх, оставляя череп целым. Когда приговор в исполнение приводят его помощники, перекладывая трупы, я нередко вынужден собирать ошметки голов, что отнимает лишнее время. Согласитесь, если за ночь вам необходимо кремировать пятнадцать-двадцать человек, отвлекаться на такого рода хлопоты глупо. Впрочем, осечки бывают даже у Блохина. Несколько лет назад тело мужчины, которое я уже загружал в печь, подало вдруг признаки жизни. Вероятно, занятый рутинной работой, Блохин выстрелил как-то не так, и пуля не задела мозг, или что-то еще — не знаю, ведь Блохин расстреливал десятки тысяч осужденных, и, конечно, помарки при таких объемах могли быть… В общем, мужик тот оказался жив. Кажется, он даже соображал, что происходит…
— И?
— Что и?
— Что ты сделал?
— А что я должен был сделать? Конечно же я пришел на помощь товарищу!
— Какому товарищу?
— Блохину! Какому же еще?
— Нестеренко!
— Вам ли не знать, гражданин начальник, что нужно сделать с человеком, который по документам уже расстрелян, а на деле еще жив?
— Я спрашиваю, что ты сделал?! Выстрелил еще раз?!
— А чем бы я выстрелил? Взглядом? У меня табельного оружия нет. К тому же, зачем пулю тратить? Блохин приподнял мужчину за волосы и несколько раз ударил затылком о тележку. Когда все мы убедились, что осужденный мертв, я кремировал его...
Подобные истории, милая, действительно случаются — большой поток. В последние годы расстреливают много, к тому же на местах постоянно просят увеличить лимит. Всем хочется доказ
...