автордың кітабын онлайн тегін оқу Сны


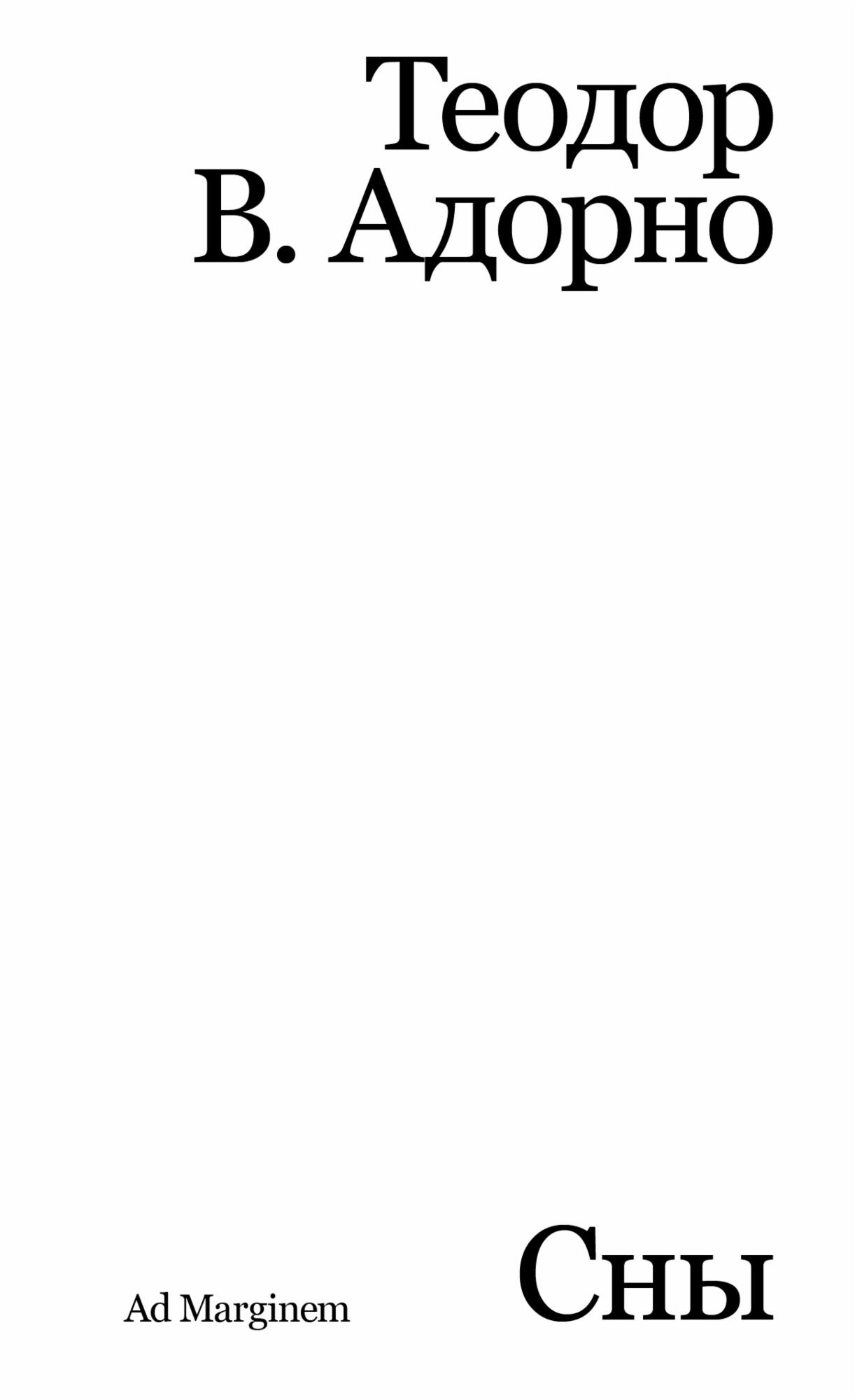
От редакторов немецкого издания
В начале января 1956 года Адорно записал две мысли, подтверждающие его особый интерес к самой идее сновидения и к связи между его собственными снами. Первая звучала так: «Определенный сновидческий опыт дает мне основание полагать, что человек переживает собственную смерть как космическую катастрофу». И другая мысль: «Наши сны не только связаны друг с другом, будучи „нашими“, но и образуют некий континуум, принадлежащий целокупному миру, подобно тому как все рассказы Кафки развертываются в „Томжесамом“. Но чем теснее сны друг с другом связаны или повторяются, тем выше опасность, что мы уже не сможем отличить их от действительности». За этим вторым размышлением следует рассказ о сне, который он записал по памяти 9 января 1956 года. Важность мотивной связи между снами натолкнула его на мысль отобрать некоторые из них и опубликовать. Эта подборка, не издававшаяся при жизни Адорно и включенная Рольфом Тидеманом в 20-й том собрания сочинений [1], сохранилась в машинописи, которой Адорно предпослал следующее пояснение: «Записи сновидений, отобранные из обширного запаса, являются аутентичными. Я записывал сразу по пробуждении и исправил для публикации только самые грубые языковые ошибки». Под «обширным запасом» понимается не только большое количество «протоколов» сновидений, сохранившихся в записных книжках Адорно, но и рукописный конволют, с дипломатичной точностью сработанный Гретель Адорно на их основе. Предлагаемое издание дополняет ранее опубликованные записи сновидений теми, что сохранились в указанной машинописи Адорно. Сравнение машинописных копий с оригинальными записями показывает, что там, где Адорно редактировал текст, он действительно правил в основном языковые погрешности, которыми чревата поспешная запись, и, кроме того, заменил большинство имен собственных инициалом, инициалами или парафразами, такими как «мой друг» или «мой доктор». Например, «Руди» — так свои называли Рудольфа Колиша — он заменил на фамилию. С другой стороны, имена, появление которых в своих записях он счел приемлемым, были сохранены. За исключением некоторых очевидных описок, рукописные копии Гретель Адорно не подвергались орфографической и пунктуационной правке и публикуются без сокращений. Несколько ошибок, сделанных Гретель Адорно при расшифровке, были исправлены по рукописи Адорно, как и даты двух снов от 1 февраля и 22 мая 1942 года, уже опубликованных в собрании сочинений Адорно. Дополнения редакторов указаны в квадратных скобках. Некоторые имена собственные анонимизированы; в одном случае имя (Эдуард) было заменено на фамилию (Штойерман).
[1] Adorno Th. Gesammelte Schriften. Bde. 1–20. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1969–1986. (Далее ссылка на это издание обозначается аббревиатурой GS с указанием тома. — Здесь и далее примеч. пер.)
Сон черен, как смерть.Теодор В. Адорно
Франкфурт, январь 1934 года
Во сне я ехал с G. [2] в большом комфортабельном автобусе из Понтрезины в Нижний Энгадин. Автобус был полон, и в знакомых не было недостатка: среди них оказались заядлая путешественница, художница P., и старый профессор-инженер с женой. Однако маршрут пролегал не по Энгадинскому шоссе, а неподалеку от моих родных мест: между Кёнигштайном и Кронбергом. На резком повороте автобус сильно занесло вправо, и переднее колесо надолго, как мне показалось, зависло надо рвом. «Я это уже видела, — сказала, сообразивши, художница, заядлая путешественница. — Пройдут считаные секунды, потом автобус перевернется, и никто не выживет». В тот же миг автобус опрокинулся. Внезапно я оказался на ногах, лицом к лицу с G., оба целы и невредимы. Хотелось расплакаться, когда я произнес: «Я так хотел бы прожить с тобой еще немного». Только тут я почувствовал, что всё мое тело раздавлено. Умерев, я проснулся.
Оксфорд, 9 июня 1936 года
Сон: Мне явилась Агата [3] и произнесла глубоко опечаленным голосом: «Раньше, дитя мое, я всегда говорила тебе, что мы увидимся после смерти. Сегодня же я могу сказать тебе только одно: я не знаю».
Оксфорд, 10 марта 1937 года
Я оказался в Париже без гроша в кармане, но хотел посетить один особенно элегантный бордель, Maison Drouot (на самом же деле Hôtel Drouot — известнейший аукционный дом, торгующий антиквариатом). Я попросил у Фриделя [4] взаймы 200 франков. К моему великому изумлению, он дал их мне, но сказал при этом: ссужаю тебе их только потому, что в Maison Drouot подают превосходную еду. Там, в баре, не встретив ни единой девушки, я съел бифштекс, получив такое наслаждение, что забыл обо всём остальном. Мясо было приготовлено в белом соусе.
Другой сон, ранее в ту же ночь, был связан с Агатой. Она сказала: «Дитя мое, только не сердись, но, если бы у меня были два настоящих талера, я бы отдала за них всю музыку Шуберта».
Лондон, 1937
(во время работы над «Эссе о Вагнере»)
Сон назывался то ли «Последняя авентюра Зигфрида», то ли «Последняя смерть Зигфрида». Действие происходило на необычайно большой сцене, которая не столько изображала, сколько являла собой настоящий пейзаж: небольшие утесы и обильная растительность, слегка похожая на ту, что можно встретить на высокогорных альпийских лугах. Зигфрид шел по этому сценическому ландшафту, направляясь к заднику, в сопровождении кого-то, кого я не в силах припомнить. Одежда его была наполовину мифической, наполовину современной, будто шло что-то вроде репетиции. Наконец он настиг цель, своего противника — персонажа в костюме для верховой езды: серо-зеленый льняной костюм, бриджи, коричневые сапоги. Он вступил с ним в поединок, и схватка явно носила характер развлечения: заключалась она, по сути, в том, что он валял своего поверженного противника по земле, словно борясь, чему противник, похоже, поддавался с удовольствием. Вскоре Зигфриду удалось уложить того на лопатки так, что плечи коснулись земли, и он был объявлен побежденным. Неожиданно Зигфрид вытащил из кармана куртки небольшой кинжал, который носил наподобие авторучки с маленьким зажимом. Он, как бы играя, метнул кинжал в упор, в грудь противника. Противник громко застонал, и стало ясно, что это женщина. Она тут же убежала, заявив напоследок, что теперь ей придется умереть в одиночестве в своем домике и это будет самым трудным. Она скрылась в здании, напоминающем здания Дармштадтской колонии художников. Зигфрид послал за ней своего спутника с поручением присвоить ее сокровища. Затем в глубине сцены появилась Брюнхильда в образе нью-йоркской статуи Свободы. Она крикнула тоном сварливой жены: «Мне хочется иметь кольцо, хочу красивое кольцо, не забудь забрать у нее кольцо». Так Зигфрид добыл кольцо нибелунга.
Нью-Йорк, ноябрь-декабрь 1938 года
Мне снилось: Хёльдерлина звали Хёльдерлин, потому что он играл на холюндерфлёте [5].
Нью-Йорк, 30 декабря 1940 года
Перед самым пробуждением: я стал свидетелем сцены, запечатленной в стихотворении Бодлера «Дон Жуан в аду» — вероятно, по мотивам картины Делакруа. Но это была не стигийская ночь, а ясный день, причем — американский народный праздник у воды. Там стоял большой белый щит — реклама пароходной пристани — с кричаще-красной надписью «ALABAMT» [6]. У барки Дон Жуана была длинная узкая труба — как у паромного судна («Паром Серенада»). В отличие от Бодлера, герой не молчал. Одетый в свой испанский — черно-фиолетовый — костюм, он говорил без умолку и был криклив, как уличный торговец. Я подумал: безработный актер. Но ему мало было бурных речей и жестов — он принялся безжалостно колотить Харона, который оставался до сей поры безмолвным. Он растолковывал тому, что является американцем и не потерпит ничего подобного, его нельзя запирать в ящик. Его приветствовали бурными аплодисментами, как чемпиона. Затем он прошел мимо публики, отделенной от него кордоном. Я вздрогнул; всё это показалось мне нелепым, но больше всего я боялся настроить толпу против нас. Когда он подошел к нам, А. сказал что-то похвальное по поводу его талантливого исполнения. Ответ его, недружелюбный, я забыл. Потом мы начали расспрашивать о судьбе персонажей «Кармен» на том свете. «Микаэла, она хорошо выглядит?» — спросил А. «Плохо», — сердито ответил Дон Жуан. «Но с Кармен всё хорошо», — успокоил я его. «Нет», — только и сказал он, но, похоже, гнев его утих. Затем с Гудзона протрубил сигнал: восемь часов, и я проснулся.
Нью-Йорк, 8 февраля 1941 года
Я был на борту корабля, который брали на абордаж пираты. Они, а среди них были и женщины, забрались на борт. Но силой моего желания их удалось одолеть. В любом случае в следующей сцене уже решалась их судьба. Всех их должны были убить: расстрелять и сбросить в воду. Я возражал, но не из человеколюбия. Жаль было, что женщин убивали, так и не насладившись ими. Со мной согласились. Я вошел в каюту — низкую переговорную, какие бывают на средних размеров пароходах, — где держали в плену пиратов. Они сидели в доисторической тишине. Мужчины, крепко связанные, были одеты в старинные одежды. Перед каждым лежал на столе заряженный пистолет. Красоток было, наверное, пятеро, все одеты по-современному. Я отчетливо помню двух. Одна — немка. Она была в точности, что называется, дамой полусвета: в красном платье, с пергидрольными волосами барменши, немного полноватая, но довольно хорошенькая, в профиле ее было что-то овечье. Другая была совсем юной очаровательной мулаткой, одетой довольно просто — в коричневое вязаное платье из шерсти, какие можно увидеть в Гарлеме. Женщины вышли в соседнее помещение, и я велел им раздеться. Они повиновались — дама полусвета сделала это немедленно. Но мулатка отказалась. «Это стиль института, — сказала она по-английски, — а не цирка». Когда я спросил ее, о чем речь, она пояснила, что жизнь в цирке, каковую она ведет, настолько обыденна, что обнаженное тело никого не интересует. А в моем окружении, мол, всё по-другому. Поэтому моя сестра (= L) не упускает возможности продемонстрировать свое тело как можно откровеннее».
Лос-Анджелес, 22 мая 1941 года
Мы шли, Агата, мама и я, по горной тропе из красноватого песчаника, знакомого мне по Аморбаху. Но мы были на западном побережье Америки. Слева внизу простерся Тихий океан. В какой-то момент тропа, кажется, стала круче или даже непроходимой. Я решил поискать дорогу правее, среди уступов и кустарника. Сделав несколько шагов, я вышел на большое плато. Я думал, что нашел дорогу. Но вскоре обнаружил, что растительность повсюду скрывает самые крутые скалы и нет никакого способа добраться до простирающейся вглубь материка равнины, которую я по ошибке принял за часть плато. Там, с пугающей регулярностью, я видел группы людей с инструментами, возможно землемеров. Я поискал дорогу обратно, к первой тропинке, и нашел ее. Когда я вернулся к матери и Агате, дорогу нам перешла смеющаяся пара, негры: он — в свободных клетчатых брюках, она — в сером спортивном костюме. Мы продолжили путь. Вскоре мы встретили чернокожего ребенка. Должно быть, мы находимся недалеко от поселения, сказал я. Там было несколько хижин или пещер, высеченных в песчанике или вырубленных в горе. В одну из них вели ворота. Мы прошли через ворота и, охваченные радостью, остановились на площади перед резиденцией Бамбергов. — Старый рынок Шнаттерлох в Мильтенберге.
Лос-Анджелес, 20 ноября 1941 года
В мой первый вечер в Лос-Анджелесе мне приснилось, что я иду на свидание в кафе — в Париже? — с девушкой самых легких нравов. Она опаздывала. Наконец меня позвали к телефону в будке. Я крикнул в трубку: «Ты идешь наконец?» — и еще что-то интимное. Мне ответил по-английски приглушенный голос издалека: «Это профессор Макайвер». Он желает рассказать мне что-то очень важное о курсах института. Он произнес также что-то вроде «недоразумение» по-немецки. Что он сообщил далее, я не разобрал, еще слишком поглощенный мыслями о девушке, да и голос его доходил слишком невнятно.
Лос-Анджелес, январь 1942 года
На Унтермайнкай во Франкфурте я застал парад арабской армии. Я попросил короля Али Фейсала пропустить меня, и он дал разрешение. Я вошел в красивое здание. После некоторых непонятных процедур меня направили на другой этаж, к президенту Рузвельту, у которого там был небольшой кабинет. Он очень тепло меня встретил. Но тоном, каким разговаривают с детьми, он сказал, что мне не нужно постоянно быть начеку и я могу спокойно взять книгу. Сменялись всевозможные посетители, едва ли занимая мое внимание. Наконец появился высокий загорелый мужчина, и Рузвельт представил меня ему. Это был Кнудсен. Президент объяснил, что теперь пойдет речь о делах оборонного ведомства и он вынужден попросить меня выйти. Но мне непременно нужно было увидеть его снова. На маленьком исчерканном клочке бумаги он написал свое имя, адрес и номер телефона. — Лифт доставил меня не к выходу на первый этаж, а в подвал. Там-то и таилась самая большая опасность. Если бы я остался в шахте, лифт меня раздавил бы; если бы я спасся, забравшись на возвышение вокруг (я едва дотягивался), я бы запутался в тросах и кабелях. Кто-то посоветовал мне попробовать другое возвышение, находящееся неизвестно где. Я сказал что-то о крокодилах, но последовал совету. И тут появились крокодилы. У них были головы необыкновенно прелестных женщин. Одна из них успокоила меня, сказав, что быть съеденным совсем не больно. Чтобы облегчить мне это, она заранее пообещала мне прекраснейшие вещи.
В одну из следующих ночей
Я был с мамой на постановке «Мейстерзингеров». Весь сон разворачивал
