автордың кітабын онлайн тегін оқу Путь избавления. Школа странных детей
Шелли Джексон
Путь избавления. Школа странных детей
Shelley Jackson
Riddance
© 2018 by Shelley Jackson
© Ю. Змеева, перевод на русский язык
© ООО «Издательство АСТ», 2020
* * *
Посвящается Шибире – когда-нибудь ты это прочитаешь
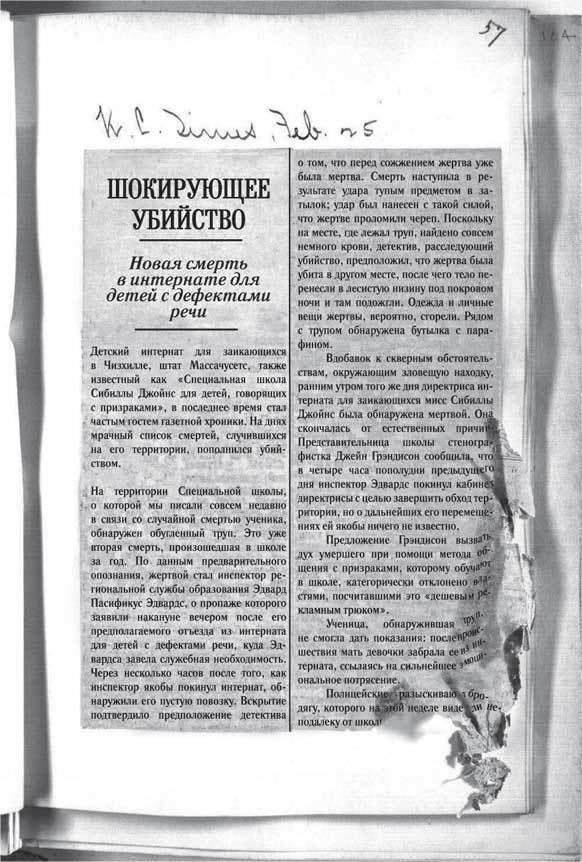
Предисловие редактора
О Специальной школе Сибиллы Джойнс я узнал благодаря одной книжной лавке и одному призраку.
Я хорошо помню тот день в тогда еще незнакомом городе несколько лет назад. Свинцовое небо, затянутое облаками, и почти непрерывный отдаленный рокот грома. Я приехал на научную конференцию, выскользнул из безобразного и уже обшарпанного, хоть и нового здания, где она проводилась, из этого тесного кроличьего садка, куда нас загнали, и очутился в безлюдном деловом квартале. Я чувствовал себя немного виноватым, что пропускаю презентацию коллег, но не мог вынести больше ни минуты их отупляющего пустословия.
Я оказался в унылом районе, не предназначенном для пеших прогулок, где здания занимают целые кварталы, а на улице глазу не за что зацепиться, кроме разве что клочка бумажного мусора, безвольно волочащегося по мостовой под дуновением ветерка, или уличного знака, внезапно начинающего вибрировать и так же внезапно замирающего. Завернув за угол, я с облегчением увидел ряд маленьких магазинчиков, хотя и те выглядели невзрачно: сигарная лавка с опущенными ставнями, винный подвальчик, где усталый продавец в заляпанной рубашке-поло неохотно поднялся со стула, чтобы продать мне бутылку тепловатой воды, и неосвещенный книжный магазин, дверь которого подалась, стоило толкнуть ее, открыв глазу темные узкие проходы между покосившимися полками. Тут и там проход преграждала сошедшая лавина книг, а маленькие уютные пустоты между книжными стопками поросли не паутиной, а чем-то более пушистым, вероятно, кошачьей шерстью – запах в лавке намекал на присутствие животных. Проход в подсобку занавешивало старое полотенце с цветочным узором; за ним кто-то копошился и шуршал.
Я наклонился за книгой, стоявшей в плотно утрамбованном ряду на нижней полке, но со вскриком отдернул руку. На кончике пальца проступила капля крови. Сперва я решил, что книга меня укусила, но нет, я ошибся: снизу послышалось шебуршание и поспешно удаляющийся топоток когтистых лап. Несомненно, это был кот, потревоженный в одном из своих укрытий. Я снова наклонился и подцепил пальцем тканевый переплет вверху корешка; книга застряла намертво и не поддавалась, но я потянул сильнее и выдернул книгу, а заодно и соседнюю, а вместе с ними и тоненькую брошюрку, зажатую между двумя томами. Переплет при этом с треском надорвался. Я виновато задвинул книгу обратно на полку, даже не взглянув на нее, и поднял брошюрку и вторую книгу, для чего мне пришлось встать на колени. Информационная брошюрка 1950-х годов описывала механизм работы гидроэлектрических плотин; книга, выпавшая вместе с первой, – учебник по дикции 1910–1920-х, – раскрылась посередине, и я увидел на странице отпечаток газетной вырезки, которую, должно быть, использовали как закладку; вырезка так долго пролежала в книге, что типографская краска с газеты оставила след на книжной странице. У торговцев редкими книгами принято называть такие отпечатки «призраками» – удачное название, учитывая, что этому фантому предстояло стать первым в череде призраков, ворвавшихся в мою жизнь буквально минутой позже.
Сама же газетная вырезка, должно быть, выскользнула и упала на пол. Я стал искать ее и нашел под коленом; от времени она пожелтела и истончилась. Совместив заметку с ее бледным отпечатком, я наконец смог прочитать, о чем в ней говорилось.
Шокирующее убийство
Новая смерть в интернате для детей с дефектами речи
Детский интернат для заикающихся в Чизхилле, штат Массачусетс, также известный как «Специальная школа Сибиллы Джойнс для детей, говорящих с призраками», в последнее время стал частым гостем газетной хроники. На днях мрачный список смертей, случившихся на его территории, пополнился убийством.
На территории Специальной школы, о которой мы писали совсем недавно в связи со случайной смертью ученика, обнаружен обугленный труп. Это уже вторая смерть, произошедшая в школе за год. По данным предварительного опознания, жертвой стал инспектор региональной службы образования Эдвард Пасификус Эдвардс, о пропаже которого заявили накануне вечером после его предполагаемого отъезда из интерната для детей с дефектами речи, куда Эдвардса привела служебная необходимость. Через несколько часов после того, как инспектор якобы покинул интернат, обнаружили его пустую повозку. Вскрытие подтвердило предположение детектива о том, что перед сожжением жертва уже была мертва. Смерть наступила в результате удара тупым предметом по затылку; удар был нанесен с такой силой, что жертве проломили череп. Поскольку на месте, где лежал труп, найдено совсем немного крови, детектив, ведущий расследование, предположил, что жертва была убита в другом месте, после чего тело под покровом ночи перенесли в лесистую низину и подожгли. Одежда и личные вещи жертвы, вероятно, сгорели. Рядом с трупом обнаружена бутылка с парафином.
Вдобавок к скверным обстоятельствам, сопровождавшим зловещую находку, ранним утром того же дня директриса интерната для заикающихся мисс Сибиллы Джойнс была обнаружена мертвой. Она скончалась от естественных причин. Представительница школы, стенографистка Джейн Грэндисон сообщила, что накануне в четыре часа дня инспектор Эдвардс покинул кабинет директрисы, чтобы завершить обход территории, но о дальнейших его перемещениях ей якобы ничего не известно.
Предложение Грэндисон вызвать дух умершего при помощи метода общения с призраками, которому обучают в школе, категорически отклонено властями, посчитавшими это «дешевым рекламным трюком».
Ученица, обнаружившая труп, не смогла дать показания: после происшествия мать девочки забрала ее из интерната, ссылаясь на сильнейшее эмоциональное потрясение, которое той довелось пережить.
Полицейские разыскивают бродягу, которого на этой неделе видели неподалеку от школы.
Я прочел, а затем перечитал газетную вырезку, которая буквально рассыпалась в руках: от краев отделялись кусочки, порхали в воздухе, оседали на грязный, провонявший кошками ковровый ворс. Я никогда не слышал о Специальной школе Сибиллы Джойнс для детей, говорящих с призраками. И одно лишь упоминание о ней пробудило мое любопытство, так как я считал, что об американском спиритуализме конца XIX – начала XX века и его представителях мне известно все. Открытие заинтересовало меня и по другой причине: предметом моих научных изысканий являлись ставшие весьма популярными и распространенными в последнее время речевые исследования – «лекарства» от заикания, тренировка дикции, орфоэпия, антиабсурдистская или френотипическая орфография Майора Бениовского («как слышится, так и пишется»), стенография Питмана и Грегга и прочие методы отображения звуков речи на письме посредством произвольного набора символов. Заинтриговало меня и упоминание об убийстве, ведь ничто человеческое мне не чуждо. Удалось ли разгадать загадку? А что если я мог бы ее разгадать? Разумеется, научными методами.
Захлопнув книгу со столь любопытным вложением внутри, я прижал ее к груди. У меня вдруг возникло чувство, что кто-то заглядывает в книгу через мое плечо – не призрак, а такой же, как я, перспективный ученый, штудирующий ту же дисциплину и позарившийся на находку, которая пока – но надолго ли? – оставалась только моей.
Думаю, уже тогда я испытал не просто жадность ученого, а нечто большее: мне показалось, что передо мной распахнулась дверь в мир, прежде скрытый от пытливых взглядов. Большинство людей побоялись бы заглянуть в эту дверь, но я заглянул. И увидел… сполохи аквамарина и изумрудной зелени, яркие полосы, брызги расплавленного льда, замерзшего пламени, запах музыки! Я доношу свою мысль неуклюже, но уверен, что хотя бы некоторые поймут меня, узнав, что моей первой мыслью было «да!», а второй – «я помню, как это бывает». И верно, как я мог забыть ту ночь, когда, зарывшись под одеяло с фонариком – время отхода ко сну давно миновало, я нарушал правила, и как сладостно было ощущать себя преступником в моей теплой, залитой золотистым светом пещере-палатке из одеяла – я начал ползти, как думал, обратно к изголовью кровати, но очутился в глубоком тоннеле, конца которому не было, а с потолка тянулись тонкие лианы, задевавшие мой лоб. И вот наконец я выполз из тоннеля и очутился в заснеженной чаще; под кронами разносились щелканье и щебет – сонм механических ангелов репетировал песнь для внимавших им паучат. С тех пор тот ход не открывался много лет, но как я жаждал, чтобы это случилось!
Я вдруг заметил, что в щель между полками за мной наблюдает пара внимательных глаз, и, вздрогнув, выронил книгу. Очевидно, это был кот, с которым мы уже познакомились. Тем временем хозяин книжной лавки отдернул шторку-полотенце и появился в дверном проеме, глядя на меня без особого интереса.
– Не стесняйтесь, швыряйте книги сколько угодно, – процедил он, – все равно это никому не нужное старье.
– Простите, – поспешно отвечал я, – эту я куплю. – Хозяин прибавил налог на карманном калькуляторе и, хоть деньги и взял, с явным сожалением проследил за книгой, исчезнувшей в моей сумке.
Я с головой погрузился в изучение всего, связанного со Специальной школой Сибиллы Джойнс, и чем больше узнавал, тем сильнее изумлялся. До сих пор не понимаю, как вышло, что о заведении, в стенах которого разразился не один громкий скандал и чьи адепты вели оживленные споры с именитыми интеллектуалами того времени, несколько десятилетий никто не вспоминал. Странность эту можно объяснить снижением интереса к спиритуализму, но лишь отчасти. Полагаю, память о школе и происходивших там событиях подавлялась осознанно: ведь если мертвые и продолжают жить среди нас, общественность в массе своей предпочитает ничего об этом не знать.
Но стоило начать копать, и упоминания о Специальной школе стали попадаться повсюду. Статьи об убийстве инспектора из других печатных изданий нашлись на микрокарте, и я собрал достаточно материала для небольшой научной работы. Мой труд хорошо приняли, и я приступил к новому, более существенному исследованию, отдавая себе отчет в том, что коллеги мои тоже заинтересовались этой темой, но уверенный, что они не посмеют заступить на занятую мной территорию.
В рядах ученых, да и не только, нередки случаи, когда материалы по заинтересовавшей теме начинают попадаться буквально на каждом шагу, даже там, где меньше всего ожидаешь их найти. В этом нет ничего сверхъестественного, просто наблюдатель настраивает свое внимание на определенные вибрации и начинает чаще замечать их. Но меня все же поразила быстрота, с которой рос мой архив. В секонд-хенде на Мэдисон мне попался ежегодник школы Сибиллы Джойнс с подборкой весьма любопытных фотографий школьных мероприятий. На улице в Филадельфии, где я спокойно прогуливался, меня в висок ударил бумажный самолетик, вылетевший из открытого окна над моей головой; вверху послышался сдавленный смешок. Самолетик оказался страницей из старой книги о спиритуалистах Лили-Дейла; Специальная школа Сибиллы Джойнс упоминалась на странице вскользь. А в одном из множества пакетов с занятнейшими старыми книгами и газетами, оставленными на тротуаре в Нью-Йорке неразборчивыми (и, вероятно, неграмотными) уборщиками, выносящими хлам из квартиры умершего жильца, обнаружилась стопка пожелтевших листков, испещренных буквами неизвестного мне алфавита. Страницы были пронумерованы, датированы и подписаны детским почерком: «Бетти Клэмм, СШ Сибиллы Джойнс для детей, говорящих с призраками».
Порой кажется, что в интернете можно найти все истории, когда-либо рассказанные людьми, и все, что еще предстоит рассказать. Интернет похож на сказочную многоуровневую библиотеку: между стеллажами в полузабытьи бродят читатели, а утром дежурные библиотекари, каждый из которых отвечает за свою секцию, оставляют на их подушках уведомления об астрономических штрафах за книги, о которых читатели даже не слышали, штрафах, написанных бледнеющими и исчезающими на глазах чернилами, сделанными из капель ночного пота, тех самых, что покрывают ваш лоб, когда вы, вздрагивая и задыхаясь, просыпаетесь от кошмара. Стоит ли говорить, что я ничуть не удивился, обнаружив упоминание о школе Сибиллы Джойнс в давно почившей рассылке группы исследователей, посвятивших себя изучению трудов французского философа, чье имя мне было не знакомо, а ныне я его уже забыл. Ученый тот отличался тем, что использовал непонятные, но чрезвычайно поэтичные словосочетания, состоящие из странных или непривычных комбинаций обычных слов. Не вникая в суть довольно оживленной дискуссии и даже радуясь своей непричастности к теме обсуждения, я выхватил из диалога одну вскользь оброненную фразу: «…как это делали предприятия рубежа XIX и XX веков, наживавшиеся на тогдашней моде на спиритуализм: к примеру, Специальная школа Сибиллы Джойнс для детей, говорящих с призраками». Само собой, ученые из рассылки знали о школе Сибиллы Джойнс из литературы, подобной той, которую изучал я. Еще больше меня удивило упоминание о школе в отзыве покупателя о водонепроницаемых туфлях, покупкой которых я озаботился. Я никак не ожидал встретить отсылку к малоизвестному учебному заведению прошлого века («такие туфли могли бы носить ученики спецшколы Сибиллы Джойнс») в контексте отзыва на водоотталкивающую обувь! Но действительно, туфли выглядели довольно консервативными, и было нетрудно представить себе ученого средних лет – например, одного из адресатов вышеупомянутой рассылки, – надевающего их, чтобы шлепать по зимней слякоти в ближайшую библиотеку.
Эта будничная картина ненадолго избавила меня от мыслей о сверхъестественных совпадениях, однако всего через несколько дней я получил письмо от некой дамы, представившейся директрисой Специальной школы Сибиллы Джойнс для детей, говорящих с призраками. Дама грозила судебным преследованием, если я немедленно не откажусь от своих планов опубликовать антологию, составленную на основе документов, якобы добытых «пиратским» способом; она утверждала, что является единственной обладательницей прав на публикацию этих документов. Об этих планах я пока не сообщал никому. Мало того – план даже не оформился в моей голове!
Сперва я подумал, что кто-то решил надо мной подшутить, но вместе с тем не мог не заметить необычное построение фраз и архаичные обороты, характерные для документов, относящихся к раннему периоду существования школы Сибиллы Джойнс. Я продолжил читать, чувствуя, как участилось мое дыхание. Однако, когда мои глаза, проворно и все еще недоверчиво скользящие по листу, остановились на подписи внизу, я резко отодвинул стул от стола, оставив на лакированном полу четыре царапины (о чем позже пожалел), вскочил и направился в кухню, где уставился невидящим взглядом в раковину. Безумная уверенность овладела мной: теперь я ни капли не сомневался, что школа Сибиллы Джойнс не только продолжает существовать по сей день, но и ее необыкновенная, пугающая и несомненно мертвая директриса, знакомая мне по вороху пожелтевших документов, шепоту ветра в сточных трубах, шелесту опавших листьев и моим собственным снам, удивительным образом тоже продолжает существовать. Не сомневался я и в том, что все сказанное в письме – чистая правда. Не претензии на авторские права, не имевшие юридической силы, а утверждение, что автором письма является реинкарнация Сибиллы Джойнс в четвертом поколении, то есть человек, способный вызвать к жизни призрак и стать его проводником.
Разумеется, любой мало-мальски умелый фальсификатор сумел бы скопировать и сильный наклон, и угловатость почерка Джойнс; моя уверенность не имела рациональной основы, она больше смахивала на одержимость.
Внизу письма я увидел ссылку на интернет-страницу, ввел ее в браузер и оказался на сайте, который вполне мог принадлежать современному уважаемому учебному заведению. Старинная фотография здания Специальной школы на главной странице; стоковые фотографии детей (по всей видимости, учеников) с карандашами наготове; инструкции для заочников. Вам, возможно, покажется странным, почему я сразу не наткнулся на этот сайт, когда искал информацию о школе, и действительно, это меня насторожило. Позднее я узнал, что сайт запустили незадолго до того, как я получил письмо; я, должно быть, стал одним из первых его посетителей. И снова у меня возникло ощущение, будто школу Сибиллы Джойнс придумали специально для меня, будто она материализовалась из моего к ней интереса, волоча за собой свою историю, как прикрепившуюся плаценту.
Я сделал несколько звонков и наконец услышал в трубке хриплый и властный голос, потрескивающий, как старая граммофонная пластинка. Обладательница голоса подтвердила, что ее зовут Сибилла Джойнс. Я обратился к ней с благоговейным почтением, соглашаясь со всем, что она говорила. Это возымело умиротворяющее действие, и мисс Джойнс, кажется, прониклась ко мне симпатией. В конце концов она не только согласилась на публикацию антологии [1], но и предоставила мне доступ к чрезвычайно ценным материалам из архивов школы – настолько обширным, что включить их в мое исследование целиком не представляется возможным. (Однако я не теряю надежды, что эта антология окажется не последней в списке моих трудов.)
Замечание для исследователей: историк, изучающий документы, связанные со Специальной школой Сибиллы Джойнс, сталкивается с трудностями совершенно особого рода. Дело в том, что хроникеры и архивисты школы придерживались негласного мнения, что человеческое «я» является лишь придатком голоса, не принадлежащего никому или же принадлежащего мертвым. Таким образом, установить авторство документов, относящихся к школе, было бы весьма проблематично, даже если бы под каждым стояла подпись – а в большинстве случаев подпись отсутствует. Скажем, весь авторитет нынешней директрисы Специальной школы зиждется лишь на ее способности продемонстрировать, что она является голосом предыдущей, которая являлась голосом предыдущей, и так далее. То есть получается, что она занимает свой пост и является той, кем является, лишь потому, что не является той, кем является, и настаивать на сколько-нибудь строгой приверженности биографическим «фактам» в данном случае означает не понимать, с чем мы имеем дело.
Современность грешит тем, что все эксцентричное – а под «экс-центричным» я подразумеваю все, что расположено чуть дальше обычного от того, что мы привыкли считать «центром», не исключая, впрочем, что этот центр, вероятно, является иллюзией – автоматически относится нами к одной из двух категорий: мы считаем его симптомом болезни, излечившись от которой, пациент возвращается в «центр»; или же новым центром, куда все должны стремиться. Истиной считается то, с чем почти все согласны; нам кажется, что раз большинство подтверждают что-то, это и есть истина. Но мне больше по душе теория о том, что существует множество малых истин, которым не суждено захватить умы всего человечества; идеи, более сложные в обосновании, но для меня из-за этого и более ценные, не являющиеся ни истиной, ни ложью, а находящиеся где-то посередине, в сумеречной зоне. Или, если хотите, в пространстве между реальностью и вымыслом. Осмысливая их, мы переживаем то, что, должно быть, переживают ангелы и оборотни, и узнаем, что между человеческим и не-человеческим есть незапертая дверь, а за ней лежит порог шириной в целый мир.
Поскольку я принадлежу к большинству и умею возвращаться к центру (мне даже немного жаль, что я обладаю этой способностью), невзирая на регулярные добровольные отлучки к периферии, я вижу ценность в том, что для истинных эксцентриков не представляет никакого интереса: в практической пользе от своих сумеречных изысканий. Ведь никто никогда не приходил к открытию абсолютной истины и нового центра, не поблуждав сперва в сумерках и не прослыв немного эксцентриком.
Однако на каждого колонизатора найдется бесчисленное множество путешественников, которые останутся навек блуждать в манящих зарослях непознанного, а в письмах на родину будут сообщать и больше, и меньше, чем нам хотелось бы знать. Ведь в сумеречной зоне каждое слово можно истолковать по-разному, а есть слова, которым и вовсе нет толкования; словолианы, словочерви, словодымки, слововодоросли. Весомость этих слов не определяется их смыслом. Директриса Джойнс говорит на этом языке, как на родном, ведь несмотря на то, что Специальная школа отмечена на картах Массачусетса в окрестностях Чизхилла, ее истинный адрес – сумеречная зона.
Поскольку эксцентричное не дает покоя тем, кто цепляется за центр, и досаждает им, как настырно повторяющийся сон, в последние годы о директрисе Сибилле Джойнс написано много не соответствующего истине. Дошло даже до того, что некоторые засомневались в ее существовании («и я их понимаю», – сказала бы она в ответ на эти сомнения). Но она действительно существовала и была не более безумна, чем любой оригинал, всецело убежденный в истинности своих взглядов; какими бы преходящими мотивами она ни руководствовалась, ее основной мотивацией всегда было стремление понять и постичь. Хотя следует уточнить, что в ее случае глубочайшая истина не могла быть постигнута напрямую, а транслировалась опосредованно, передавалась ей, подобно инфекционному заболеванию, и постигнув ее, она, конечно же, не поняла бы, с чем имеет дело.
На этих страницах найдется довольно загадок и для философов, и для сотрудников полиции, но я не ставлю своей целью разгадать их. Я собирался написать научный труд с элементами детективного романа, но отказался от этого корыстного плана. Попытки вытолкать эксцентричное на яркий свет рациональных доводов привели к тому, что оно оказалось не таким уж эксцентричным. Но ценность его в том, что тьма, излучаемая самой дальней частью спектра, попав на черно-белую страницу, начинает переливаться всеми оттенками благородного пурпура.
Любой, кто побывал в стране мертвых в реальности или фантазиях (а между первым и вторым не такая уж большая разница, как может показаться), наверное, уже догадался, что книгу эту можно читать с любого места. Для менее опытных путешественников я проложил маршрут. Две переплетающиеся тропы проведут нас через события одного вечера: одна из них – рассказ директрисы, вторая – ее стенографистки. Следуя им, читатель дойдет до конца, но дойдет ли он туда в целости – вот в чем вопрос. Между двумя основными нитями, подобно ритмичному орнаменту, вклиниваются дополнительные материалы научного, социологического и метафизического характера. Те, кто не желает вдаваться в научные подробности и хочет скорее добраться до конца истории, вправе пропустить эти вкрапления (возможно, даже стоит это сделать). Однако истинные эксцентрики найдут в них то, что давно искали – карту или, быть может, руководство к действию.
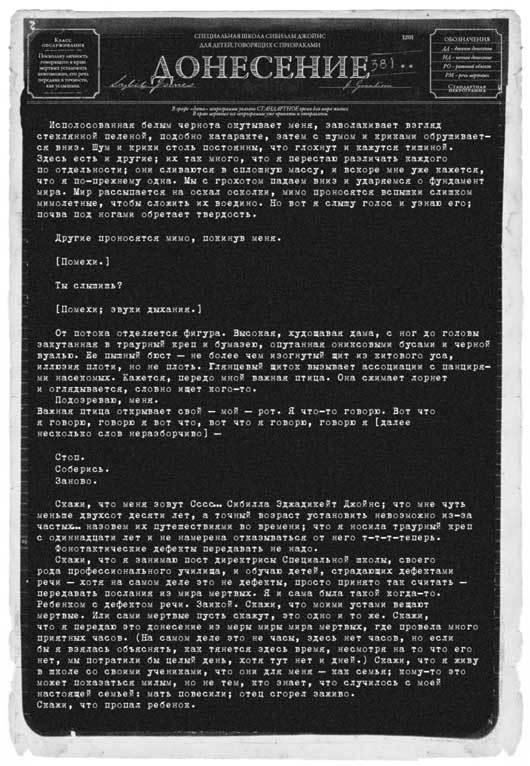
Не будем также забывать, что она сама подкинула мне эту идею. Так согласилась ли она на публикацию или сама предложила ее? – Здесь и далее, кроме иных пометок, примечания автора.
1. Последнее донесение
Записано стенографисткой № 6 (Д. Грэндисон)
со слов директрисы Джойнс
17 ноября 1919 года
Этот удивительный документ – послание из страны мертвых, надиктованное директрисой Сибиллой Джойнс за одну ночь, предшествующую ее кончине, с помощью передатчика ее собственного изобретения. Любая вылазка в потусторонний мир сопровождается такого рода комментариями. Порой бессвязные и двусмысленные, они тем не менее являются бесценным источником информации о непознанных сферах некрокосмоса. Есть у них и более важная функция: для некронавта эта нить повествования – жизненная необходимость, ведь она в буквальном смысле связывает его с миром живых.
Поскольку мы обитаем в мире, где есть категория времени, отправляясь в страну мертвых, мы должны взять с собой свое человеческое время, иначе мы не испытаем ничего и даже не поймем, где побывали. Согласно доктрине Специальной школы Сибиллы Джойнс, время в мире мертвых существует, пока некронавт продолжает говорить: в безвременье края мертвых мы прокладываем себе путь словами. Те становятся нашей батисферой, и с их помощью мы создаем и свое присутствие, и ландшафт, по которому перемещаемся. Надиктованное послание – и есть путешествие, в самом реальном смысле. Данное послание надиктовано в спешке человеком слабого здоровья, находящимся в крайнем эмоциональном возбуждении, поэтому оно кажется более спутанным, чем другие. Лишь самым смелым и подготовленным читателям следует брать на себя риск и читать приведенную ниже расшифровку.
На первый взгляд донесение выглядит как непрерывный связный монолог, но из показаний Джейн Грэндисон (стенографистки и преемницы Джойнс) нам известно, что монолог часто прерывался паузами различной продолжительности. В учении Специальной школы молчание так же важно, как и речь, и я долго думал над тем, как лучше отобразить эти долгие паузы на бумаге, ведь нетерпеливый читатель вполне может пролистнуть пустые страницы или грубую транслитерацию звуков, изредка прерывавших тишину.
В конце концов я решил разделить послание на отрезки, выделив продолжительные непрерывные монологи, а вместо тишины вставить между монологами другие документы. Однако читателю следует помнить, что перед ним один документ, представленный без сокращений. В идеале эту книгу следует прочесть «в один присест», начав примерно в четыре часа пополудни и завершив примерно в тот же час, когда закончилось путешествие Сибиллы Джойнс. – Ред.
Исполосованная белым чернота окутывает меня, заволакивает взгляд стеклянной пеленой, подобно катаракте, затем с шумом и криками обрушивается вниз. Шум и крики столь постоянны, что постепенно стихают и уже кажутся тишиной. Здесь есть и другие; их так много, что я перестаю различать их по отдельности; они сливаются, и вскоре мне кажется, что я по-прежнему одна. Мы с грохотом падаем вниз и ударяемся о фундамент мира. Мир рассыпается на оскал осколки, мимо проносятся вспышки – слишком мимолетные, чтобы сложить их воедино. Но вот я слышу голос и узнаю его; почва под ногами обретает твердость. Другие проносятся мимо, покинув меня.
[Помехи.]
Ты слышишь?
[Помехи; звуки дыхания.]
От потока отделяется фигура. Высокая, худощавая дама, с ног до головы закутанная в траурный креп и бумазею, опутанная ониксовыми бусами и черной вуалью. Ее пышный бюст – не более чем изогнутый щит из китового уса, иллюзия плоти, но не плоть. Глянцевый щиток вызывает ассоциации с панцирями насекомых. Кажется, передо мной важная птица. Она сжимает лорнет и оглядывается, словно ищет кого-то.
Подозреваю, меня.
Важная птица открывает свой – мой – рот. Я что-то говорю. Вот что я говорю, говорю я вот что, вот что я говорю, говорю я [далее несколько слов неразборчиво] —
Стоп.
Соберись.
Заново.
Скажи, что меня зовут Сссс… Сибилла Эджадикейт Джойнс; что мне чуть меньше двухсот десяти лет, а точный возраст установить невозможно из-за частых… назовем их путешествиями во времени; что я носила траурный креп с одиннадцати лет и не намерена отказываться от него т-т-т-теперь.
Фонотактические дефекты передавать не надо.
Скажи, что я занимаю пост директрисы Специальной школы, своего рода профессионального училища, и обучаю детей, страдающих дефектами речи – хотя на самом деле это не дефекты, просто принято так считать – передавать послания из мира мертвых. Я и сама была такой когда-то. Ребенком с дефектом речи. Заикой. Скажи, что моими устами вещают мертвые. Или сами мертвые пусть скажут, это одно и то же. Скажи, что я передаю это донесение из меры миры мира мертвых, где провела много приятных часов. (На самом деле это не часы, здесь нет часов, но если бы я взялась объяснять, как тянется здесь время, несмотря на то что его нет, мы потратили бы целый день, хотя тут нет и дней.) Скажи, что я живу в школе со своими учениками, что они для меня – как семья; кому-то это может показаться милым, но не тем, кто знает, что случилось с моей настоящей семьей: мать повесили; отец сгорел заживо.
Скажи, что пропал ребенок.
[Помехи; звуки дыхания.]
Ты слышишь?

Рассказ стенографистки Дж. Грэндисон
17 ноября 1919 года
Юная Джейн Грэндисон стенографировала последнее послание директрисы Джойнс, сидя на своем обычном посту у медного раструба передатчика. По всей видимости, она делала следующие ниже автобиографические заметки в периоды затишья, о которых мы уже упоминали. Стоило директрисе замолчать, и Джейн вставляла в пишущую машинку чистый лист, а как только директриса снова начинала говорить, меняла его на старый. Я представляю две стопки бумаги на рабочем столе, растущие по очереди – сначала одна, потом другая (не стану высказывать весьма спорное предположение о том, что листки в стопках могли перемешаться); хотя упоминание о «ночи» во втором абзаце свидетельствует о том, что Грэндисон приступила к написанию своих заметок примерно в то же время, когда рассказ Джойнс близился к середине, следовательно, моя воображаемая картина с двумя стопками не совсем верна. Тем не менее, я предпочел чередовать их рассказы, так как это соответствует духу повествования, пусть даже идет вразрез с реальной хронологией. Как и последнее донесение Сибиллы Джойнс, рассказ стенографистки разбит на части и прерывается другими материалами.
Помимо бесценных сведений о личностях первой и второй Сибиллы Джойнс (простите мне этот онтологический солецизм, я понимаю, что разграничивать личности в данном случае не совсем уместно), в автобиографии Грэндисон живо описано первое впечатление от приезда в Специальную школу для детей, говорящих с призраками; описание это, впрочем, мы слышим из уст человека со столь тонкой нервной организацией, что я, хоть и не являюсь экспертом, осмелюсь предположить, что Джейн Грэндисон страдала недиагностированной неврастенией. – Ред.
Тихий дребезжащий голос директрисы умолк. Медный раструб передатчика, похожий на диковинный гигантский цветок – Дельфийский оракул, иерофант – перестал вибрировать; механизм остановился. Лишь легкое шипение, доносящееся из глубин передатчика – организма, состоящего из молоточков слоновой кости, медной проволоки, каучуковых камер и бумажных перегородок, плотно приткнувшихся друг к другу внутри футляра красного дерева, подобно органам, занимающим каждый строго отведенное ему место внутри брюшной полости, – свидетельствует о том, что канал открыт, на моих глазах по-прежнему происходит чудо.
У меня есть минута, а то и больше, и можно собраться с мыслями. Ночь предстоит длинная. На все, что требуется, времени должно хватить. Но чтобы суметь исполнить свой долг, я должна понять, кто я. Когда я засомневалась в ответе на этот вопрос? Вероятно, еще в самый первый день.
Мне было одиннадцать лет, я могла написать свое имя задом наперед и зеркально, но не могла произнести его, и уже несколько раз видела мертвых. Меня не пугала перспектива услышать их. Так я и сказала тетке, когда та, притворившись удивленной, вручила мне письмо из Специальной школы Сибиллы Джойнс для детей, говорящих с призраками: «Мы рады предложить вам место… Полный пансион… Просьба ответить как можно скорее». Я поняла, что тетка решила избавиться от меня, и гордость велела мне ответить «да» в любом случае, но мое «да» шло от сердца. И сейчас, когда блестящий черный автомобиль, выглядевший слегка угрожающе и взятый нами напрокат в Спрингфилде, нес меня вперед к новому месту учебы, дыхание мое участилось, но не от страха, а от любопытства и предвкушения.
Машина наскочила на камень, и я схватилась за потолок. После Чизхилла дорога стала хуже, теперь она представляла собой две параллельные колеи. Моя сопровождающая – чопорная, мертвенно-бледная дама в траурном вдовьем одеянии – дважды постучала тростью по спинке водительского сиденья.
– Эй, вы! На нас места живого не останется!
Темно-коричневые, почти черные пальцы крепче схватились за руль.
– Надо обогнать грозу, мэм, – если дождь пойдет, я по этой дороге домой до завтра не вернусь.
И верно, ветер нес с собой запах ливня, а в просветах между кронами деревьев виднелись грозовые тучи, сгущающиеся над горами, хотя над нами все еще светило солнце.
– Грозу, говорите? Вы что же, дитя малое, грозы бояться? Заночуете в школе.
Водитель не ответил, лишь погнал быстрее.
Я говорила, что видела мертвых – так вот, то были моя мать и Битти. Обеих унес грипп. Отец умер задолго до того – Битти тогда еще грудь сосала. Сказать по правде, если бы они заговорили, я бы испугалась. Но я почему-то знала, что они не заговорят. И мне вполне хватало их молчания.
Я смотрела на проносившиеся за окном деревья сквозь свое неподвижное отражение. Оно угрожающе нависло надо мной – моя точная копия с тяжелым оценивающим взглядом. Я же упрямо смотрела сквозь него и впитывала все, что видела; все казалось необычным, чудесным, хотя само по себе было совершенно непримечательным – темные леса, затопленные поля, маленькое, заросшее камышами зловонное озерцо и одинокая цапля на перевернутой красной лодке с проломленным дном, готовящаяся взлететь. Я приподнялась на сиденье, словно тоже собиралась взмыть в небеса.
– Не ерзай, дитя.
Булавкой бы ткнуть эту мисс Тень, подумала я, устремив холодный взгляд на две булавки, которыми черная фетровая шляпа моей сопровождающей крепилась к прическе – длинные, с круглыми черными наконечниками. Не глядя на меня, мисс Тень неловко заерзала на сиденье, а я догадалась, что, как и моя тетка, спутница моя испытывала к цветным те же чувства, что к паукам и змеям: даже рядом с самыми маленькими представителями нашего рода ей было неуютно. Догадка эта ничуть не удивила меня; впрочем, и не обрадовала.
Я нарочно отвернулась к окну, но поскольку теперь сидела, откинув голову, взору моему не открывалось ничего интересного: только ветки, небо и мое отражение. Я была невысокой, тщедушной девочкой, темнокожей и несуразной, и отражение в стекле лишь подтвердило это. В жизни я достаточно насмотрелась в зеркала и не питала надежд. Надежд когда-нибудь стать красивой и заполучить все, что к красоте прилагается.
Не то, чтобы я была безобразна, нет; но на моем лице застыло унылое, жесткое, оценивающее выражение, не делавшее меня привлекательной. Впрочем, оно полностью соответствовало моей природе. Жизнерадостность была мне несвойственна.
С упрямством летящего на свет мотылька я смотрела в ту сторону, где, по моим расчетам, должна была находиться школа. Перед отъездом мне показали фотографию большого здания из черного камня; перед ним стояла высокая женщина с белым крупным мужским лицом, одетая в длинное черное платье, и выстроившиеся в шеренгу дети с черными повязками на рукавах; среди них были цветные, как и я. Мне сказали, что «девочка с такими выдающимися способностями», как у меня – я и не догадывалась, что у меня есть способности, тем более выдающиеся, – может учиться в школе бесплатно, и получать стол и кров. Сказать по правде, дополнительные удобства меня мало интересовали: я бы и за меньшие отправилась хоть в Монголию, хоть на Луну.
Мне казалось невероятным, что я вырвалась из теткиного дома, что наконец-то уезжаю. Заикание, причинившее мне столько бед, стало моим билетом на свободу.
Мне было всего семь лет, когда я впервые услышала Голос (так я его про себя называла). Тогда, после окончания карантина, я переехала в большой дом своих дяди и тети в Бостоне. Голос рычал и плевался у меня в глотке, а новые опекуны били меня ремнем для правки бритв, не зная другого способа исправить мой недостаток. Они добивались лишь одного: чтобы я слилась с бесцветной толпой их собственных детей, которых у них было шестеро или семеро. Увы, это не представлялось возможным. Во-первых, от других меня отличал темный цвет кожи – моя мать, как и тетка, была ирландкой, белой, как мел, но отец – черным. Тетка делала вид, что не замечает этого, но то и дело подсовывала мне отбеливающие кремы и зонтики – единственные предметы роскоши, которыми я обладала. Однако никто не стал утруждать себя попытками исправить мое заикание. Даже малышка Аннабель, ходившая в подгузниках, скоро сообразила, что, передразнивая меня, можно насмешить старших братьев и сестер и заслужить одобрительную улыбку взрослых.
Я до сих пор ее помню, хоть картинка уже начала блекнуть: топающие по паркету толстые ножки, подгузник из тонкой шерсти, скрепленный одной-единственной булавкой.
(«Моя шляпа!» – возмущенно воскликнула мисс Тень, когда автомобиль подпрыгнул на очередном ухабе, и дешевые перья смялись, ударившись о потолок. Она вынула булавки, осмотрела шляпу на предмет повреждений, положила ее на сиденье между мной и собой и стала придерживать жилистой рукой.)
Несмотря на издевки, я ни минуты не сомневалась, что со мной все в порядке, хоть у меня и не было причин так думать. Если бы я тогда подозревала, что заикание – это признак «редкой природной способности общаться с призраками» (о чем впоследствии мне сообщила мисс Тень), я бы гордилась этой своей особенностью, сколько бы надо мной ни насмехались теткины дети. Но я не знала об этом и пыталась бороться с Голосом. Тот неизменно побеждал. В моем детстве были периоды, когда я говорила, почти не заикаясь, а было время, когда я не могла произнести ни слова, и если полисмен на улице спрашивал у меня дорогу или учительница в школе просила назвать столицу Литвы, я оказывалась в довольно неловком положении. Я научилась обходиться жестами и звуками – показывала пальцем, мычала, не считая это ниже своего достоинства. Но нас отличает от животных способность говорить, и мне часто ставили это в укор; для окружающих я была не совсем человеком.
А в Специальной школе много таких детей, как я, есть даже те, кто заикается сильнее. Вот бы встретиться с теми, кто хуже меня. Есть там, наверное, такие, кто пускает слюни? Трясет головой и шипит, как гусь?
Дома – я имею в виду дядин и тетин дом в Бостоне – на стене висела картина. Когда-то она украшала стенку пчелиного улья в одной славянской стране; не знаю, как она попала к дяде с тетей и зачем они ее оставили. По соседству с мерцающим хрусталем, абажурами с бахромой и темной мебелью из отполированного до мягкого блеска красного дерева картина выглядела варварски, чужеродно. Грубое изображение женщины с разинутым ртом, из которого высовывается ужасающе длинный язык; точнее, не сам высовывается – его вытягивает громадными щипцами голый черт. Занятно, что человеческий язык словно настроен враждебно к главному органу речи; недаром мы пренебрежительно называем «язычниками» невежественных дикарей. С одного конца язык на картинке разветвлялся, и я приняла эти разветвления за корни, подобные корням дерева. В одной из моих книг мне попалось упоминание о том, как язык кому-то вырвали «с корнем», и с тех пор он представлялся мне чем-то вроде овоща, а не частью тела, занимающей в нем положенное место. Мой собственный опыт это подтверждал: у меня во рту росло нечто чужеродное, теплое и живущее своей жизнью. Поэтому изображенное на картинке казалось мне отчасти реальным, и в полудреме мое воображение рисовало страшные картины: если мой язык не вырвать с корнем, как морковку, он разрастется и займет еще больше места, зацветет и покроется семенами. На самом деле не язык, а Голос пророс в моей глотке, как сорняк, и не было щипцов, способных выдрать его. Но если и нашлись бы такие щипцы, то дьявол, ими орудующий, был бы женщиной с мужским лицом в черном платье.
Автомобиль снова подпрыгнул на ухабе, и стукнувшийся о грудь подбородок царапнула жесткая грубая ткань нового платья – прощального подарка тетки. Более любящая и любимая воспитанница могла бы обидеться, что ее так поспешно выпроваживают вон, но я была рада. О, как же я радовалась! Ненавистная тетка Маргарет. Ее ненавистные дети. Ненавистный дом. И ненавистная я, покуда оставалась в этом доме. Там я была плохой, злой, настолько злой, что при воспоминании об этом сглатывала комок в горле, пугалась себя и даже восхищалась собственным злонравием; но теперь я злой не буду. Я буду хорошей, такой хорошей, что никто никогда больше не выпроводит меня вон.
Шляпа мисс Тени так и лежала на сиденье рядом; черные наконечники булавок поблескивали среди перьев, как пара глаз. Шляпа следила за мной, проникала в мои мысли, а думала я о том, как легко было бы потянуться и всего двумя пальцами…
Мне пришлось вцепиться в сиденье двумя руками. Машину тряхнуло; она закачалась и снова подпрыгнула. Мисс Тень негодующе фыркала носом. Мы подъехали к самому разбитому участку дороги: водосточная канава вышла из берегов и залила путь, размыв глину между крупных камней. Мне стало любопытно, что станет с дорогой, если нас здесь застанет гроза, но уже в следующее мгновение я отвлеклась.
Внутри меня, в самой середине живота, что-то натянулось и надорвалось; я почти слышала треск разошедшихся швов, затем ощутила, как что-то мягко выскальзывает вниз. То ускользала моя прошлая жизнь, выпадая из меня, как закладка из старой книги. Переживания, еще недавно казавшиеся реальными, рассыпались в прах. Двоюродные братья и сестры, тетка, солонина с капустой, печаль, наваливавшаяся на меня, как медленная и неумолимая глухота – существовало ли все это на самом деле? Я охотно поддалась воле, которая была гораздо сильнее моей, и позволила увлечь себя к новому началу.

Документы
Мое детство
Следующий документ, предположительно написанный самой Сибиллой Джойнс, активно обсуждался в критической литературе. Я получил его в виде файла pdf от представителя Специальной школы на довольно позднем этапе своих исследований, когда уже перешел к составлению этой антологии. Впоследствии я обнародовал этот документ, снабдив его комментариями и представив как скромное, но все же, открытие. Разумеется, он произвел переполох, так как пролил свет на ранний период жизни директрисы, представив ее фигуру в новом и гораздо более интимном ключе. Мой авторитет в научном мире не оставлял сомнений, но после того, как документ приобрел канонический статус – а случилось это очень быстро, – ряд небольших анахронизмов в тексте начал вызывать вопросы научного сообщества, и в конце концов несколько крупных ученых пришли к единодушному выводу, что это подделка, и заявили об этом публично в ходе моего выступления в Гёттингенском университете по случаю вручения мне почетного звания, нанеся тем самым немалый урон моей репутации.
Залившись краской, все еще сжимая в руках пергаментный свиток с кисточкой (та непонятно как зацепилась за мои очки) и жалея о выпитом шампанском, я был вынужден тут же отстаивать подлинность документа, то есть, по сути, защищать свою репутацию честного ученого. Вместе с тем у меня засосало под ложечкой, и едва ли шницель с клецками был тому виной – то дали о себе знать мои собственные сомнения, возникшие, когда документ оказался у меня в руках.
Наконец группа ученых из Нидерландов попросила разрешения взглянуть на оригинал, написанный от руки, – то есть сделала то, что изначально следовало сделать мне. Спор разрешился мгновенно: оказалось, что оригинал написан шариковой ручкой. Как известно, Ласло Биро запатентовал шариковую ручку в июне 1938 года, а Джойнс скончалась задолго до этой даты. Я тут же деликатно пошел на попятную, не упоминая, как ко мне попал документ, дабы никого не обидеть. Но вопросы остались. Если я стал жертвой розыгрыша, какова была цель? Неужели представители Специальной школы не заинтересованы в моем проекте? И если так, зачем они пытаются казаться заинтересованными? Почему подделка настолько хороша в одном отношении (автор документа, несомненно, был прекрасно осведомлен о делах Сибиллы Джойнс и Специальной школы) и настолько плоха в другом (неужели сложно было раздобыть чернильницу и перо)? Наконец, как быть с тем, что подделка проясняет многие невнятности в документах, подлинность которых не оставляет сомнений? Стоит ли принять содержащиеся в ней сведения хотя бы как гипотезу, если не факт? Прочитав историю директрисы, пусть даже и поддельную, я почувствовал, что многое встало на свои места; узнав о подлоге, я уже не смог вернуться к прежнему восприятию. Вымысел присвоил себе факты; я больше не воспринимал их отдельно от вымысла.
Я поделился своими соображениями с научным сообществом, и после длительных обсуждений мы с опаской написали коллективное письмо представителям Специальной школы – настоящий шедевр деликатного иносказания, крайне тактичный запрос более подробной информации о происхождении спорного документа. Мы даже предположили, что представители школы сами стали жертвой фальсификатора, которым мог оказаться кто-то в их собственных кругах. Ответ пришел почти мгновенно, ошеломив и встревожив нас своей честностью.
Разумеется, документ современный! Его составили всего за несколько дней до того, как отправить мне! Директриса решила, что моей книге не повредит больше автобиографических сведений о ней, и поспешила их мне предоставить. Идет ли речь о новой директрисе? И да, и нет. Новая, старая – в контексте Специальной школы бессмысленно их разграничивать, ведь новая директриса и есть старая. Она продолжает занимать свой пост лишь до тех пор, пока ее устами говорит призрак Сибиллы Джойнс.
Это заявление не только дискредитировало документ, о котором шла речь, но и бросало тень сомнения на все якобы «исторические» материалы, которые представители школы присылали мне до этого. Но они этого не понимали. В ответ на мое беспокойство из-за возможных обвинений в плагиате мне присылали эмодзи, разводящие руками. Бессмысленно настаивать на верификации авторства, если «НИКТО из нас не является своим хозяином в полной мере» и «ВСЕ мы – не более чем рупор для мертвых». (Выделение заглавными буквами, как в оригинале.) Мне прямо заявили, что моя бессмысленная настойчивость свидетельствует о неверии в способность мертвых говорить, а значит, я рискую испортить наши отношения со Специальной школой и утратить доступ к бесценному источнику информации о ней.
И я пошел на попятную.
Для себя я решил, что этот документ хоть и является современным, сведения в нем правдивы, и я не стану исключать его из серьезных исследований, касающихся истории Специальной школы. Однако позволю читателю самому определить, кого сей документ характеризует лучше – старую директрису, новую или нас, ученых. – Ред.
С детства меня преследовала сильнейшая, инстинктивная уверенность в том, что я – не такая, как все. Однажды рядом со мной упала кость, отскочила от земли и чуть не ударила меня в голову; она как будто бы упала с большой высоты, но оглянувшись, я не увидела вокруг ничего, кроме старой лошади, щипавшей траву вдалеке, на краю поля. Значит, та кость была знамением – не от Бога, не от кого-то там, наверху, а просто знамением, сообщавшим, что я не такая, как все, и со мной будет случаться всякое странное. В другой раз колибри, нацелившись полакомиться бругмансией, сменила курс и вместо цветка доверчиво села мне на палец, обхватив его коготками. Я прежде и не догадывалась, что у колибри есть лапки, но теперь чувствовала их на своей коже и сумела хорошенько разглядеть и ее пульсирующую радужную шею, и хохолок с тонкими перышками, и жидкий блестящий глаз. Даже после того, как птица встрепенулась и вспорхнула, я продолжала ощущать ее теплое когтистое прикосновение, невидимым кольцом сжимавшее мой палец; я словно обручилась с этим невероятным мгновением. Не восторг я ощутила в тот момент, нет, а подтверждение своих ожиданий, того, что я знала и раньше: я окончательно утвердилась во мнении, что на свете есть чудеса, это и еще множество других, из которых состоит жизнь, как ожерелье состоит из нанизанных на шнурок разноцветных стеклянных бусин.
– Напомни, как тебя зовут? – спрашивает Сюзанна, а Мэри кашляет, закрыв рот толстой веснушчатой ладошкой. Сюзанна – моя соседка, живет за забором, отделяющим нашу зеленую лужайку от ее пожухлой, заросшей сорняками; через этот забор мы сейчас и переговариваемся. Отец Сюзанны работает на фабрике моего отца. Как и отец Мэри. Мэри знает, как меня зовут.
Дыхание в горле затвердевает и превращается в стекло; я давлюсь, пытаясь выплюнуть его, давлюсь снова и снова. Язык в передней части рта никак не хочет стоять ровно, приводя меня в бешенство; он тщетно колотится о зубы.
– Сссссс… – отвечаю я, но вряд ли это можно считать ответом.
Сюзанна склоняет набок сияющую золотистую головку, и я заливаюсь краской. Мне стыдно не только за невнятный звук, который я издаю – прерывистое шипение, – но и за волосы, прилипшие к шее, за ссадины там, где натирает платье, за указательный палец, на который я накручиваю юбку, словно желая задушить его. Мне стыдно за сам факт своего существования. Как будто моя истинная сущность проявилась из тумана и намеков лишь сейчас, когда мой неповоротливый, влажный, резиновый язык решил заявить о себе.
Мне так стыдно, что я не желаю больше оставаться собой. Я не испытываю никакого сочувствия к этой несчастной, лишь страх и отвращение. Судьи взирают на мой рот с пытливостью коронера, разглядывающего улики. Мне хочется подать сигнал, что я на их стороне, что я тоже настроена против себя. Но для этого нужно заговорить.
– Сссссссс…
Я наклоняюсь вперед, затем назад, склоняю голову вбок, как будто объясняю что-то сложное полными предложениями. Вытягиваю руку (вторая по-прежнему теребит юбку). Иногда мне удается убедить себя в том, что я уже говорю, и тогда слова начинают литься сами собой. Но сейчас трюк не срабатывает. Мне по-прежнему не удается вымолвить ни слова, я ничего не говорю; молчание, тишина – вот мое имя.
Девчонки хихикают. Открывается задняя дверь. Взвизгнув, они убегают.
– Иди в дом, Сибилла, – говорит отец.
Представьте меня девятилетней или десятилетней пухлой девочкой с кошмарными волосами. Жесткий цилиндрический лиф гнойно-желтого платья из органди собирается в складки под мышками, где уже растекаются темные круги пота; шелковые чулки сползли до самых туфель из свиной кожи. Я заикаюсь так сильно, что подбородок заливает слюна, поэтому чаще предпочитаю молчать. Мой дефект, а также высокое общественное положение родителей не располагает ко мне других детей; впрочем, и родители не питают ко мне особой нежности. Отец воспринимает мое заикание как личное оскорбление, а меня – ходячим (и притом молчаливым) упреком своим амбициям. Он-то, конечно, надеялся на сына – идеального наследника мужского пола, который однажды занял бы его место. Но вместо сына родилась я, и отец обвинял в этом несчастье мою слабохарактерную мать и ее неблагородную матку. Мать печально и молчаливо с ним соглашалась.
Я воспринимала бы нежелание окружающих иметь со мной что-либо общее не так остро, если бы вокруг было бы хоть что-то достойное разглядывания. Но Чизхилл был и остается унылым захолустьем. Он стоит на болотистых, поросших камышом берегах маленькой, невзрачной, мелкой и мутной реки. Примерно раз в десять лет река разливается, превращаясь в неумолимое бурое чудище, и сносит дома вместе с фундаментами вдоль всей Коммон-Плейс-роуд. Таким образом, любые исторические здания, если они когда-то и были в Чизхилле, стираются с лица земли раз в десять лет; когда я была маленькой, город мог похвастаться лишь одной такой постройкой (сейчас и ее смыло) – фабрикой пианино, унаследованной моим отцом от своего отца, на чем наследная линия и оборвалась (моя ничтожная личность не в счет). Фабрику построил двоюродный дед отца на небольшой каменистой возвышенности, в честь которой, вероятно, город и получил свое название (при чем тут сыр – Чиз-хилл – я не имею понятия); впрочем, та едва ли заслуживала называться холмом, так как возвышалась над остальным городом лишь самую малость.
Вероятно, мои предки решили назвать эту кочку холмом, чтобы возвыситься в собственных глазах, доказать себе, что холм, а, скорее, даже фабрика, на нем построенная, является в городе самым важным местом, поскольку во всей округе не было других предприятий и большинство местных жителей работали именно там. Можете себе представить реакцию последних, когда фабрика сгорела, а я отказалась отстраивать ее заново на деньги, полученные от страховой компании, – а мне выплатили порядочную компенсацию. Вместо этого несколько лет спустя я купила и отремонтировала заброшенные корпуса Чизхиллского исправительного дома для заблудших девиц, вопреки местной традиции, построенные над поймой и довольно далеко от города, среди настоящих холмов. По замыслу начальства исправительный дом был построен так далеко от города, чтобы заблудшие девицы не могли заразить распущенностью благочинных девушек Чизхилла или заманить в свои развратные сети благовоспитанных чизхиллских юношей, что, однако, не останавливало последних, регулярно совершавших паломничества на территорию исправительного дома в надежде увидеть какие-нибудь примеры распущенного поведения. В одну из таких вылазок и произошло событие, которое лично я считаю пренеприятнейшим – речь о знакомстве моих родителей. Следствием этого происшествия стало то, что моя мать потратила всю оставшуюся жизнь, оправдываясь перед отцом за свою распущенность, которая и привлекла его к ней. Все, что очаровывало его в любовнице, в жене он презирал, и к моменту нашей с ней встречи она превратилась в создание, безмолвное и совершенно бесцветное, если не считать синяков.
Таким же бесцветным был центр Чизхилла (представьте, каких усилий стоило мне не поддаваться унынию, прозябая в этом болоте) – бесцветным в буквальном смысле, ибо местные строители, начисто лишенные воображения, обшивали дома белыми досками, но и в переносном смысле тоже: город по сей день не оправился после закрытия главного предприятия, главная улица пустынна, в небольшой городской библиотеке книг раз-два и обчелся, паб держится на плаву лишь благодаря паре пьяниц, невидящим взглядом встречающих любого незнакомца, по ошибке заглянувшего в это заведение в надежде насладиться очаровательной атмосферой маленького городка. Лишь пожарная часть может похвастаться новенькой блестящей пожарной машиной и новым слоем краски – но тут на ум приходит пословица «после пожара, да по воду» (это я не о краске, а о машине).
Вероятно, в Чизхилле все-таки было что-то не совсем отталкивающее, но хоть убей, не могу припомнить, что именно.
Ах да, улитки. Полчища улиток. Самые жизнерадостные городские обитатели, по ночам они пировали в огородах, а днем отсыпались, укрывшись в панцирях и прицепившись к дощатой обшивке стен. Не все любят улиток, это факт, но мне всегда нравилось наблюдать за изящной молодой улиткой, вытягивающей блестящую шейку. Оптимистично вытаращив глазки на длинных стебельках, она обдумывает, куда бы направиться дальше, и оставляет за собой серебристую полоску слизи. Отец берег свои помидоры и салат как зеницу ока, так как воображал себя увлеченным огородником и часто выписывал семена новых гибридных видов, сочетавшие исключительный вкус и устойчивость к вредителям. Истребление чизхиллских улиток стало для него делом чести, но, в отличие от моих кроликов и матери, те возвращались (не те же самые, конечно, а новые), полные энтузиазма, и продолжали пожирать драгоценный отцовский салат.
В Специальной школе мы не травим улиток, хозяйничающих у нас в огороде, и не топим их в мыльной воде. Наши дети аккуратно снимают их с капустных листьев и относят на край школьной территории. Я выбрала для высадки улиток место специально поближе к огороду нашего ближайшего соседа, и мне ничуть не совестно, хотя во избежание недоразумений я просила детей выпускать пленных ближе к вечеру, когда стемнеет.
Я говорила, что в Чизхилле бывают наводнения. Возможно, вам любопытно, почему, будучи богатейшей семьей в городе (скажу больше – мы были единственной богатой семьей), мы не построили дом выше приливной отметки. Дом наш крепился к фундаменту железными болтами – мера, которую чизхиллские фаталисты принимали редко – но из-за отцовской гордыни тот счел необходимым построить его в самом центре города как свидетельство нашего положения в центре общества, поэтому от наводнений страдали и мы. Отец отказывался эвакуировать нас, слепо веря в свои меры предосторожности, и я хорошо помню, как смотрела в окно второго этажа под тихие всхлипы матери, рыдавшей на кровати, а внизу расстилалась атласная гладь бурых вод, казавшихся почти неподвижными, если бы не проплывавшие мимо ветки, доски, дохлые куры и прочий мусор, время от времени ударявшийся о киль нашего судна (в наводнение наш дом представлялся мне судном) с силой, заставлявшей меня вздрагивать. Как весело было сидеть на верхней ступеньке лестницы – я совсем не испытывала страха, так как к своей досаде знала наверняка, что отец никогда не позволит ничему интересному случиться с нами – и смотреть на грязные волны, плещущиеся у перил всего в нескольких футах внизу и уносящие с собой дешевую эмалевую вазу, которую отец не счел достойной спасения, хотя мать ее любила. Сначала она плыла горлышком вверх и потому возвышалась над водой; затем волны ударили ее о перила, она накренилась, вода залилась внутрь, и ваза потонула. Потом я нашла ее под слоем ила и спрятала подальше.
В тот раз железные болты выдержали; выдержали они и в следующий раз, и в следующий, а потом наконец поддались, но это случилось уже после смерти моих родителей, когда я, молодая директриса, была целиком поглощена делами школы, хозяйственным пристройкам которой тоже грозило наводнение. Но я все же пошла взглянуть на отделившийся от фундамента дом. Он съехал вбок и, подбоченившись, восседал на лужайке, как сдвинутый набекрень щегольской берет; одна сторона его погрузилась в землю, другая задралась. Через дыру в стене я увидела грязную кушетку, а на ней – лосиную голову: не утонувшего лося, а убитого задолго до этого ради раскидистых рогов. Отрубленную голову затем прикрепили к табличке, а табличку повесили на стену, но теперь она рухнула и отдыхала на кушетке после стольких лет, проведенных в вертикальном положении.
Меня всегда занимал вопрос, существуют ли призраки мертвых животных. Я бы с радостью выслушала этого лося. Однако подозреваю, что тот, кто говорить не умеет, не научится этому и после смерти, и, если животные и посещают наши глотки, то лишь для того, чтобы изредка печально тявкнуть или промычать.
Впервые услышав об исправительном доме для заблудших девиц, я представила себе летящую юбку из лоскутков наподобие тех, что носили цыгане, и стала наблюдать за матерью, следя, не готовится ли та в скором времени отбыть в дальний путь. Мне казалось, что «заблудший» от слова «блуждать», ведь именно этим занимались цыгане – блуждали из края в край. Я так живо нарисовала эту юбку в своем воображении, что даже перерыла на чердаке мамины комод и старый сундук с медными скобами, уверенная, что найду юбку среди ее вещей, но, к своему разочарованию, нашла лишь кипу белого, персикового, розового, бежевого и голубого.
То ли оттого, что я искала это в матери, то ли оттого, что она действительно была не от мира сего, мне все время казалось, что она вот-вот покинет нас, сорвется с места и уйдет блуждать. Однажды утром я проснулась в пустом доме, убежденная, что мать наконец ушла. Как была в ночной рубашке и домашних туфлях, с широко раскрытыми и мокрыми от слез глазами, я добежала до самой Коммон-Плейс-роуд, но у дороги, ведущей к воротам фабрики, свернула обратно, так как поняла, что решись мама сбежать, она никогда бы не направилась в ту сторону. Я бросилась обратно к дому, парадная дверь которого так и осталась распахнутой, пробежала через комнаты к заднему крыльцу и там, на ступенях, обнаружила мать, глядевшую на реку. Я села рядом; мать обняла меня, не отрывая взгляда от раскинувшейся перед ней шелковой глади, а я так и не спросила, вернулась ли она ради меня или никогда не уходила.
Когда я лучше стала понимать, что значит «заблудшая», я стала и это качество искать в матери, но та не демонстрировала никаких его признаков; ее распущенности, как и существованию юбки из лоскутков, не находилось никаких подтверждений, хотя отец видел приметы испорченности даже в том, как она вела дом или разговаривала с почтальоном, а после того, как мать, по его мнению, слишком любезно обменялась репликами с зеленщиком, продавшим ей лимоны, попрекал ее этим неделями.
С отчаянной надеждой я наблюдала, как мать поправляет кружевные салфеточки, выравнивает стулья у стола и одергивает юбку перед приходом отца, и, к недовольству своему, не находила в ней ни капли распущенности – только скуку и чопорность. Лишь иногда, в отсутствие отца, она снимала туфли, выходила в сад и стояла босиком на траве под деревьями, совершенно неподвижная и апатичная; эти босые вылазки – все, что осталось от летящей юбки из лоскутков, если та когда-либо существовала.
Помню, как однажды, после того, как мать чересчур фамильярно попросила у мясника баранью ногу, отец ударил ее, а я увидела это в приоткрытую дверь спальни. «Женитьба на тебе стала моим крахом!» – закричал он, упал на пол, стал рвать на себе волосы и бить себя по лицу – то есть делать все то, за чем мне всегда было так весело наблюдать. «Беа, Беа, я так хотел, чтобы все было иначе! Ты простишь меня, Беа?» – причитал он.
Я не выдержала и рассмеялась.
Мать подошла к двери и, прежде чем закрыть ее, взглянула мне в глаза и тихо покачала головой. Одна ее скула распухла, и с той же стороны что-то странное происходило с глазом. За ужином я увидела у нее в глазу блестящий вишнево-красный кружок, наподобие зловещего второго зрачка поднимающийся из-под нижнего века. Испугавшись его пристального взгляда, я уткнулась в тарелку. То, что я увидела на ней, было едва ли не страшнее: тонкая коричневая струйка подливы, вытекающая из-под куска баранины, будто он был ранен и истекал кровью; горстка серой крупы – отец заставлял нас есть полезные злаки; вялые горошины. Когда мать пришла укладывать меня в постель, я в ужасе вжалась в стену.
К моему ужасу примешивалось и отвращение, ведь, подобно отцу, я принадлежала к людям, ненавидящим слабость. Немая покорность матери вызывала у меня негодование, ведь я считала ее существом, во всем намного превосходящим отца и при любой возможности вставала на ее сторону, надеясь, что это побудит ее взбунтоваться. Так, поняв, что отца вывел из себя инцидент с бараньей ногой, я стала повторять это словосочетание как можно чаще. Отчетливо помню, как кричала «Б-баранья нога, б-баранья Н-Н-НОГА!», а он лупил меня линейкой.
Баранину я до сих пор недолюбливаю.
После порки я, само собой, начинала плакать, корчась от боли, и гладить его ноги в беззвучной мольбе. И то была не трусость, как кажется на первый взгляд, а тоже своего рода неповиновение, потому что для моего отца не было ничего более отвратительного, чем пресмыкательство, и я порой задаюсь вопросом, не преследовала ли моя мать ту же цель своим раболепием. «Не ожидал, что моя дочь окажется такой рохлей», – фыркал отец и прекращал мое «воспитание», как он называл избиение, чтобы взяться за изучение брошюры о принципах наследственности: криминальные склонности, расстройства психики и нищета, прослеживающиеся у нескольких поколений обитателей казенных домов; наследственные болезни моллюсков и растений семейства бобовых; история кошки, попавшей в капкан и лишившейся лапы, потомки которой рождались хромыми, и так далее, и тому подобное.
Вы, наверное, догадались, что мой отец принадлежал к людям с научным складом ума, и действительно: он выписывал и регулярно читал журнал «Американский естествоиспытатель», а также ежемесячник «Популярная наука», «Вестник телеграфии и электрики», «Медико-хирургический вестник», «Американский стоматологический журнал», «Практическую санитарию», «Новое в водолечении» и прочие подобные издания, которыми он руководствовался в организации своей жизни, управлении предприятием, моей матерью и мной. Наши полки были заняты сплошь научными трудами, расставленными в соответствии с научной классификацией. Наш дом поддерживали в чистоте последние достижения науки и техники – по крайней мере, так полагал отец, а мать украдкой сметала пыль в тех местах, куда не сумела добраться наша суперсовременная подметальная машина с ручным насосом. Наш рацион был научно составлен, и даже пищу мы пережевывали по науке: жевать полагалось определенное количество раз под счет отца, который прерывался лишь для того, чтобы сообщить нам научные подробности того, что происходило в его пищеварительном тракте, очищавшемся от нечистот благодаря полезным ингредиентам. На случай, если полезные ингредиенты не справятся, у отца всегда были наготове пилюли.
Надеюсь, теперь вам понятна сфера интересов моего отца. Помимо всего прочего, он увлекался фотографией, телеграфией, парфюмерным делом, разведением шелковичных червей, современной санитарией, коллекционированием антикварных десертных ложек, гипнозом, водолечением и новыми методами экстракции сахара из дынь. Иногда его интерес ограничивался лишь критическими наблюдениями, но нередко прочитанное в научных журналах вдохновляло его на организацию целого предприятия; он выписывал оборудование и материалы и предвкушал, как займется совершенно новым видом деятельности, ибо человек столь нетерпеливого холерического нрава не мог довольствоваться управлением фабрикой, полученной по наследству. Однако тот же холерический нрав противился всякой продолжительной упорной работе и не давал ему закончить начатое, поэтому лишь немногие из его авантюр пережили период первоначального страстного увлечения. Порой ему достаточно было лишь выписать оборудование, чтобы удовлетворить свой аппетит; когда же по почте присылали тысячу упаковок колючих семян навозного цвета или некий липкий ком в помятой, потертой, покрытой пятнами и почтовыми ярлыками картонной коробке, он уже забывал, зачем выписал все это и даже что это, собственно, такое.
Но чаще он терял интерес, столкнувшись с первым серьезным препятствием. К тому времени дом успевали заполнить красители всех цветов радуги и стеклянная пыль, образовавшаяся в процессе шлифовки линз, и к делу подключалась мать, пытаясь вернуть хоть что-то из потраченных денег. Гораздо более практичная, чем отец, с годами она научилась перепродавать товары самого разного рода и, бывало, даже выручала на этом какие-то деньги, но, к моему негодованию, никогда не пыталась оставить себе хотя бы часть заработка, увеличив таким образом жалкие суммы, которые выдавал ей отец на все ее и мои нужды, а ведь она легко могла это сделать. Она отдавала всю выручку отцу и терпеливо слушала его недовольное ворчание, ибо тот, разумеется, считал «торгашество» ниже своего достоинства, но все же полагал, что если бы он сам этим занялся, у него получилось бы гораздо лучше, чем у матери. Он задавал ей вопросы о заключенных ею сделках, вероятно, казавшиеся ему умными, и неизменно завершал разговор, сокрушаясь отсутствию у нее делового чутья, хотя именно это чутье не раз спасало нас от бедности, а, вероятно, и разорения, так как бессмысленные отцовские капиталовложения регулярно пробивали в семейном бюджете огромную дыру.
Его расточительность становилась особенно неуправляемой, когда он оправдывал ее научными исследованиями. Отец мнил себя великим ученым, хотя подробности его научной деятельности оставались загадкой даже для него самого. Превыше всех он почитал изобретателей, знал их имена и биографии, и любил рассуждать о собственных изобретениях, которые представит свету, когда будет готов (хоть и не вдавался в подробности о том, что это за изобретения). Излюбленным его занятием было просматривать сообщения о новых патентах; почти каждое сопровождалось раздосадованными возгласами о том, что его «опять опередили» – кто-то запатентовал изобретение, которое он как раз собирался представить в бюро патентов. Наши беседы за семейным столом сводились к монологам отца о последних научных открытиях, многие из которых не имели никакого отношения к его основному роду деятельности – например, он докладывал нам о новом методе вентиляции железнодорожных вагонов или производстве искусственной слоновой кости из каучука, аммония, хлороформа и известкового фосфата. Темы для своих лекций он нередко выбирал неаппетитные – я догадывалась об этом по виду матери, замиравшей с вилкой на полпути ко рту и внезапно бледневшей, как труп; мне же с моим луженым желудком все было нипочем. Он мог, к примеру, поведать нам о новом виде опухолей в желудке лошадей, вызываемых паразитами, или об усовершенствованном средстве избавления от запаха каловых масс, или о способе расшевелить сонных пиявок и заставить их присосаться к пациенту (нужно вымочить их в пиве). Мы слушали его рассказы о методах окрашивания цветных перьев; прогрессе в науке родовспоможения в Германии и дизайне канделябров; консервировании крови со скотобоен в виде студня, изготавливаемого методом добавления негашеной извести; планах строительства межконтинентального тоннеля между Тарифой и Танжером; о новой фабрике, где бумагу собирались делать из кактусов; о новом методе выявления фальсифицированных документов, изготовленных с помощью фотокопирования; об эксперименте по взвешиванию лучей света, во время которого выяснилось, что луч солнца на земле весит три тысячи миллионов тонн, и «не будь гравитации, эта сила вытолкнула бы его обратно в космос» («Практическая наука»).
Отец совершенно свободно и, пожалуй, даже чересчур горячо рассуждал о любой теме, в которой ровным счетом ничего не смыслил. Порой он так распалялся, что вскакивал со стула и начинал расхаживать по комнате, сопровождая речь жестами, которым научился на курсах ораторского искусства (своим ораторским мастерством он гордился безмерно и часто напоминал нам, что еще в школе выиграл приз за декламацию «Танатопсиса» Уильяма Каллена Брайанта – а я всегда содрогалась, когда речь заходила о Брайанте, ибо за приятными воспоминаниями о выигрыше неизменно следовали причитания, что такой достойнейший оратор, как мой отец, породил столь невнятное существо, как я, заикающуюся имбецилку).
Услышав о новом техническом изобретении, каким бы сомнительным и непрактичным оно ни представлялось, отец тут же выписывал его, и ничто не могло ему помешать. Получив посылку с новым прибором, он бросал все дела, чтобы прочесть прилагаемое руководство по использованию, а при необходимости собрать прибор, опробовать и продемонстрировать в действии. Поскольку друзей у него не было, для этих целей он созывал свою секретаршу, бригадира и наиболее доверенного и ответственного рабочего фабрики; те, отбывая повинность, собирались в нашей гостиной и очень тихо и смущенно сидели на самых неудобных стульях, в то время как моя мать разливала чай, а отец топтался вокруг новинки, раздраженно дожидаясь, когда мать закончит. Было ясно, как божий день, что гости в нашем доме чувствуют себя неуютно и считают это мероприятие продолжением своих служебных обязанностей, но никак не приятным времяпровождением. Отец, однако, радовался, веселился, говорил неестественно громким голосом, намеренно употребляя просторечия, чтобы низкий люд, приглашенный им в гости, ощущал себя в своей тарелке (хотя сам низкий люд выражался неизменно чопорно и церемонно), а после вспоминал мероприятие как чрезвычайно приятное. Затем он тратил несколько дней на сочинение пространного письма производителям; в письме он делился своим мнением по поводу прибора и предлагал ряд улучшений, а нам рассказывал об этих письмах так, будто производители с нетерпением ждали каждого из них и были ему безмерно благодарны за прозорливые замечания. Он даже намекал, что в процессе создания купленных приборов ему отведена некая официальная роль, что он, фактически, приложил руку к их созданию. Когда я была маленькой, я принимала все это за чистую монету и считала отца очень важным человеком, но позже поняла, что это его бредни, и представила, как смеются производители над его письмами, которые он составлял с таким тщанием, или же просто выбрасывают их в мусор непрочитанными.
Я не помню всего, что он покупал, но некоторые вещи до сих пор хранятся у меня:
автоматический сигнальный буй;
арифмометр, или машина для арифметических подсчетов;
электромагнитный аппарат Белла;
карманный телеграф, или портативный передатчик Морзе;
электрическая щетка для волос Скотта;
электромагнитный прибор для шоковой терапии, работающий по методу Фарадея.
Отец нередко описывал наш мир как сферу безграничных возможностей – безграничных потому, что область применения практической науки, по его мнению, должна лишь расширяться. Это мировоззрение, безусловно, повлияло на меня: смерть, к примеру, не является для меня чертой, за которой все заканчивается. Но несмотря на то, что научный склад ума, идеи и приборы, привнесенные отцом в наш дом, оказали сильное влияние на мою последующую деятельность, я считаю его виновным во многих наших бедах. Хотя не было такого проекта, к которому он не потерял бы интерес через несколько месяцев в полном соответствии со своей натурой серийного энтузиаста, мое заикание постоянно напоминало ему о незавершенном эксперименте, подопытным кроликом в котором была я. На страницах научных журналов он черпал информацию о новых пыточных инструментах для моего горемычного рта. Слоговая гимнастика М. Колобат, выполняемая под бой его ортофонической лиры (разновидности метронома); упражнения для губ, языка, дыхательные упражнения; сдавливающие язык пластины, расширяющие челюсть подушечки, обструктивные инструменты различных видов – камешки Демосфена, эволюционировавшие в настоящие орудия пыток, подобных золотой вилочке М. Итарда, которую следовало разместить в «выемке альвеолярной дуги нижней челюстной кости», то есть под языком; кожаные ошейники, застегивавшиеся на пряжку и туго сжимавшие мою гортань; металлические пластины, пристегивавшиеся к зубам и торчавшие изо рта; нечто вроде свистка, примыкавшего к нёбу, с вонзавшимся в язык острым наконечником. Стоит ли говорить, что ни одно из этих приспособлений не выполнило обещания «восстановить полезность пациента для общества путем обретения им способности изъясняться сладкозвучно и непрерывно».
За все усилия, предпринятые отцом по исправлению моего дефекта, я обязана была испытывать благодарность, а неудачи, согласно его замыслу, должны были вдохновлять меня упражняться упорнее. Поэтому матери не позволялось утешать меня, когда я плакала. «Вы уже достаточно навредили, мадам!» – выкрикивал отец, считавший мое заикание наследственным уродством по материнской линии. Он не переставал корить себя за «временное помутнение рассудка вследствие любовной лихорадки», приведшее к «ненаучному» и «противоречащему эволюции» союзу мужчины столь благородного происхождения с «аморальной имбецилкой» из «семьи торгашей и мелких жуликов». Он считал своим долгом исправить пагубное воздействие этого опрометчивого брака на свой социальный класс, и если в очередном номере ежемесячника не находилось нового метода, который можно было применить к моему дефекту, изобретал его самостоятельно, пуская в ход все свои нереализованные изобретательские амбиции и разрабатывая самые современные приборы, которые я должна была опробовать на себе. Он, несомненно, полагал, что прославится, придумав метод излечения от заикания, то есть решив задачу, которую прежде никому решить не удавалось.
Пожалуй, во всей Америке не было второго рта, подобного моему, который с равным усердием растягивали бы, резали, кололи, облепляли присосками и сдавливали скобами. В ход шло всё – консоли, клинья, лебедки, щипцы и целые подшивки «Американского естествоиспытателя» и «Популярной науки». Страницы этих изданий пестрели красочными гравюрами с детальным описанием механизмов; на этих рисунках величественные и прекрасные машины идеальных геометрических форм обслуживали неулыбчивые опрятные мужчины с симметричными руками и ногами. В отцовских (и моих) фантазиях именно так должен был выглядеть мой рот: современным техническим достижением, тщательно отрегулированным и эффективным; конвейером, работающим без сбоев и выдающим череду однотипных фраз из нержавейки с медным дном в сопровождении подобающих случаю жестов.
Прикрепляя ко мне конструкции собственного изобретения – отец прикасался ко мне лишь в этом случае, и еще когда наказывал меня, – он был ласков, и порой я ошибочно принимала светящийся в его глазах оптимизм за любовь. Даже сейчас я часто спрашиваю себя, не любовь ли сквозила в тот момент в его взгляде, безмолвная и вечная, как монолит, невзирая на все его мной недовольство?
Ответ на этот вопрос, конечно же, «нет».
Но в те минуты, сидя смирно и позволяя ему навешивать на себя очередное пыточное орудие, я расслаблялась и ощущала уверенность, теплом разливавшуюся внутри. «Сиди прямо… черт тебя дери!» (Звук лопнувшей лески.) «Открой рот, шире, нет, не так широко; стисни зубы, расслабься, втяни губы, нет, не так, вот так, да нет же, глупая девчонка, вот так!». Я беспрекословно, почти радостно подчинялась; я тоже надеялась на лучшее. На этот раз все получится. Мы оба так хотели этого, что силой нашего общего желания у нас должно было получиться. Я физически ощущала, как связная речь давит на корень языка, готовая вырваться наружу.
Но этого так и не произошло. Отцовские приспособления то и дело давали сбой: то пружинная растяжка для щек слетала с предохранителя и выстреливала у меня изо рта, рикошетом отлетая от стен столовой. То гуттаперчевый пузырь на вдохе застрял у меня в глотке, и я едва не задохнулась. В другой раз я случайно проглотила маленькую гирьку, которую под суровым присмотром отца должна была перекатывать на языке, и в течение нескольких дней я приносила ему ночной горшок со своими экскрементами и присутствовала при раскопках, которые он производил тонкими металлическими спицами. (Гирьку так и не обнаружили; полагаю, она до сих пор покоится где-то у меня в слепой кишке и медленно отравляет меня изнутри, так как сделана из свинца.) Во всех осечках отец, само собой, винил меня. Вероятно, проблески разума иногда все же посещали его, ибо самые кошмарные приспособления он не стал опробовать повторно. Но все равно наказывал меня за «лень, упрямство и рецидивизм», сопровождая каждое обвинение ударом линейки.
