автордың кітабын онлайн тегін оқу Опадающие цветы вишни. Тринадцать веков японской поэзии

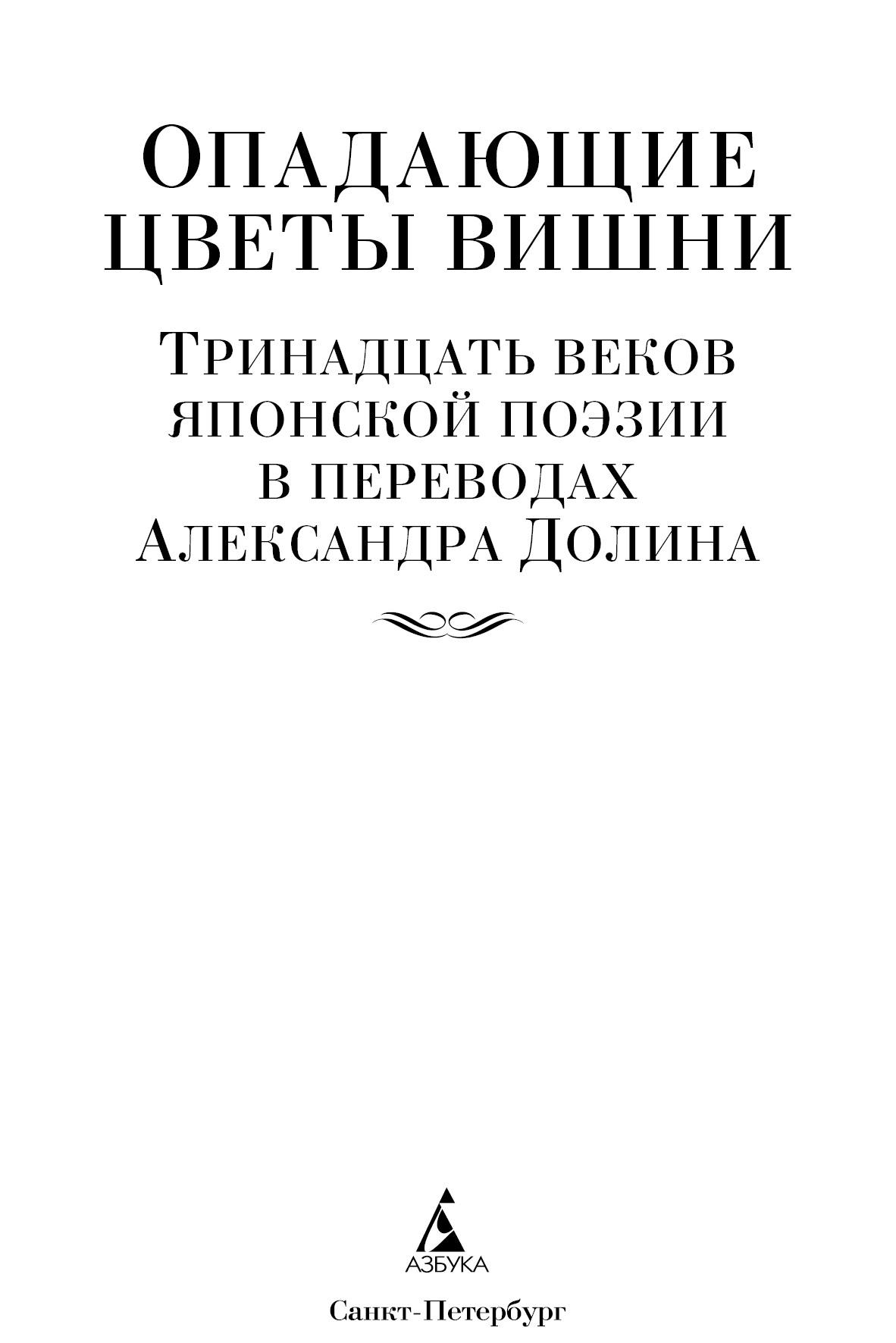
Составление, перевод, статьи и примечания
Александра Долина
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Валерия Гореликова
Рекомендовано к печати Ученым советом
Института востоковедения РАН.
Рецензенты д.и.н., к.ф.н. Е. Л. Катасонова, к.ф.н. В. П. Мазурик

Опадающие цветы вишни : Тринадцать веков японской поэзии / сост., пер., ст. и примеч. А. Долина. — СПб. : Азбука, Издательство АЗБУКА, 2025. — (Иностранная литература. Большие книги).
ISBN 978-5-389-31125-1
16+
Японская поэзия — грациозная, немногословная, столь непохожая на творчество западных поэтов — явление уникальное, и настоящий сборник позволяет читателю познакомиться с ней во всем ее великолепии и полноте. Под одной обложкой собраны все значительные авторы, составляющие золотой фонд японской и мировой литературы, с раннего Средневековья (VII–XVI века) вплоть до Серебряного века (вторая половина XIX — первая половина XX века). Богатое стилистическое разнообразие (в книгу вошли шедевры в жанрах танка, тёка, канси, хайку и многих других, включая современные стихотворные формы), широко известные мастера поэтического слова, собранные вместе (Басё, Исса, Сайгё, Акутагава), обширные статьи и примечания известного востоковеда и переводчика Александра Долина, а также изящные японские гравюры и картины разных эпох, украшающие книгу, позволяют считать данное издание замечательным подарком для всех любителей японской поэзии.
© А. А. Долин, составление, перевод, статьи, примечания, 2025
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство АЗБУКА», 2022
Издательство Азбука®
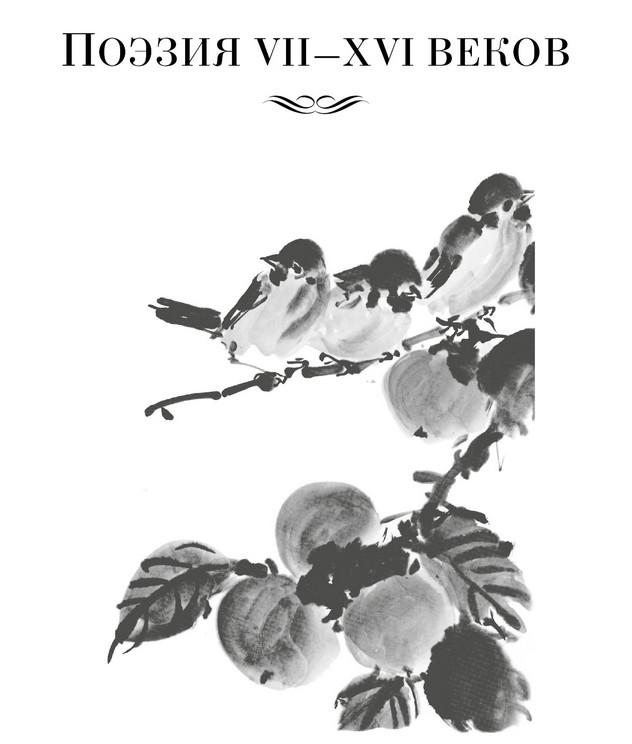
Японская поэтическая традиция
Со времен глубочайшей древности поэты Японии не уставали воспевать терпкую горечь бытия, непостоянство бренного мира, печаль одиночества, хмельное забвение, красу распускающихся и опадающих цветов, багрянец листьев по склонам гор, мерное журчание потока, лик осенней луны.
Шли века. Сменялись династии, перемещались столицы, в кровавых битвах истребляли друг друга воины, вещали о рае святые подвижники, рушились в огне пожаров и вновь воздвигались дворцы и храмы.
Нарождались новые поколения, появлялись новые всевластные правители, распахивались новые земли, строились новые крепости, монастыри, города. В круговращении пяти стихий — огня, воды, дерева, металла и земли — решались судьбы людей. Но все с тем же постоянством зимы сменялись веснами, зеленели ивы, колосился рис на полях, не иссякали реки и не переполнялись моря. И во все времена слагались песни о весне, лете, осени и зиме, о любви и разлуке, о печали странствий.
Сакральная сущность «японской песни»
Исконно японские поэтические жанры получили в культуре Cтраны восходящего солнца обобщенное название вака, что буквально означает «песни края Ямато». Если китайская классическая поэзия была известна как канси (китайские стихи), то стихотворные произведения на родном языке вплоть до эпохи позднего Средневековья японцы именовали «песнями». В поэтике вака воплотились представления древних японцев о характере словесного художественного творчества и его магических возможностях, которые навсегда закрепили за поэтическим словом, и в первую очередь за самым популярным жанром — танка, репутацию сакральной, «духовной» формы самовыражения, принципиально отличной от прочих жанров и форм. Те же представления проецировались, хотя и в меньшей степени, и на другие жанры древней поэзии: «длинные песни» тёка, лирические шестистишия сэдока, молитвословия норито и сэммё, а впоследствии также на «стихи-цепочки» рэнга.
Древнейшие народные верования связывали воедино синтоистскую концепцию «души вещей» (монотама) и «души слов» (котодама) как отражения мистической сущности мироздания. В Средние века, с распространением буддизма, вслед за конвергенцией религиозных верований буддизма и Синто произошло слияние нескольких оккультных теорий, определяющих духовную миссию литературы, и в частности поэзии. Уже в XII веке под влиянием провозглашенной сектой эзотерического буддизма Тэндай доктрины «недуальности» бытия многие поэты, комментаторы, а также священники и монахи склонны были трактовать Путь поэзии как один из Путей буддизма. Крупнейший поэт и теоретик вака Фудзивара-но Тосинари (Сюндзэй; 1114–1204) отмечал, что занятия стихосложением сродни медитации, а сами вака по глубине и утонченности сопоставимы с сокровенными истинами учения Тэндай.
Плодом религиозной конвергенции стала выработка концепции взаимозамещения синтоистских и буддистских божеств (хондзи суйдзяку). В поэзии, соответственно, вака стали трактоваться как японская разновидность священных буддистских заклинаний, существовавших ранее в Индии, Китае и Корее (в форме философских рассуждений), но в сугубо художественном оформлении. У разных авторов танка приравнивались к различным категориям буддистской доктрины: дхарани (священным текстам в форме краткого стихотворения), сингон (словам истины, квинтэссенции эзотерического буддизма), мё (божественному озарению), дзю (заклинаниям), содзи (всеохватным речам) и мицуго (потайным речам). Однако наиболее часто встречаются все же параллели с дхарани, хорошо известными сочинителям вака по китайским текстам основных сутр Махаяны.
Кукай (774–835), основатель популярной доныне секты эзотерического буддизма Сингон, оставивший богатое литературное, и в том числе поэтическое, наследие, отмечал в комментарии к «Сутре Лотоса», что в практике эзотерического буддизма множество слов призваны передавать единое значение и в то же время бесчисленные значения следуют из каждой буквы единого слова, что и составляет особенность восприятия священных кратких поэтических текстов дхарани. Согласно его интерпретации, дхарани обладают способностью передать в нескольких словах суть длиннейшей сутры. Спустя четыре века Камо-но Тёмэй (1155–1216), замечательный поэт и прославленный автор эссе «Записки из горной хижины» («Ходзёки»), писал, перефразируя предисловие Ки-но Цураюки к «Собранию старых и новых песен Японии» (Х век), что вака способны колебать небо и землю, умиротворять богов и демонов, поскольку «вмещают в единое слово множество истин».
Убежденность в сакральном могуществе слова, основанная как на синтоистской, так и на буддистской доктрине, была присуща всем средневековым авторам. Магические свойства дхарани (написанных на загадочном санскрите или переведенных на китайский), чей смысл был темен, а суть многозначительна, уподоблялись сверхъестественным свойствам вака, авторы которых, прибегая к единой сакральной формуле в раз и навсегда заданном ритмическом рисунке, использовали в своем арсенале сложную технику игры слов и омонимической метафоры, усугубляя иллюзию священнодействия. Как и дхарани, вака, по всеобщему признанию, содержали в себе зерно буддийского Закона (дхармы) и должны были априори передавать квинтэссенцию истины (котовари).
*
По мнению ряда исследователей, такие приемы поэтики танка, как постоянный эпитет макуракотоба, введение — дзё и «изголовье песни» — утамакура, предполагавшие повторение в различных контекстах одних и тех же словесных формул, призваны были выполнять в основном сакральные функции, подобно буддийским мантрам. Сохранилось множество рассказов и преданий о том, как при помощи сказанной к месту танка были изгнаны демоны или усмирен водоворот. Многим знаменитым поэтам, к примеру, приписываются строки, которые, превратившись в заклинание, вызвали дождь после долгой засухи.
Мотоори Норинага и другие филологи «национальной школы» (Кокугаку) не только наделяли вака сакральными свойствами, но и усматривали в них плод истинного чувства, инструмент для оздоровления духа нации, погрязшей в плотских удовольствиях, праздном начетничестве и надуманной конфуцианской риторике. В их интерпретации вака трактовались как чистейшее воплощение «души Японии» (нихон-но кокоро), «японского духа» (ямато дамасий) и всего незамутненного синтоистского миросозерцания, в котором человек предстает неотъемлемой частью природы, осененной покровительством бесчисленных божеств ками.
Однако философскую и эстетическую основу вака, безусловно, составило буддийское учение о непостоянстве всего сущего и бренности жизни (мудзё-кан). В эпоху Хэйан (794–1185), с утверждением буддизма как духовной основы японской цивилизации, окончательно оформляется эстетическая структура традиционной поэзии — то уникальное артистическое мировосприятие, которое позволяет в скупом суггестивном образе передать всю грандиозность вселенских метаморфоз. Ощущение постоянной сопричастности Универсуму как бы ставит художника в зависимое положение от всего, что окружает его на земле. И в этом — кардинальное отличие позиции японского художника слова от западного стихотворца. Он не творец, не демиург, но лишь созерцатель, медиум мироздания, ищущий предельно лаконичную форму для передачи уже воплощенной в природе прелести бытия, грустного очарования бренного мира. Воспринятое из буддизма осознание мира как юдоли скорбей и жизни как эфемерного сна, длящейся иллюзии накладывает отпечаток на все творения японского поэта, сообщая им минорное звучание. Все живое предстает для него воплощением бренности, и даже счастливые мгновения, в силу их недолговечности, служат лишь подтверждением универсального закона расцвета и увядания, «постоянства в сменах».
Оттого-то и преобладает в японской поэзии элегическая тональность. Сладость осознания своего бытия в прекрасном мире природы смешивается с горечью понимания быстротечности жизни, непрочности и недостоверности земных красот, соблазнов сансары. Даже страстные порывы облекаются в форму печального раздумья, поскольку в конечном счете любое стихотворение вака — лишь обращенная к мирозданию исповедь смертного о своих суетных делах. Недаром символом японского мира красоты стала сакура, чьи соцветья лишь несколько дней остаются на ветвях и облетают при первых порывах ветра.
*
В эпоху Хэйан, ознаменованную расцветом аристократической культуры и куртуазной лирики, поэтическое осмысление действительности способствовало превращению танка в своеобразный код, «язык» интеллектуального и духовного поэтического общения, который служил отличительным признаком человека образованного и утонченного, принадлежащего к аристократии духа, каковой не без оснований считали себя хэйанские вельможи и духовенство. Ута (танка) служили средством эстетического самовыражения, призванным облагораживать общение между людьми, будь то государь или подданный, сослуживцы в правительственном ведомстве, близкие друзья или пылкие влюбленные. Поэзия не только вошла в повседневный быт как важнейшее средство духовного воспитания, но и в значительной степени стала уникальным способом эмоционального контакта «от сердца к сердцу».
Хэйанские вельможи, как женщины, так и мужчины, проводили жизнь в атмосфере гедонистического эстетизма. Занятия всеми видами искусств, созерцание красот природы и любовные утехи в самом романтическом обрамлении определяли для них смысл существования, причем все три этих компонента существовали в неразрывном единстве и каждый воспринимался лишь в отраженном свете двух остальных. В целом же эта эстетическая экзистенция на протяжении веков питалась образами высокой поэзии, всем накопленным потенциалом классических сборников и антологий. Именно шедевры изящной словесности, изобразительного, сценического и садово-паркового искусства становились для хэйанской элиты «учебниками жизни» — универсальным руководством, в котором можно было найти ответы на все животрепещущие вопросы не хуже, чем в трактатах китайских мудрецов.
Буддистское по духу миросозерцание, сдобренное мистическим пантеизмом Синто, побуждало воспринимать каждый день и миг, прожитые на земле, как мгновения вечности. Понятие моно-но аварэ (грустное очарование всего сущего), легшее в основу поэтики вака, берет начало в печальном осознании скоротечности жизни, эфемерности весенних цветов и осенних листьев, летнего разнотравья и зимнего снегопада. Включенность человека в извечный круговорот природы, явленный в смене времен года, и грустная неизбежность конца неизменно и органично придают поэзии танка элегическую тональность. Будь то любовная лирика или лирика природы — а эти два направления и составляют магистральную линию развития поэзии вака на протяжении многих столетий, — в стихотворении всегда звучит минорная нота как напоминание об истинной сущности преходящего мира.
Средневековый поэт вака ни на минуту не может представить себя и свое творчество вне знакомых с детства гор и вод, цветения вишен и птичьих песен. Его образному мышлению чужда метафизическая абстракция. Поэзия вака всегда конкретна, привязана к земным реалиям, но вместе с тем она и дискретна, лишена всяких примет исторической эпохи, о которой напоминают порой лишь названия-интродукции с обозначением темы. Танка живет своей особой жизнью, обращенная ко всем и ни к кому, — заключенное в изящной формуле впечатление неповторимого мига земного бытия. Даже в поэтическом любовном диалоге общее превалирует над частным, и собственные переживания, запечатленные в классических образах природы, осмысливаются в контексте многовековой поэтической традиции.
Зарождение традиции
Древнейшие письменные образцы поэзии танка (что переводится как «короткая песня»), нередко именуемой также ута («песня») или вака («японская песня», как почтительно обозначают этот жанр в истории литературы), восходят к своду легенд и преданий начала VIII века «Записи деяний древности» («Кодзики»). Без сомнения, в фольклорной традиции песни и стихи, родственные танка, существовали намного раньше, по крайней мере за несколько веков до эпохи Нара (710–794), ознаменованной расцветом культуры и становлением японской письменности. Подтверждением тому служат стихотворения, вошедшие в «Собрание мириад листьев» («Манъёсю»), первую дошедшую до нас книгу японской поэзии. Антология, увидевшая свет в 759 году, представляет собой редчайшее явление в мировой литературе. Еще не имея разработанного письменного языка, пользуясь заимствованной из Китая иероглификой для фонетической записи слов, на заре развития национальной культурной традиции японцы сумели создать уникальный свод народной и профессиональной поэзии, объединивший все известные к тому времени жанры и формы стиха за без малого четыре минувших столетия.
Песни безвестных крестьян из отдаленных провинций, рыбаков и пограничных стражей, народные легенды и предания соседствуют в книге с утонченными любовными посланиями императоров и принцесс, с цветистыми одами придворных стихотворцев и великолепными пейзажными зарисовками. Более четырех с половиной тысяч произведений, вошедших в «Манъёсю», создали панораму поэзии древней Японии во всем ее богатстве и тематическом разнообразии.
Хотя по количеству в антологии, безусловно, преобладает «короткая песня» — танка с силлабическим рисунком 5–7–5–7–7 слогов, ее успешно дополняют сотни сочинений в жанре «длинной песни» — тёка и десятки лирических «шестистиший с повтором» — сэдока, выдержанных в той же метрической системе. Особенности фонетического строя японского языка препятствовали использованию рифмы в стихе и вели к закреплению единого метра для всех древних поэтических жанров. Силлабическая просодия, основанная на чередовании интонационных групп по пять и семь слогов, оставалась практически неизменной вплоть до начала ХХ века.
Хотя «длинные песни» — тёка представляют богатую палитру жанров — от элегии до оды, развернутые поэтические формы оказались сравнительно недолговечны и впоследствии, уже к середине эпохи Хэйан, то есть в ХI веке, почти полностью ушли из литературного обихода. Доминирующим жанром стиха осталась «короткая песня» — танка, а в основу национальной поэтики был положен принцип суггестивности — недосказанности и иносказательного намека, что предполагало скупость и филигранную отточенность изобразительных средств. Связь поэтического сознания народа с окружающим миром природы была закреплена в прозрачных лирических образах, которые и поныне не оставляют читателя равнодушным.
Поэзия фольклорного слоя в «Манъёсю» была представлена в первозданной чистоте: большинство стихов авторов из народа относятся к тем временам, когда буддизм и конфуцианство еще не успели пустить корни на Японских островах, и потому отражают чисто японские островные верования. Мистическая синтоистская «душа слова» (котодама) наполняет эти бесхитростные сочинения живым чувством, сообщает им силу подкупающей искренности. Впрочем, то же можно сказать и о сочинениях большинства профессиональных поэтов эпохи Нара.
Творчество Какиномото Хитомаро, Ямабэ Акахито, Отомо Табито, Отомо Якамоти, Яманоэ Окура и других бардов «Манъёсю» настолько глубоко по содержанию и совершенно по форме, что позволяет сделать вывод о наличии развитой традиции японского стиха задолго до появления антологии. Реальным подтверждением тому служат включенные в антологию немногочисленные сочинения авторов VI–VII веков. Известно, что еще до появления «Манъёсю», несмотря на трудности с системой письма, существовали изборники народных песен различных провинций, а также авторские собрания стихотворений Хитомаро, Якамоти и других известных поэтов. Эти сборники и послужили основным материалом для колоссальной антологии. В нее было, в частности, включено восемь из двадцати книг собрания Отомо Якамоти, который считается главным составителем «Манъёсю».
В танка и тёка уже присутствует основной спектр художественных приемов, впоследствии составлявших фундамент поэтики вака на протяжении тринадцати столетий. Это в первую очередь «постоянные эпитеты» — макуракотоба, смысловые параллелизмы в виде зачинов — дзё или «изголовий песни» — утамакура, омонимические метафоры — какэкотоба.
Произведения всех основных авторов «Манъёсю» имеют неповторимую, ярко выраженную индивидуальную окраску. Так, крупнейший поэт «Манъёсю» Какиномото Хитомаро прославился не только как непревзойденный мастер любовных танка и патетических элегий (банка), но и как виртуозный одописец. Ода (фу), впоследствии выпавшая из арсенала японского стиха, являлась тем «недостающим звеном», которое связывало традицию чистой лирики с гражданской поэзией, с историческими реалиями своего времени.
Великолепные образцы пейзажной лирики как в жанре танка, так и в жанре тёка оставил Ямабэ Акахито, чье имя в истории стоит в одном ряду с Хитомаро. Знаток китайской классики Яманоэ Окура ввел в японскую поэзию принципы конфуцианской этики и буддийские мотивы непостоянства всего сущего. В его «Диалоге бедняков», навеянном знакомством с творчеством цзиньского поэта Дун Си, отчетливо прозвучала социальная тема, которая в дальнейшем никогда уже более не проникала в поэзию вака.
Отомо Табито под влиянием поэзии Ли Бо создал замечательный цикл стихотворений, воспевающих винопитие. Эта эпикурейская лирика, столь органично вписавшаяся в корпус «Манъёсю», не имела аналогов в традиции вака вплоть до эпохи позднего Средневековья.
Отомо Якамоти развивал традицию любовной лирики танка и в то же время широко использовал образы китайской литературы, мифологии и фольклора, намечая тем самым магистральную линию развития японского стиха как переосмысленного отражения единого для всего дальневосточного ареала культурного наследия.
Именно «Манъёсю» стала корнем японской поэтической традиции, которая самими японскими литераторами воспринималась как древо, прорастающее сквозь столетия. К изучению и комментированию «Манъёсю» обращались поэты и филологи в эпоху Хэйан и в эпоху Камакура. Немало шедевров из «Манъёсю» было включено и в крупнейшие антологии развитого Средневековья, служившие эталоном классической поэтики. К древнейшему собранию «японской песни» обращались ученые-филологи и поэты во все времена вплоть до начала XXI века.
*
Эпоха Хэйан по праву считается золотым веком японской культуры, и в частности поэзии. Императорский двор в столице Хэйан (ныне Киото) на три столетия становится не только административным центром, но и средоточием искусств, а также законодателем поэтической моды и спонсором литературных шедевров. Начиная с Х века императоры заказывают крупнейшим мастерам стиха составление эпохальных антологий (тёкусэнсю) и сами принимают в них участие как авторы. Поэзия становится не просто одним из видов литературы, но важнейшим способом времяпрепровождения и языком общения образованной элиты, состоящей из придворной аристократии и духовенства.
При хэйанском дворе широчайшее распространение получают поэтические турниры (ута-авасэ), которые проводятся регулярно и порой растягиваются на десятки и сотни раундов. Залогом победы становятся знание традиции и владение всем арсеналом канонической поэтики.
Победители турниров пользовались огромной популярностью среди посвященных, а стихи их включались в классические антологии, принося своим авторам бессмертие. Со временем были выработаны весьма жесткие правила проведения турниров и закреплены критерии оценки, которые обосновывались арбитрами в глубоко фундированных трактатах по поэтике вака. По итогам турниров лучшие стихи получали широкое признание и включались в престижные антологии.
Однако бо́льшая часть шедевров вака была сложена не на заказ, а по зову сердца. Широкое распространение получила практика сочинения тематических циклов (подборок) в пятьдесят или сто пятистиший. У большинства поэтов имелись индивидуальные сборники.
Любой роман между вельможей и дамой двора неизбежно принимал форму поэтического диалога и сводился к обмену посланиями как на стадии ухаживания, так и на всех последующих стадиях. Неудивительно, что хэйанская проза фактически берет начало из жанра ута-моногатари — рассказа об обстоятельствах сочинения известных стихов, а лирические дневники эпохи Хэйан включают целые главы с описанием подобных романов, изобилующие стихами.
Хотя классическая поэзия в Японии ассоциируется в первую очередь с танка, поэтическое творчество в эпоху как раннего, так и позднего Средневековья отнюдь не исчерпывалось малыми формами, которые испокон веков считаются родовым отличием японской литературы. «Длинные песни» — тёка, пользовавшиеся популярностью в эпоху Нара, отчасти сохранили свои позиции и в ранний период Хэйан, свидетельствуя о развитии в японском стихе масштабного лиро-эпического жанра. Впоследствии стихи больших форм в куртуазной поэзии на японском действительно почти исчезли, но им нашлось место в других пластах литературы — например, в героическом самурайском эпосе гунки, в народных песнях и балладах, в поэтических драмах.
Наследие китайской словесности
При всем том главным противовесом бурно развивающейся поэзии вака малых форм всегда служила поэзия на китайском, нередко принадлежавшая тем же самым авторам вака, но существовавшая как бы в «другом измерении». Начиная с VII века и вплоть до конца XIX века японская поэтическая традиция в жанре вака, а впоследствии также рэнга и хайку всегда соседствовала, а порой и пересекалась с поэзией на китайском — канси. Освоение философского и литературного наследия Китая являлось основой основ японской системы образования — будь то при императорском дворе, в аристократических семьях или в буддийских монастырях и храмах. Разумеется, сочинения китайских поэтов читались только в оригинале, хотя некоторые классические китайские романы успешно переводились на японский.
В эпоху Нара и далее в эпоху Хэйан степень истинной учености определялась познаниями в «китайских науках» кангаку. Канси давали простор для самовыражения в жанрах философской и гражданской лирики, немыслимый в рамках танка, и таким образом восполняли «недостающее звено» в богатейшей истории японской литературы. Собственно японская поэзия создавалась согласно своим, вполне оригинальным нормам и регламентациям, но всегда с оглядкой на китайскую классику, поскольку вся книжная культура уходила корнями в китайскую почву. Отсюда, например, и появление предисловий на китайском к чисто японским антологиям вака, а также апелляции к правилам и нормативам старинных китайских поэтик, уже не имеющих прямого отношения к японскому стиху, и, разумеется, бесчисленные аллюзии на китайскую классику. Представители японской творческой интеллигенции, при всем своем неподдельном патриотизме, всегда ощущали себя наследниками и в некотором роде правопреемниками великой континентальной культуры.
Книги стихов на китайском языке (как китайского, так и японского происхождения) в эпоху раннего Средневековья пользовались не меньшей популярностью, чем собрания вака, а большая антология канси «Поэтические воспоминания и раздумья» («Кайфусо», 751) на восемь лет опередила выход величайшего памятника японской национальной литературы «Собрание мириад листьев» («Манъёсю»), причем многие авторы «Кайфусо» вскоре опубликовали свои танка и тёка в «Манъёсю». В дальнейшем поэзия канси всегда сопутствовала вака и пользовалась неизменным успехом наряду с оригинальными сочинениями китайских поэтов. Поскольку в классической традиции вака тысячу лет не было поэтов, отрицавших важность китайской культуры, можно сказать, что танка, как и рэнга, не могли бы стать магистральным направлением японского стиха, если бы не постоянная «подпитка» китайской классики. Двуединая японо-китайская сущность литературной традиции в Японии была очевидна настолько, что в конце концов даже вызвала болезненную реакцию протеста со стороны японских почвенников в XVIII веке, в пору расцвета «Национальной школы» (кокугаку).
*
Литературный талант и владение всем арсеналом «китайской учености» должны были открыть придворному двери в императорские покои и дать доступ к чинам и почестям. Но те же отличия могли служить причиной зависти, губительной для поэта, — как свидетельствует драматическая биография поэта Сугавара Митидзанэ (845–903), ныне почитаемого в синтоистском пантеоне в качестве бога-покровителя культуры и образования. Блестящий ученый и литератор, знаток китайской классики, Сугавара Митидзанэ занимал высокие должности при дворе императора Дайго, но попал в опалу и был отправлен наместником в дальний край, в Дадзайфу на острове Кюсю, где вскоре заболел и умер. Трагическая судьба Митидзанэ дала пищу для легенды, которая нашла воплощение в балладах, повестях и театральных инсценировках. Его философская, гражданская и пейзажная лирика канси, как и перекликающиеся с ней менее многочисленные, но совершенные по форме вака, обнаруживает исключительный поэтический дар, который многие критики сравнивают с талантом великого китайского поэта Бо Цзюйи.
«Кокинвакасю»
и создание поэтического канона
И все же начиная с IХ века пристрастия большинства поэтов и читателей определенно склоняются к поэзии вака, которая продолжает развиваться и совершенствоваться. Мастера нового поколения, учитывая опыт классиков «Манъёсю», стремятся к новым идеалам — утонченности чувств, изяществу слова и техническому совершенству.
Грандиозной вехой на пути развития японской поэзии стал выход антологии «Собрание старых и новых песен Японии» («Кокинвакасю», или сокращенно «Кокинсю», X век), которая вместе с «Манъёсю» возглавляет список поэтических шедевров классической японской литературы. В 905 году император Дайго повелел четверым знатокам и ценителям японской песни вака — Ки-но Цураюки, Ки-но Томонори, Осикоти-но Мицунэ и Мибу-но Тадаминэ — составить изборник японской лирики, включив в него лучшие произведения поэтов древности и современности. Спустя несколько лет книга была готова. Тем самым было положено начало традиции выпуска императорских антологий, которые призваны были сохранить для потомства творения великих мастеров стиха.
Имена таких поэтов «Кокинвакасю», как Аривара-но Нарихира, Оно-но Комати, Исэ, Хэндзё или Сосэй, стали олицетворением высочайших достижений лирики золотого века японской культуры, а знаменитое «Предисловие» Ки-но Цураюки к «Кокинсю» стало первой серьезной письменной поэтикой, руководством по стихосложению и в то же время критическим очерком, дающим оценку мастерам былых времен. Изучение традиций «Кокинсю» и канона куртуазной лирики, продолжавшееся до XX века, определило магистральное направление в танка с раннего Средневековья до Нового времени — направление, культивировавшее утонченность экспрессивных средств стиха и неуклонное следование канону.
*
Поскольку сочинение стихов считалось необходимым навыком для всех без исключения членов аристократических семей обоего пола и для духовенства, количество авторов, принимавших участие в турнирах и включенных в императорские антологии, исчислялось сотнями. Тем не менее в течение веков, по мере того как выкристаллизовывалась поэтическая традиция, определился основной список великих имен, куда в первую очередь вошли поэты, причисленные к сонму так называемых «Шести бессмертных» (по выбору Ки-но Цураюки) и «Тридцати шести бессмертных» (по выбору Фудзивара Кинто), а также хрестоматийные «гении» из знаменитого изборника «Сто стихотворений ста поэтов» («Хякунин иссю»), составленного Фудзивара Тэйка. Справедливости ради надо сказать, что далеко не все авторы в этих «священных списках» равноценны по масштабу дарования и степени популярности. Однако многие действительно достойны звания касэн («вещего кудесника поэзии»), которым наградили их потомки.
Жизнеописания таких хэйанских поэтов, как Оно-но Комати или Аривара Нарихира, в течение многих веков давали пищу для преданий, повестей, драм, исторических романов, а впоследствии — телесериалов. Жестокосердная красавица Комати, создавшая направление патетической любовной лирики в вака, согласно историческому преданию, окончила свои дни уродливой старухой, пресмыкаясь в нищете и убожестве. Неотразимый ловелас Нарихира, разбивший сердца многих дам, стал законодателем мод в любовной игре и развитии «поэтического флирта». Ореолом славы окружены имена Исэ и Идзуми Сикибу, Сайгё и Фудзивара Тэйка, Дзякурэна и Сотэцу, Соги и Иккю. Главное же отличие японских бардов от европейских в том, что они не принадлежат исключительно своей эпохе и, таким образом, не устаревают. Благодаря исключительной консервативности поэтики вака стилистика стихов не слишком существенно менялась со временем и сохраняла свои лучшие качества вплоть до середины прошлого века, что обеспечило классикам практически вечную жизнь.
Поэтика вака: особенности восприятия
Классическая поэзия в оригинале или в хорошем переводе должна говорить сама за себя, но все же, для того чтобы оценить ее истинные достоинства, нужно иметь некоторое представление о каноне, в рамках которого эта традиция развивалась и крепла.
На взгляд европейского читателя, особенно знакомящегося с японскими стихами в филологическом, подстрочном или квазипоэтическом переводе, все танка, независимо от эпохи их создания, порой кажутся похожими друг на друга. Действительно, образная канва и художественные приемы в большинстве классических и даже постклассических пятистиший имеют много общего. Тропы вообще фактически почти не изменились за двенадцать или по крайней мере за последние десять веков.
Тем не менее, несмотря на видимую монотонность универсальной силлабической просодии (5–7–5–7–7 слогов), авторы успешно вносили разнообразие в ритмику стихов за счет смещения смысловых акцентов и тональных ударений, за счет неожиданных интонационных ходов и инверсии, а также за счет богатой инструментовки стиха. При более внимательном прочтении мы обнаружим в танка и различия, связанные с принадлежностью к определенному направлению или стилю, а также обусловленные исторической соотнесенностью с одной из двух линий развития вака — с еще не скованной каноническими ограничениями поэтикой «Манъёсю» эпохи Нара или же с поэтикой куртуазных антологий Хэйана и нескольких последующих столетий.
Для древнейшего слоя поэзии характерны определенность и прямолинейность посылки, однозначность образа, так называемый мужественный дух (масураобури), то есть благородная прямота без «экивоков» и при этом некоторая тяжеловесность риторических украшений.
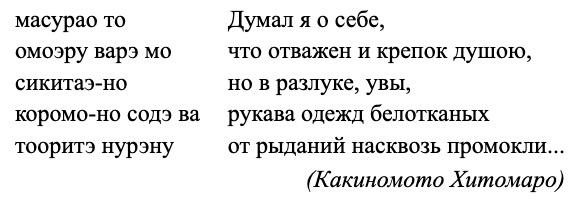
Впрочем, такого рода танка встречаются порой и в антологиях более позднего времени. Интонационно пятистишие обычно распадается на три части — с цезурами после второй и четвертой строк, — в отличие от более поздних стихов, которые имеют двухчастную структуру:
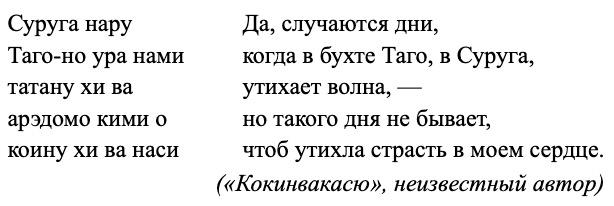
Наиболее типичные для таких танка художественные приемы — это макуракотоба, дзё и утамакура. Все три выполняют функции развернутого определения. Все три встречаются со времен «Манъёсю», пользуясь большей или меньшей популярностью, в зависимости от эпохи и от авторской индивидуальности поэтов.
Макуракотоба — род устойчивого эпитета к определенным словам и понятиям. Например, хисаката-но («предвечный») может служить эпитетом к «небу» (ама), а также к ряду предметов, ассоциирующихся с небом и космосом: луна, облака, звезды и т. п. Нубатама-но («черная, как ягоды тута») — эпитет к «ночи», асибики-но («с широким подножьем») — эпитет к «горам» и т. п. Иногда макуракотоба, через посредство сложных и не всегда понятных ассоциаций, соотносятся с понятиями, казалось бы, очень далекими. Например, адзуса юми («лук из древа катальпы») может служить определением к «весне». Видимо, свежесть молодой зелени и порыв пробуждающейся природы как-то связываются в воображении поэта танка с натянутым луком.
Чаще всего макуракотоба выполняют чисто декоративную, орнаментальную функцию и почти не соотносятся со смыслом стихотворения, хотя их присутствие сообщает образу колорит старины и благородную величавость. В известном смысле они также придают танка, вне зависимости от ее содержания, вид сакральной формулы, некой мантры, несущей в себе отзвук древнейшей традиции. Не случайно многие поэты конца XIX — первой половины XX века, пытавшиеся поставить вака на службу идеологической машине империи, слагали воинственные танка в архаичном стиле, обильно уснащенные макуракотоба и другими старинными тропами.
«Введение» — дзё представляет собой вводный смысловой параллелизм, играющий роль «образного посыла». Иногда семантика дзё непосредственно привязана к смысловой доминанте стиха, иногда весьма от нее далека.
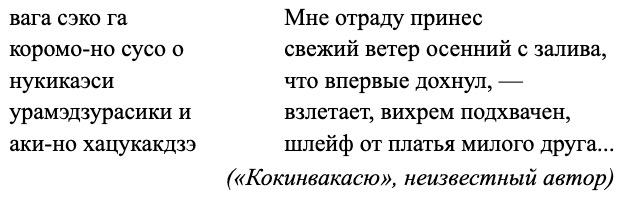
В данном случае первые четыре строки оригинала и являются дзё, предваряющим слова о первом порыве осеннего ветра, несущего отрадную прохладу.
«Изголовье песни» — утамакура — также своего рода введение, определяющее обычно место действия стихотворения или просто отсылающее к какому-то топониму из условной «поэтической географии» страны, например: Суруга нару Таго-но ура — «бухта Таго, что в краю Суруга». Утамакура может использоваться обособленно, а может входить составной частью во «введение» — дзё. Нередко и дзё, и утамакура дополнительно привязываются к смысловому стержню стихотворения при помощи эвфонии — параллельных созвучий.
Архаический эффект приносят в танка и старинные «почтительные» гонорифические префиксы, как, например, ми в сочетании ми-Ёсино — «славные (горы Ёсино)», и усилительные частицы, как, например, ура в слове урамэдзурасики («весьма неожиданно и отрадно»).
Для более позднего пласта вака периода императорских антологий начиная с Х века характерны более изощренные тропы, которые зачастую наслаиваются друг на друга, образуя некую «ребусную семантику», где в каждом слове или строке закодированы дополнительные образы. В принципе, почти все эти приемы были изобретены еще в эпоху «Манъёсю», но в поэзии VII–IX веков они встречаются редко, скорее в виде исключения. Со временем стремление к сложности и многозначности суггестивного образа становится доминирующим. У ведущих поэтов «Кокинсю» — Ки-но Цураюки, Исэ, Осикоти-но Мицунэ и других — многослойные полисемантические образы присутствуют в большинстве произведений, но первенство в области риторического изыска, вероятно, принадлежит блистательной Оно-но Комати, служившей идеалом и образцом для подражания многим поколениям стихотворцев. Каждое ее пятистишие — подлинный tour de force. На примере одного из шедевров Комати мы можем увидеть в действии, пожалуй, самый эффектный поэтический прием классической поэтики вака — какэкотоба («слово-стержень»), который охотно использовали многие поэты вплоть до XX века:
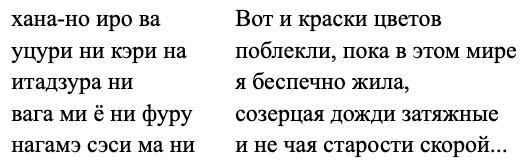
Какэкотоба — слово-стержень с двойным значением, создающее эффект омонимической метафоры. В приведенном пятистишии целых три какэкотоба, и каждое из них несет в себе дополнительные аллюзии. Так, иро означает «краски», «цвет», а в другом значении — «любовь», «чувство». Фуру означает «идти», «лить» — о дожде, а в другом значении — «стареть». Нагамэ означает «затяжные дожди», а в другом значении — «созерцать». Разумеется, передать в поэтическом переводе буквально все значения невозможно, да и в оригинале они выражены довольно смутно. Однако внимательный средневековый читатель, искушенный во всех тонкостях поэтического искусства, должен был уже при первом прочтении уловить весь аллюзивный подтекст.
Поскольку в танка категорически запрещалось использовать китаизированный слой лексики (канго), в поэтический лексикон вака вплоть до XX века входили только слова исконно японского происхождения (ваго). Они давали авторам немало возможностей в области применения какэкотоба, поскольку содержали много омонимов (различных в иероглифической записи, но какэкотоба записывались знаками азбуки, что и создавало метафорический эффект). Например, мацу — «сосна» и «ждать»; наку — «плакать» и «кричать» (о животных, птицах); татикаэру — «набегать» и «отступать» (о волнах), «уходить» и «возвращаться» (о человеке); нуру — «покрыться», «пропитаться» и «спать»; тацу — «подниматься», «ложиться», «повисать» (о дымке) и «уходить» (о человеке).
Иногда в качестве омонимической метафоры какэкотоба использовалась только часть слова, например: ито ни — «нить», «ветка ивы» и «уж так»; токонацу — «гвоздика китайская», «вечное лето» (при разделении слова на две части) и «ложе» (первая часть слова — токо). Нередко превращается в какэкотоба и известный топоним: например, Оосака (в другом чтении Аусака) — гора в окрестностях Хэйана со сторожевой заставой, в буквальном значении «Склон встреч»; Отоко-яма — гора, в буквальном значении «Гора Мужей»; Мика — название равнины, буквально — «третий день» и «видеть»; Касэ — название горы, буквально — «одалживать» и т. д.
Близкую к какэкотоба функцию выполняет иероглифический каламбур, где полисемантичность образа основана на его графическом начертании, а не на звучании. Так, в иероглифе «буря» (араси) заложены значения «гора» и «ветер», в иероглифе «слива» (умэ) — значения «каждое» и «дерево». В поэзии Нового времени выбор из ряда синонимичных иероглифов наиболее «поэтичного» и, соответственно, сложного символизировал близость (порой мнимую) «древнеклассической» традиции.
Еще один весьма популярный поэтический прием, выдержавший испытание временем, — энго, «связанные слова», то есть слова одного ассоциативного ряда. Например, «роща» — «деревья», «листва»; «море» — «волна», «лодки», «рыбаки»; «храм» — «молитва», «священник», «монах», «колокол», «божество»; «перелетные гуси» — «далекий родной край», «разлука», «весть от милой» и т. д. Располагаясь в замкнутом пространстве маленького пятистишия, одно, два или три энго создают дополнительную аллюзивную связь, которая может быть, по обстоятельствам, прямой и вполне понятной или же опосредованной и требующей напряженной работы мысли. Обычно энго встречаются в сочетании с другими поэтическими приемами, как в следующем стихотворении:
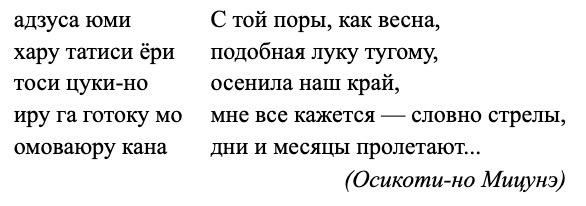
Здесь мы видим богатый спектр тропов. Адзуса юми («словно лук из древа катальпы») — это макуракотоба, относящаяся к хару («весне»); хару — какэкотоба, означающая одновременно «весна» и «натягивать» (лук); иру, что означает «стрелять из лука», служит энго к юми («луку»). Кроме того, здесь присутствует еще один чисто риторический прием — эмфатическая частица кана в конце стихотворения.
Со времен «Кокинсю» во всех последующих двадцати императорских придворных антологиях вака с нарастающей частотой встречается прием хонкадори — «заимствование изначальной песни», а точнее, аллюзивная отсылка к известному классическому стихотворению путем прямого или скрытого цитирования. В отличие от средневековой Европы, в Японии имелось довольно четкое понятие авторского права, но поэты умышленно заимствовали образы, а иногда и целые строфы у предшественников с целью создать дополнительный ассоциативный ряд, расширить культурный фон стихотворения и придать ему диахроническую укорененность в традиции. Существуют тысячи танка, успешно использующих прием хонкадори, который также оказал огромное влияние на поэтику «нанизанных строф» рэнга и был не чужд поэтике хайку с ее разветвленным реестром классических тем.
Для классической поэзии вака также типичен прием мидатэ (аллегорическое иносказание). Например, страдания безответной любви передаются через образ безутешной горной кукушки, трубящего оленя или поющего сверчка. Что касается обычных поэтических тропов, сравнимых с понятиями западной поэтики, то из них наиболее часто используются сравнение, смысловой (а порой и грамматический) параллелизм, антитеза, метафора. Изредка встречается олицетворение, и совсем редко — гипербола. Популярным поэтическим приемом является также инверсия, которая на пространстве в тридцать один слог способна резко изменять ритмическую тональность и эмоциональную окраску стиха.
В виде редкого исключения можно встретить несколько танка, написанных в форме акростиха, где первые слоги строк (точнее, слоговых групп по 5 и 7 слогов) образуют слово — например, название цветка.
Хотя многие танка в сборниках и антологиях не имеют названий, некоторым предпосланы краткие пояснения (дай), которые могут играть роль прозаического «вступления». В отдельных случаях вместо короткого пояснения может даваться развернутая интродукция, наподобие длинной прозаической заставки в классических хэйанских ута-моногатари («повестях со стихами»). Как названия-темы, так и развернутые интродукции служат дополнительным поэтическим приемом и призваны усиливать эстетическое впечатление от образа, как бы привязывая оторванную от исторического контекста вака к земной реальности.
*
Составители антологий, вдохновляясь примером «Кокинсю», как правило, старались особым образом компоновать поэзию различных авторов в рамках таких тем, как «Времена года», «Любовь» или «Странствия». Например, в стихах о весне вначале шли танка о приближении весны, затем о цветах сливы, о сакуре, об опадающих лепестках и прощании с весной. Таким образом, отдельные стихотворения сливались в мощную симфонию весны или осени, показывая сезоны в их динамическом развитии. В любовной лирике также по воле составителя в начале цикла шли стихи, показывающие зарождение чувства, далее рождение взаимной симпатии, обмен признаниями, воспоминания о счастливой встрече и, наконец, скорбные сетования об ушедшей любви.
Классическая поэзия вака была целиком и полностью интерактивным жанром, рассчитанным на полное понимание текста, подтекста, нюансов смысла и обертонов стихотворения, причем очень распространен был обмен посланиями, поэтический диалог. По-иному и не могло быть в среде хэйанской аристократии, где поэзия была языком изысканного общения, а знание классики прививалось с детства. Умение передать в классических образах непосредственные чувства и впечатления момента было плодом совершенной системы эстетического образования, к которому, помимо придворной знати, приобщались также монахи в многочисленных буддийских монастырях и храмах.
Сочинению стихов и составлению поэтических сборников упоенно предавались императоры и императрицы, принцы и министры, офицеры дворцовой стражи и фрейлины, епископы, настоятели храмов и простые монахи, а впоследствии также самураи и члены их семей. Немало шедевров было создано поэтессами — женами и дочерьми придворных вельмож. Достаточно вспомнить Оно-но Комати, Сагами, Акадзомэ Эмон. Не случайно расцвет хэйанской прозы связан прежде всего с именами женщин: Мурасаки Сикибу, Сэй Сёнагон, Идзуми Сикибу. При этом вся хэйанская проза — от романа «Гэндзи моногатари» до лирических дневников и эссе — пестрит многочисленными поэтическими вставками. Более семисот танка, вошедших в «Повесть о Гэндзи», вполне могли бы составить отдельный сборник стихов. Можно без преувеличения сказать, что именно поэзия на протяжении столетий определяла мировосприятие и весь стиль жизни аристократии — стиль, который был во многом заимствован и усовершенствован пришедшим к власти в конце XII века самурайским сословием, как и весь арсенал поэтической техники.
Императорские антологии
и эволюция жанра
«Кокинвакасю» положила начало регулярному выпуску так называемых императорских изборников (тёкусэнсю), которые составлялись по указанию непосредственно императоров или экс-императоров (своевременное раннее отречение императора в пользу законного наследника являлось особенностью японского монархического правления в Средние века). Эти книги призваны были сохранить для потомства творения великих мастеров стиха. После «Кокинвакасю» вышло еще два десятка таких антологий. Последняя увидела свет в 1439 году. Основная линия развития вака наиболее четко прослеживается в поэзии первых восьми изборников, которые условно именуются «собрание восьми поколений» (хатидайсю): «Кокинвакасю», «Поздний изборник» («Госэнвакасю», 955), «Собрание колосков после жатвы» («Сюивакасю», ок. 996–1007), «Позднее собрание колосков после жатвы» («Госюисю», 1086), «Собрание золотых листьев» («Кинъёвакасю», 1124–1127), «Собрание цветов словесности» («Сикавакасю», 1152–1153), «Изборник тысячелетия» («Сэндзайвакасю», ок. 1187–1188) и «Новое собрание старых и новых песен Японии» («Синкокинвакасю», ок. 1205). Из тринадцати последующих антологий наибольшую ценность, согласно оценкам японских критиков, представляют три: «Новый императорский изборник» («Синтёкусэнсю», 1232), «Собрание драгоценных листьев» («Гёкуёсю», 1312–1349) и «Утонченный изборник» («Фугасю», 1344–1349).
Однако после «Кокинвакасю» наибольшее влияние на поэзию всех жанров и драму, безусловно, оказала антология «Новое собрание старых и новых песен Японии» («Синкокинвакасю», сокращенно «Синкокинсю»), проникнутая дзенским духом печального созерцания красоты мира. Книга была составлена поэтами Фудзивара-но Тэйка, Фудзивара-но Арииэ, Фудзивара-но Иэтака, Минамото-но Мититомо, Асукаи Масацунэ и священником Дзякурэном по приказанию экс-императора Го-Тоба, который взял на себя основную редактуру.
Поэтика «Синкокинвакасю», определившая магистральную линию развития вака в эпохи Камакура (1192–1335) и Муромати—Асикага (1336–1573), зиждется на принципе ёсэй («послечувствования») и на концепции югэн — «сокровенного», мистического глубинного смысла явлений, постижение которого в процессе творчества и является задачей художника.
«Послечувствование», иначе именуемое ёдзё, укоренилось как основной принцип суггестивности японской лирики с Х века. Еще Ки-но Цураюки упоминал о нем в своем «Предисловии» к «Кокинвакасю», и с тех пор термин неоднократно фигурировал в работах по поэтике вака. Много веков спустя о том же принципе ёсэй писали теоретики «нанизанных строф» рэнга, а затем, слегка модифицируя его значение, и теоретики хайку.
Понятие югэн было сформулировано отцом Тэйка, великолепным поэтом и теоретиком вака Фудзивара-но Тосинари (Сюндзэй), который собрал вокруг себя блестящую плеяду стихотворцев. В своем собственном творчестве Тэйка разработал также эстетические категории усин (искренности и полной самоотдачи) а также ёэн (потайной связи слов и образов стихотворения). Он широко использовал буддийское понятие саби (осознание быстротекущего времени и печального одиночества человека в мире), которое в дальнейшем стало ключевым для эстетики и поэтики позднего Средневековья.
В антологию «Синкокинвакасю» вошли стихи выдающихся поэтов древности и «живых классиков» — от Какиномото Хитомаро до Сугавара-но Митидзанэ, Фудзивара-но Сюндзэй и Фудзивара-но Тэйка. Дзякурэн и Дзиэн внесли в антологию элементы медитативной буддистской лирики.
Однако наиболее прославленным и непревзойденным автором «Синкокинсю» критики единодушно называют инока Сайгё (1118–1190), несравненного мастера пейзажных и философских танка, чьи творения вдохновляли потомков на протяжении многих веков. Место Сайгё в японской литературе уникально. Он является воплощением тех родовых отличий, с которыми связывают во всем мире японскую поэтическую традицию: предельной лаконичности и суггестивности выразительных средств, глубины образа, философского мироощущения, основанного на «постижении сердцем». На Сайгё, чье творчество, проникнутое высоким лиризмом, несет отпечаток вселенской печали одиночества (саби), равнялся и создатель классической поэтики хайку Басё. Оба эти имени впоследствии служили эталоном для многих поколений мастеров вака и хайку.
*
В последующие несколько столетий вака продолжали оставаться основным жанром японской лирики. Наследие хэйанской литературы во всей его полноте было воспринято новым господствующим классом — самурайством, хотя выпуск императорских антологий по-прежнему был прерогативой дворцовой аристократии в Киото.
Самурайская культура, сохранив основы традиции, расширила палитру традиционного стиха. В эпоху Камакура выходцы из самурайских родов, потеснив вельмож императорского двора, занимают достойное место на страницах классических антологий. Многие публикуют собственные сборники. Подтверждением тому служит творчество юного сёгуна Минамото Санэтомо, павшего от руки убийцы, но сумевшего за свою недолгую жизнь создать множество подлинных шедевров вака, соединив утонченность хэйанской лирики с мужественной непосредственностью древних песен «Манъёсю». Фудзивара Тэйка высоко ценил творчество Санэтомо, который сумел привнести в классическую традицию вака мироощущение художника нового типа, принадлежащего к воинскому сословию. Смена общественного строя и переход власти в руки самурайской элиты, бесспорно, привнесли в поэзию вака некоторые инновации, но при этом никаких радикальных изменений в канонической тематике стихов, по сути, не произошло. Самураи просто приобщились к классической поэтике и стремились неуклонно следовать заветам мастеров прошлого, внося лишь сравнительно небольшие модификации.
В конце XIII — начале XIV века традиции вака развивались в русле двух основных школ, причем обе возводили свою родословную, как в прямом, так и в переносном смысле, к Фудзивара Сюндзэй и Фудзивара Тэйка. Более консервативная школа, включавшая в основном выходцев из аристократического клана Нидзё, преимущественно придерживалась правил и регламентаций времен «Синкокинвакасю». Бесспорно, влияние этой поэтики прослеживается и в лирике Дамы Нидзё, которая сопровождает ее исповедальную «Непрошеную повесть». Из лона школы Нидзё вышли также пионеры жанра «нанизанных строф» рэнга — инок Тонна, Такаяма Содзэй, епископ Синкэй. Постепенно продвигаясь от индивидуальных пятистиший в стиле «малых рэнга» к длинным циклам стихов-цепочек, они неуклонно расширяли горизонты вака.
Между тем другая школа — Кёгоку-Рэйдзэй во главе с блестящим поэтом Кёгоку Тамэканэ, внуком Тэйка, — провозглашала относительную свободу творчества от канонических ограничений. От условных образов, фактически ведущих к эпигонству, Тамэканэ перешел к внимательному наблюдению природы, делая упор на непосредственном «впечатлении момента», выделяя колоритные детали и фиксируя нюансы впечатлений. Хотя его эксперименты встречали сопротивление ретроградов, стиль Тамэканэ оказал сильнейшее влияние на поэзию позднего периода Камакура. По пути, проложенному Тамэканэ, пошло в дальнейшем немало поэтов XV века, в том числе замечательный лирик Сотэцу.
Вака и рэнга
Начиная с VIII века в японской поэзии встречались попытки создания стихотворных диалогов, или «строф-цепочек». Первым примером такого рода считается обмен стихами между легендарным принцем Ямато Такэру и старцем, в котором упоминалась гора Цукуба. Впоследствии коллективные виды поэтического творчества стали иносказательно называть «Путь горы Цукуба», откуда и возникли названия некоторых книг в новом жанре.
Еще в ранний период Хэйан диалогом нередко оборачивался обмен стихотворными посланиями между влюбленными, причем в некоторых случаях один из партнеров начинал импровизированное пятистишие, а другой заканчивал. В XIII веке от поэзии танка отпочковалось новое самобытное направление, которое вскоре переросло в самостоятельный оригинальный жанр рэнга (что можно перевести как «стихи-цепочки» или «нанизанные строфы»), достигший расцвета в XV веке.
Обычно в истории литературы рэнга обозначается как коллективный вид поэтического творчества с двумя, тремя или несколькими участниками. Однако в действительности истоки жанра восходят к так называемой короткой, или малой, рэнга (тан-рэнга), для которой типичны стихотворения одного автора того же объема, что и танка, но отличающиеся от последних по композиционным признакам и использованию приемов канонической поэтики. Иногда чисто внешне стихотворение может выглядеть точь-в-точь как танка, но иметь при этом другую смысловую задачу: оно содержит некий посыл и ответ или резюмирующее заключение, распадаясь при этом на две части.
В дальнейшем, чтобы подчеркнуть отличия нового жанра, некоторые индивидуальные авторы стали «переворачивать» традиционную композицию танка, помещая посыл-двустишие (7–7 слогов) не в конце, а в начале стихотворения, перед ответом-трехстишием (7–5–7). Правда, с самого начала существовали и длинные рэнга (тё-рэнга), в которых действительно посыл и ответ сочинялись разными участниками. В таких коллективных сессиях участвовали известные поэты: Фудзивара-но Тэйка, Фудзивара-но Иэтака, император Го-Тоба и многие другие. Тем не менее на раннем этапе канон жанра еще не устоялся и правила поэтики были весьма либеральны — чего никак нельзя сказать о рэнга в XV веке. Со временем, примерно спустя столетие, жанр рэнга из забавной поэтической игры для приятного времяпрепровождения превратился в высокое искусство, коллективное сотворчество. Правда, игровые формы юмористической рэнга тоже сохранили свои позиции. Стихи-цепочки, объем которых зачастую достигал уже нескольких десятков, а иногда и сотен строф, стали делиться на «серьезные», или «наделенные душой» (усин рэнга), и «несерьезные», «неодухотворенные» (мусин рэнга).
К концу эпохи Камакура были разработаны жесткие правила поэтики рэнга — сикимоку. К их созданию приложили руку поэт Гусай и его способный ученик Нидзё Ёсимото. Вместе они составили в 1356 году первую внушительную антологию рэнга «Цукуба-сю» («Собрание с горы Цукуба»), а в 1372 году выпустили фундаментальный свод поэтики жанра «Рэнга синсики» («Новые уложения рэнга»). В XV веке поэт и теоретик жанра Синкэй в своих трудах о поэтике рэнга обосновал необходимость присутствия в «нанизанных строфах» элемента мистического мировосприятия (югэн). Считается, что апофеозом развития жанра явилось творчество преемников и учеников Синкэя — Соги, Кэнсай, Сёхаку и Сотё. Вместе с Кэнсаем Соги составил и опубликовал в 1495 году огромную антологию рэнга «Синсэн Цукуба-сю» («Новое собрание стихов с горы Цукуба»), подведя итоги развитию жанра более чем за сто лет. Жемчужиной поэзии рэнга стало коллективное творение Соги, Сёхаку и Сотё «Сто строф трех поэтов в Минасэ» («Минасэ сангин хякуин»), представленное в нашей книге.
Для сочинения больших рэнга поэты обычно собирались на специальные сессии (кайсэки) и проводили вместе столько времени, сколько было необходимо для завершения труда. Оптимальным считался объем рэнга в сто строф, но допускались вариации в любую сторону, причем иногда, если участники увлекались не на шутку, объем мог разрастаться до тысячи строф. Участвовать в сессии могли двое (тогда сочинение называлось рёгин — буквально «двойная песня»), трое (тогда сочинение называлось сангин — буквально «тройная песня») или несколько участников, но предусматривалась и возможность одиночной рэнга (докугин). Первая строфа цепочки называлась хокку, последняя — агэку, а между ними располагались другие ключевые строфы со своими названиями. Один из участников записывал строфы, которые все авторы поочередно импровизировали.
Сложнейшие правила определяли принципы соединения звеньев в цепочке, возможные варианты ассоциативных параллелей, привязку к временам года, допустимые и недопустимые повороты темы, а также построение аллюзивного ряда. При этом участники обязаны были следовать двум принципиальным требованиям: подверстывать свою строфу к предыдущей так, чтобы они вместе составляли более или менее законченное пятистишие (что, впрочем, все равно почти никак не соотносится с классической танка), и монтировать строфу с учетом всего контекста, чтобы благополучно продвигаться далее. Если участники сессии сознательно взаимодействовали и подыгрывали друг другу, в рэнга обнаруживалось больше гармонии. Если же между участниками возникала конкуренция, они могли умышленно подставлять своим партнерам трудные темы — что отражалось и на общем содержании рэнга. Обычно сессия проходила под руководством арбитра рэнгаси, который мог корректировать «ходы» участников.
В плане тематическом поэтика рэнга в основном повторяла в усложненных формах поэтику танка. Участникам сессий предлагалось использовать все магистральные темы классических антологий: «Времена года», «Странствия», «Любовь» и «Разлука», а также «Философские раздумья» и «Сетования», «Рассуждения на сюжеты буддизма» и «Синто», пейзажные зарисовки и т. п. Лексика и технические приемы также в основном не слишком отличались от канонической лексики и приемов танка. Особо поощрялись аллюзии и скрытые цитаты из классики (хонкадори). Специальные предписания определяли, сколько раз в одной цепочке можно упомянуть то или иное слово: например, цветы азалии — не более одного раза, гусей — два раза, человеческую жизнь — пять раз и т. д. Темы в цепочке могли и должны были циклично повторяться, но с достаточно большими интервалами в пять-семь строф. Способы сочленения различных тем требовали высокого мастерства и обычно строились на весьма замысловатых ассоциациях, подсказанных отчасти традицией, отчасти фантазией авторов.
*
Хотя теоретики жанра и историки литературы постоянно подчеркивали серьезность содержания рэнга, все же можно с полным основанием утверждать, что коллективное сочинительство было в первую очередь интеллектуальной игрой профессионалов и лишь во вторую (причем не всегда) — реальной поэзией. Во всяком случае, сегодня читатель просто лишен возможности наслаждаться мастерством и изяществом этих стихов, поскольку незнание правил чаще всего превращает их в набор бессвязных, никому ничего не говорящих образов, хотя порой и не лишенных очарования.
Комментарии до некоторой степени объясняют логику введения тех или иных образов, но заменить поэзию они, разумеется, не могут. В современной Японии рэнга давно перешли в разряд почитаемого, но невостребованного «литературного наследия» по причине неподготовленности читателей. Что касается второй, чисто развлекательной разновидности рэнга (мусин рэнга), то она со временем переросла в хайкай-но рэнга, не меняя, по сути, своих жанрово-стилистических характеристик, и служила в основном для досужего времяпрепровождения мастеров хайку.
Дзен-буддийская философская лирика
Совершенно иная ипостась японской литературы, несущая идеи бренности (мудзё) и иллюзорности мира, предстает перед нами в творчестве монахов-насельников дзен-буддийских монастырей. Широчайшее распространение учения дзен на Японских островах начиная с XIII века привело к переосмыслению многих видов литературы и искусства в духе глубинной дзенской философии. Появление многочисленных китайских миссионеров на Японских островах и частые поездки японских монахов в Китай открыли для японцев неисчерпаемые пласты накопленной за много веков дзенской культуры, которой они сумели придать вполне оригинальные национальные черты, попутно совершенствуя различные ее отрасли. С благословения регентов Ходзё по всей стране были заложены дзенские монастыри и храмы, причем в некоторые настоятелями были приглашены видные китайские иерархи. Из Японии поток новообращенных устремился в Поднебесную, на обучение к китайским мастерам.
*
Одним из величайших философов-просветителей своего времени стал патриарх Догэн, основатель дзенской секты Риндзай и прекрасный поэт, слагавший стихи как на японском, так и на китайском. Его медитативная лирика сочетает эмоциональную насыщенность вака с дидактической проповедью, облеченной в художественную форму. В XIV–XV веках центрами дзенской культуры стали основанные в Киото пять больших монастырей, которые вскоре обросли десятками и сотнями дочерних храмов в провинции. Сложная система дзенского религиозного просвещения породила специфическую разновидность литературы. Стихи, эссе и философские трактаты, создававшиеся монахами на протяжении нескольких столетий, писались преимущественно на китайском, хотя нашлось место и дидактической поэзии танка, порой переходящей в лирику. В истории японской литературы все эти сочинения известны под условным названием «Литература Пяти монастырей» (Годзан бунгаку). Поэтическое наследие Пяти монастырей насчитывает многие десятки имен авторов и тысячи произведений, немало из которых заслуживают самой высокой оценки. Хотя попытки изучения и филологического перевода некоторых произведений авторов Годзан бунгаку предпринимались и на Западе, и в России, этот гигантский пласт литературы сравнительно слабо представлен читателю как в самой Японии, так и за ее пределами.
Вытеснение китайского из сферы японского образования в ХХ веке привело к почти полному забвению традиции и ее прочной консервации. Комментированные издания с японским толкованием доступны лишь специалистам-филологам, а художественных переводов на японский практически не существует, хотя имена таких авторов, как Кокан Сирэн, Сэссон Юбай или неподражаемый эксцентрик, мудрец и вольнодумец Иккю Содзюн, пользуются заслуженным почетом. По иронии судьбы поэзия канси превратилась в некоего «джинна в бутылке», ожидающего своих освободителей в тиши книгохранилищ. Возможно, их час придет, когда китайский язык окончательно восстановит свои позиции в системе японского образования. И только в поэтическом переложении на иностранные языки сегодня стихи средневековых монахов оживают и звучат с новой силой, раскрывая весь могучий потенциал дзенской поэтики в жанрах пейзажной и философской лирики.
*
В стране неумирающих традиций поэзия Средневековья, во всяком случае ее японская часть, и сегодня окружена всеобщим уважением и любовью. Великие поэты прошлого остаются бессменными культурными героями самой высокотехнологичной нации мира. Выходят бесчисленные серии поэтической классики с подробнейшими комментариями, мелькают в школьных учебниках имена бардов, в парках и на улицах городов высятся каменные стелы с их стихами, которые сегодня известны уже далеко за пределами Японии. Так было, так есть и так будет всегда, пока звучат песни Ямато.
Александр Долин

Из поэзии вака VII–VIII веков
Императрица Когёку
Преподнесено императору Дзёмэй
посланцем Хасибито Ою
по случаю высочайшей охоты на равнине Ути [1]
Слышу звон тетивы
На луке из древа катальпы,
Что с утра государь
Достает для конной охоты
И до сумерек с ним:
То на утренний гон поспешает,
То на лов ввечеру,
И звенит, наш слух услаждая,
Тетива монаршего лука.
ПЕСНЯ-ОТГОЛОСОК
Дружно кони рысят
на просторе — равниною Ути
скачет наш государь
за добычею на ловитву
сквозь растущие буйно травы.
Принц Сётоку
Узрев мертвеца на горе Тацута
во время путешествия к источнику Такахара
Был бы дома сейчас —
лежал бы на ложе в объятьях
милой юной жены —
но, увы, трава в изголовье
ждет неведомого скитальца...
Принц Икуса
Созерцаю горы, когда император Дзёмэй
отправился в Иё, в провинцию Сануки [2]
Незаметно прошел
День весенний, овеянный дымкой.
В сердце тяжкая скорбь —
Стенаю и плачу, как нуэ [3].
Ветерок долетел
Из-за гор, что монарха сокрыли, —
Обшлага рукавов
Выворачивая наизнанку [4].
Был я неустрашим,
А сегодня бреду одиноко —
Душу вечно гнетут
Неотвязные грустные думы,
И сгораю в тоске,
Словно водоросли морские,
Что исчезнут в кострах
Солеваров близ берега Ами.
ПЕСНЯ-ОТГОЛОСОК
Только ветра порыв
порой из-за гор долетает.
Ночь за ночью я жду
и в тоске не могу дождаться
столь желанного возвращенья...
Какиномото Хитомаро
Печальная песнь на смерть женщины,
ожидающей в Сигацу
Как осенние предгорья,
Милая была прекрасна.
Словно деревце бамбука,
Трепетна, стройна, изящна.
Что могла она подумать
В те короткие мгновенья?
Нити шелковой длиннее
Были дни безбедной жизни,
Но недаром говорится
О росе, что, исчезая
Без следа с восходом солнца,
Вновь рождается под вечер.
Но недаром говорится
О прозрачной дымке вешней,
Что под вечер опустилась
И растает утром ранним.
Даже я, ту весть услышав,
Задрожал, подобно луку,
Горевал я, что лишь мельком
Ту красу успел увидеть.
Словно травы молодые,
Юный муж ее, что прежде
Рядом с нею спать ложился,
Верному мечу подобен,
Что рукав из тканей тонких
Клал под голову обоим
И делил с ней изголовье, —
Ныне спит он одиноко,
С грустью о жене вздыхая.
Как же он тоскует горько!
О ушедшая так рано,
Ходу времени не внемля,
Ты роса, подарок утра,
Ты туман вечерней дымки!
[2] Император Дзёмэй отправился на горячий источник Иё на острове Сикоку в 639 году.
[3] Нуэ (тора цугуми) — ночной дрозд, полулегендарная птица, чье пение, согласно поверью, звучит только ночью или в пасмурный день и символизирует скорбные чувства.
[1] Ути — равнина в центральной провинции Ямато.
[4] Рукава, испод которых обнажился при порыве ветра, считались хорошей приметой, сулящей благополучное возвращение домой.

ПЕСНИ-ОТГОЛОСКИ
О, как печален я, когда увижу
пустынную дорогу над рекою,
где дева из селения Сигацу,
«Журчащих струй весеннего потока»,
В последний раз недавно проходила!..
В тот день, когда я повстречал случайно
ту деву из селения Сигацу,
«Журчащих струй весеннего потока»,
увы, ее не разглядел как должно.
О, как теперь об этом я жалею!
На расставание с женой
В краю Ивами,
Где вьется плющ по скалам,
Близ мыса Кара,
В краю китайских сказов,
Где травы моря
Спят среди скал прибрежных
И, колыхаясь,
Блестят, как изумруды, —
Там ждет подруга,
Что, словно травы моря,
Спала, отдавшись
Любви моей потоку.
Как кратки были
Свиданий наших ночи!
Подобно лозам,
Прильнули мы друг к другу.
При расставанье
Так больно сердцу было!
Прервав рыданья,
В пути я оглянулся,
Но взмах прощальный,
То рукавов движенье,
Я не увидел
За вихрем палых листьев
С горы Ватари,
Что, как волна морская,
Ладью уносит.
Как одинокий месяц,
Что проплывает
Над кручами Яками,
Я вдаль стремился,
С тобою разлучившись.
Томясь печалью,
Я наблюдал путь солнца,
Путь одинокий
За горные вершины.
ПЕСНЯ-ОТГОЛОСОК
Я думал, сердце
у воина и мужа
должно быть крепче —
одежд моих широких
рукав от слез весь влажен.
При виде тела человека
на скалах острова Саминэ
в провинции Сануки
Прекрасны берега земли Сануки,
Где водоросли — словно самоцветы.
Недаром, как сокровищем чудесным,
Так долго можно ими любоваться!
Быть может, то божественное имя
Приносит ей красу и процветанье, —
Но расцветает все пышней Сануки.
Так, вместе с небесами и землею,
Под ясною луной и ярким солнцем
Счастливый край в веках живет, являя
Суть божества в земном его обличье.
Отдав корабль на волю волн и ветра,
Отплыли мы, покинув гавань Нака.
И дружно все гребли, пока вдруг вихрь,
Что к берегу прилива волны гонит,
Не налетел из черных туч нависших.
Я, поглядев назад, вдали увидел
Лишь гребни волн над темною равниной,
А впереди уже белела пена
Бурлящего у берега прибоя.
В бессильном страхе пред морской пучиной,
Где даже кит стал лишь добычей волнам,
Мы налегали дружно на кормило,
Стремясь корабль на верный путь направить,
И хоть кругом виднелось их немало,
Пустынных островов, где мы могли бы
Укрыться от бушующей стихии,
Прибило нас к суровым серым скалам.
На Саминэ, чье имя слух ласкает,
Искали мы случайного приюта.
Тут, оглянувшись, я тебя увидел,
Простертого на каменном уступе, —
Как будто бы угрюмый этот берег,
Иссеченный солеными ветрами,
Стал для тебя последним, смертным ложем.
Кремнистое ты выбрал изголовье!
О, если б знал я путь в твой дом далекий,
Пошел бы, рассказал, где спишь ты ныне.
Когда б жена твоя узнала, где ты,
Она б людей прислала за тобою,
Но не дано ей путь сюда проведать,
Путь, что сравнится лишь с копьем из яшмы.
О, как теперь страдает и томится
В тревожном ожидании супруга
Та женщина, что ты назвал женою!..
ПЕСНИ-ОТГОЛОСКИ
Ах, если бы жена была с тобою,
она тебе готовила бы пищу.
Она бы принесла с холмов зеленых
тебе съедобных трав или кореньев —
но разве их пора не миновала?..
Так ты лежишь, без звука, без движенья,
на каменистом неприютном ложе,
простертый среди скал, а волны моря,
влекомые свирепой силой ветра,
все так же разбиваются о берег...
* * *
Разглядит ли она,
как со склона горы Такацуно
я сквозь ветви дерев
все машу рукавом издалёка,
расставаясь надолго с милой?..
* * *
По тропинке в горах
Взбирается лошадь все выше,
И с подоблачных круч
В отдаленье уже не виден
Дом моей избранницы милой...
Когда асон Какиномото Хитомаро пребывал
в провинции Ивами, он почувствовал
приближение кончины и в скорби сложил стихи
Верно, милая ждет,
не зная о том, что сегодня
я бессильно простерт
вдалеке, на кремнистом ложе
подле горной вершины Камо...
Из восьми песен странствий
* * *
Миновав Минумэ,
край водорослей съедобных,
подплывает ладья
все ближе к мысу Нодзима [5],
где так буйны летние травы...
* * *
Вспоминая о том,
как бродил по равнине Инаби,
вижу там, вдалеке,
неизменно милые сердцу
очертанья острова Како.
* * *
В тот же день, что зашла
в пролив Светозарный — Акаси,
отплывает ладья —
вот уже вдали исчезают
очертанья родного дома...
* * *
В час вечерний кулик
подал голос над озером Оми —
и, внимая ему,
я невольно вспомню былое,
повергая в смятенье сердце.
* * *
Оказалась в пути
твоим ложем трава луговая —
а ведь где-то жена,
что осталась в заброшенном доме,
верно, ждет тебя не дождется...
* * *
На морском берегу
протянулась вдоль бухты Кумано
пышных лилий гряда, —
хоть о милой сердце тоскует,
не дождаться, должно быть, встречи...
* * *
Верно, так же как я,
и в древности люди любили,
исходили тоской
и заснуть не могли без милой
на своем одиноком ложе...
* * *
Там, на склоне холма,
собрались подле храма девицы —
взвихрены рукава.
С давних пор об одной мои думы,
по одной лишь томится сердце...
* * *
Только шелест одежд
во мраке звучит приглушенно —
я безмолвно приду
и останусь в доме у милой,
покорившись веленью чувства.
Ямабэ-но Акахито
Славословие горе Фудзи,
сложенное Ямабэ-но Акахито
С той поры, как земля
Разделилась со сводом небесным
По веленью богов,
Величаво над краем Суруга
Ввысь главу вознесла
Гора достославная Фудзи.
Там, в бескрайней дали,
Равнину небес затмевая,
Солнцу путь перекрыв,
Заслоняя вершиною месяц.
И плывут облака
Вереницею белой над кручей,
И ложатся снега,
И молва о ней не умолкает.
Воспоем же и мы
Вершину высокую Фудзи!
* * *
На ладьи рыбаков,
что вышли на лов в бухте Муко,
издалёка гляжу,
с побережья острова Ава —
о, когда бы там оказаться!..
* * *
Вихрь осенний подул —
и овеял рассветной прохладой
холм на взгорье Сану,
где, должно быть, бродишь ты ныне.
Я бы отдал тебе одежды!..
Стихотворение, сложенное Ямабэ-но Акахито
при виде красивого пруда в саду
покойного канцлера Фудзивара-но Фухито
С незапамятных лет
росли в глубине и копились
эти водоросли,
что сегодня густой грядою
обрамляют пустынный берег...
* * *
Там, в горах Ёсино,
по склонам урочища Киса,
в гуще лиственных крон
раздается повсюду гомон —
не смолкает птиц перекличка...
* * *
Опускается ночь,
что чернее плодов шелковицы, —
там, вдали, у реки,
на опушке рощи дубовой
кулики неумолчно кличут...
* * *
Остров в далях морских,
где водоросли на скалах
заливает прилив, —
может быть, потеряв из виду,
мы о них еще пожалеем...
* * *
По весенним лугам
я брел, собирая фиалки, —
стосковался по ним
до того, что в открытом поле
так и спал всю ночь до рассвета...
* * *
Склоны в вешних горах
усеяны вишней цветущей —
день за днем я гляжу
и гадаю тщетно, доколе
моей милой любовь продлится...
* * *
Вешней сливы цветы
показал бы я старому другу,
но не видно пока
распускающихся бутонов
из-за сильного снегопада...
* * *
Завтра надо бы всем
отправляться по вешние травы [6],
но повсюду в полях
со вчерашнего дня и поныне
снег идет не переставая...
Отомо Табито
* * *
Чем о сути вещей
предаваться напрасным раздумьям,
лучше уж в добрый час
обратиться к винному жбану,
осушить без раздумий чарку!
* * *
Правы те мудрецы,
что в давние годы в Китае
величали вино,
памятуя все его свойства,
не иначе как «наимудрейшим»... [7]
* * *
Даже семь мудрецов,
заседавших в бамбуковой роще [8],
как преданье гласит,
почитали хмельную влагу
больше мудрствований бесплодных...
* * *
Чем премудрость свою
напыщенными речами
утверждать без конца,
право, лучше пить беспробудно,
утирая хмельные слезы...
* * *
Что сказать о вине
и как оценить его свойства,
если в тысячу раз
прочих благ земных мне дороже
это доброе зелье хмельное?!
* * *
Если б только я мог
человечий свой облик отринуть,
стал бы винным горшком [9],
чтобы зельем хмельным наконец-то
до краев, до крышки налиться!
* * *
Право, тот, кто не пьет
и тщится напыщенным видом
показать, как умен,
больше всех мне напоминает
неразумную обезьяну!..
* * *
Из сокровищ земных,
сколь бы ни были редки и ценны,
приведи хоть одно,
что и впрямь могло бы сравниться
с чаркой, полной хмельного зелья!
* * *
Пусть бы кто-нибудь мне
предложил драгоценнейший яхонт,
что сверкает в ночи, —
все равно ему не сравниться
с доброй чаркой зелья хмельного!..
* * *
Всех услад на земле
воистину не перечислить,
но, пожалуй, одна
для меня отраднее многих —
во хмелю блаженные слезы...
* * *
Коли в жизни земной
могу я заботы отринуть
и услады вкусить, —
пусть в грядущих перерожденьях
окажусь червем или птицей...
* * *
Всем живущим, увы,
единый конец уготован.
В бренной жизни земной
к одному я буду стремиться —
к упоительной винной чаше!
* * *
С умным видом сидеть,
на пиру сохраняя молчанье,
хуже тясячекрат,
чем, хмельного зелья напившись,
проливать в упоенье слезы!..
Отомо Якамоти
Сложено Отомо Якамоти летом,
в шестую луну 11 года Тэмпё [10],
когда он скорбел
по своей усопшей возлюбленной
Знаю, будет теперь
вихрь осенний без устали веять,
принося холода, —
как теперь одному на ложе
коротать мне долгие ночи?..
Песня, сложенная Якамоти
при виде гвоздик во дворе
«Будет осень — тогда
на них погляди, чтобы вспомнить...» —
говорила она,
и теперь для гвоздик подле дома
наступает пора цветенья...
Песня, сложенная Якамоти
в новолуние, когда печалился он
при порывах осеннего ветра
Бренный суетный мир
изменчив и непостоянен,
что известно давно, —
я в холодных порывах ветра
эту истину постигаю...
* * *
Созерцала она
цветы во дворе подле дома —
и при мысли о том
льются, льются не просыхая
из очей моих горькие слезы...
* * *
Ты сказала: «Конец!»
Приму, но себе не поверю,
потому что любовь
остается навек со мною, —
лишь тебе я пребуду верен!
* * *
Пусть ты не снизойдешь,
меня не одаришь вниманьем,
но, как сердце велит,
все равно в любви безответной
лишь тебе одной буду верен!
* * *
Наша встреча во сне
была преисполнена скорби —
пробудившись от грез,
простираю напрасно руки
к той, которую жаждал встретить...
* * *
Вот и вечер настал.
Я дверь приоткрытой оставлю:
не заглянет ли та,
что привиделась в сновиденье
и прийти ко мне обещала...
* * *
Мы лишь несколько дней
в желанной близости с милой —
все сильней и сильней
разгорается мое чувство,
все неистовей, все безумней...
* * *
Пусть хотя бы во сне
я изредка мог тебя видеть,
но и это теперь
мне заказано, так что впору
от любви распрощаться с жизнью...
* * *
Думал я, что теперь,
взаимности радость вкушая,
успокоюсь душой,
но отнюдь — вопреки ожиданьям
с каждым днем любовь все сильнее...
* * *
Каждый раз поутру,
когда ухожу я от милой
и бреду в полутьме, —
из груди разверстой изъято,
на огне горит мое сердце...
Яманоэ Окура
* * *
Наступает пора —
и первыми сливы соцветья
распустились в саду.
В одиночестве ими любуясь,
проведу этот день весенний...
Печальная песнь о бренности жизни
В сем мире страшат нас восемь великих невзгод,
кои обороть мы не в силах. Нелегко достаются и быстро
развеиваются удовольствия, что даны человеку на его веку.
Древние скорбели об этом, как и мы скорбим ныне.
И вот сложил я стихи, дабы утолить печали,
что пришли ко мне с сединами.
Быстро время течет,
И бег его нам не замедлить.
Уготованы нам
В преклонные годы невзгоды.
Нынче дева цветет,
Запястья в браслетах из яшмы.
Средь прелестных подруг
Досуг свой проводит беспечно,
Но недолог тот цвет —
Ему суждено увяданье.
Пряди черных волос,
Увы, побелеют с годами.
На румяных щеках
С годами пролягут морщины.
Любострастны юнцы,
Гордятся своими мечами,
С верным луком в руках
На охоту так весело скачут,
Блещет сбруя коней,
И по ветру вьются одежды,
Но недолог, увы,
Срок юности их беспечальной —
Все бесследно пройдет.
Кто молод пребудет вовеки?!
И немного ночей
Им осталось в объятиях милой
До утра почивать,
Во мраке проникнув в покои.
Скоро, скоро уже
С клюкой ковылять им придется
И, посмешищем став,
Попреки сносить безответно.
Так устроен наш мир.
Мы жизнь эту бренную любим,
Но порядок вещей
Изменить никому не под силу.
ПЕСНЯ-ОТГОЛОСОК
О, хотелось бы мне
быть несокрушимым утесом!
Только в мире земном
не дано никому из смертных
отвратить и отсрочить старость...
* * *
Знаю, бренный наш мир —
обитель страданий прискорбных,
но отринуть его
никому не дано в этой жизни,
если ты не родился птицей...
[10] 11 год Тэмпё — 739 год н. э.
[8] Семь мудрецов из бамбуковой рощи — легендарные мыслители, поэты и ученые, жившие в III веке н. э. в царстве Вэй. Они собирались у горы Байцзянь в горном массиве Юньтайшань, где вели «чистые беседы» о земных и божественных материях, сопровождая их обильными возлияниями.
[9] В Китае, а также в древней Японии для хранения рисового вина в сравнительно больших емкостях обычно использовали высокие глиняные горшки, которые запечатывались крышкой.
[6] Семь (в другом варианте — одиннадцать) полезных трав, на сбор которых отправлялись обычно в самом начале весны.
[7] Предание гласит, что в правление императора Тайцзуна (598–649) в империи Тан одно время было запрещено распивание алкогольных напитков. Те, кто занимался винопитием нелегально, называли неочищенное рисовое вино «премудрым», а очищенное — «наимудрейшим».
[5] Нодзима — мыс на острове Авадзи во Внутреннем море.
Из поэзии вака
IX — первой половины X века
Кисэн
* * *
Так вот я и живу
в скиту на восток от столицы,
меж оленей лесных —
не случайно зовется место
Удзияма, Гора печалей.
Ки-но Цураюки
Сложено в первый день весны
В день начала весны
растопит ли все-таки ветер
тот покров ледяной
на ручье, где берем мы воду,
рукава одежд увлажняя?.. [11]
О снегопаде
Дымкой осенены,
на ветвях набухают бутоны.
Снегопад по весне —
будто бы, не успев распуститься,
облетают цветы с деревьев...
К горе Курабу
Наугад я бреду,
поднимаюсь на гору Курабу —
но цветов аромат
мне во мраке ночи укажет
верный путь к той сливовой роще... [12]
При виде опавших цветов сливы возле дома
Глаз не мог оторвать —
что в сумерки, что на рассвете
все смотрел и смотрел,
но нежданно соцветия сливы
в миг единый сошли, увяли...
