автордың кітабын онлайн тегін оқу Хелла

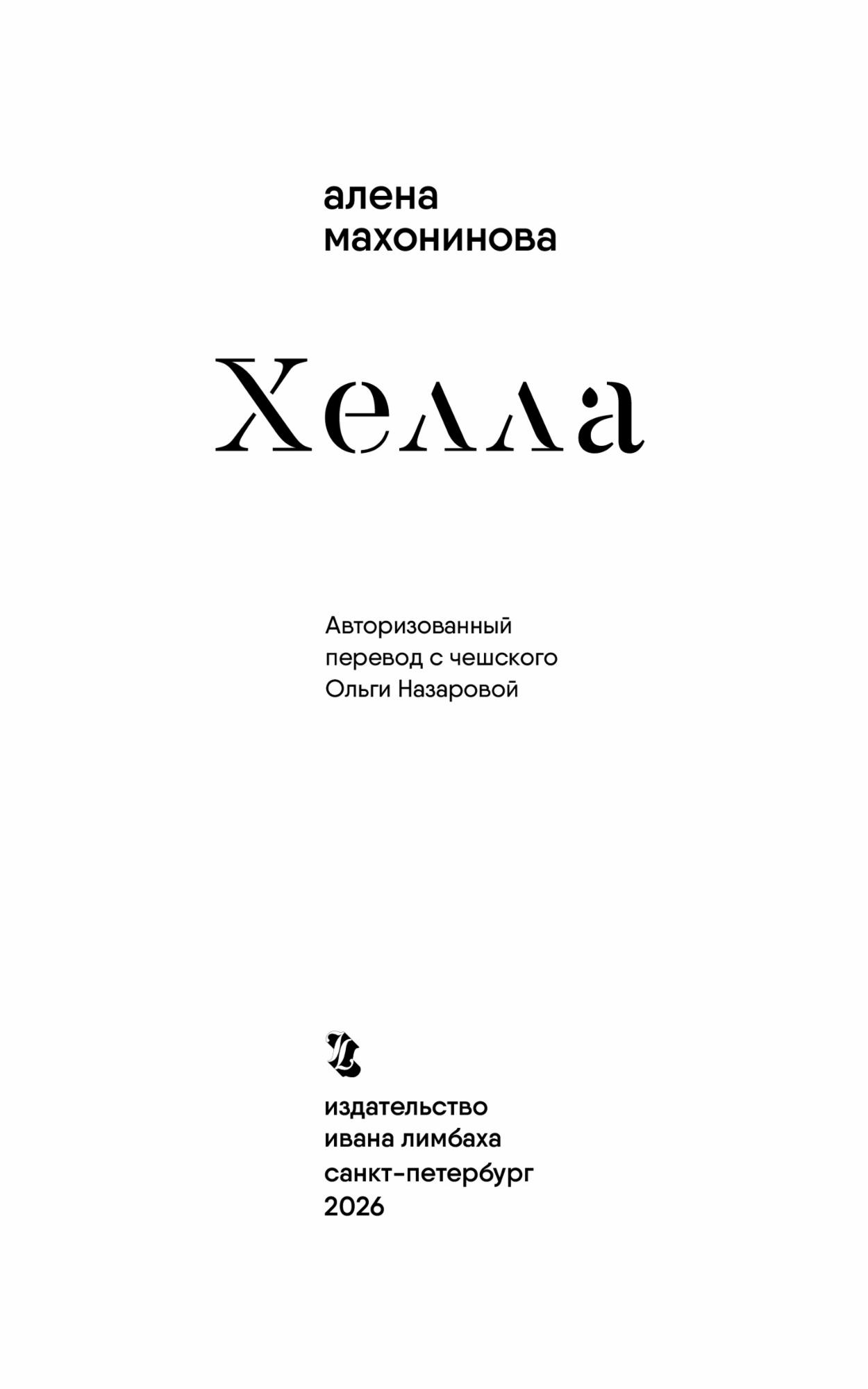
Авторизованный
перевод с чешского
Ольги Назаровой

УДК 821.162.3 «19»-32 = 161.1 = 03.162.3 + 94 (470) «19/…»
ББК 84.3 (4Чех) 6-449 + 63.3 (2) 6-021*83.3
М 36

Издано при поддержке Министерства культуры Чешской Республики
Махонинова Алена. Хелла / Авторизов. пер. с чешск. Ольги Назаровой; Вступ. статья Оксаны Васякиной. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2026. — 352 с.
ISBN 978-5-89059-593-5
Книга чешского филолога и переводчицы Алены Махониновой посвящена жизни узницы ГУЛАГа Елены (Хеллы) Фришер. Оказавшись в России во время сталинского террора, она пережила расстрел мужа, отсидела десять лет в Севжелдорлаге Коми АССР (с 1937 по 1947, повторный арест в 1948 и ссылка в Сыктывкар с 1951 по 1956), после освобождения жила в Москве. Исследуя воспоминания и письма Хеллы, включая ее переписку с бывшей узницей того же лагеря Тамарой Петкевич, и обращаясь к собственному опыту жизни в современной России, Махонинова реконструирует биографию и внутренний мир героини, размышляя о родине, доме, языке, но главное — о несломленном человеческом достоинстве.
Роман признан лучшей книгой в номинации Проза и удостоен крупнейшей литературной премии Magnesia Litera (2024) и Премии Вышеградского фонда (2025).
© Alena Machoninová, 2023
Published by arrangement with
Maraton Publishing House
© О. В. Назарова, перевод, 2026
© О. Ю. Васякина, предисловие, 2026
© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2026
© Издательство Ивана Лимбаха, 2026
Оксана Васякина
Другой жизни не будет
У слов веретено, ворота и время один корень, они вращаются и возвращаются. Парадокс: когда я вращаюсь, я преодолеваю время, стоя на месте. В таком случае, что такое возвращение? На ум прихо-дят строчки знаменитого стихотворения Осипа Мандельштама:
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился пространством и временем полный.
Размышляя о лагерной прозе, невозможно не думать о пути Одиссея. Я иногда горько шучу, что по 58-й статье давали десятку, ровно столько, сколько длилось его путешествие. Одиссей вернулся на Итаку и снова отправился в путь. После освобождения зэков ждали поселения и территории за пределами больших городов. Многие, как, например, Анна Баркова, были обречены не раз возвращаться в лагеря.
Стараюсь вообразить: что такое десять человеческих лет? Дни жизни.
Я познакомилась с Аленой Махониновой, когда она переводила мою книгу на чешский язык. Последние московские пару лет я предпочитала не выезжать за пределы района и встречаться предлагала в кафе на Тимирязевской. Алена хотела увидеться: обсудить правки и выпить кофе. Я ответила: приезжайте на Тимирязевскую, Алена написала: придем. Оказалось, все годы, что я провела на Тимирязевской, Алена с мужем и псом Бобуром жили по соседству: мы ходили в один супермаркет, гуляли в Тимирязевском лесу, смотрели на пруд в парке Дубки и под шум отбойных молотков наблюдали, как меняется Москва.
В России нет города, который обновлялся бы с такой же скоростью, как Москва. Месяц назад я возвращалась на Тимирязевскую, там теперь все совершенно по-другому: на месте гаражей — спортивная площадка и просторная парковка; там, где раньше стояли скамейки, — обширная зона для детей, каучуковое покрытие и карусели. Неизменными остаются только исполинские работы Вучетича: гипсовая голова Родины-матери и покрытая серебрянкой голова Ленина. Их лиц не рассмотреть, они повернуты во двор кадетского корпуса.
Есть еще одно слово, поражающее мое воображение, — заживать: рана заживает, человек бросил пить и хорошо зажил.
Я совсем недавно о нем вспомнила, когда читала книгу «Жива ли мать» Вигдис Йорт. По сюжету мать отказывается от взрослой дочери, потому что считает ее поступки предательством: дочь не окончила юридический и стала художницей, ушла от угодного родителям мужа и сбежала с каким-то американским профессором, а в качестве жирной точки выставила картины, которые семья восприняла как личное оскорбление.
Спустя двадцать лет после разрыва героиня возвращается на родину и шпионит за матерью. Она прокручивает в голове: возможен ли примирительный разговор? Может ли мать простить ее? И если разговор таки произойдет, неужели он стянет кромки разорванной жизни? Неужели двадцать лет разлуки и взаимного непонимания поглотит безмятежная равнина? Неужели они, мать и дочь, заживут?
Дорога: воронки, этапы, пересылки.
Места: вагоны, лагпункты, лазареты.
Условия: неизбывный холод, тяжелый труд, жидкая каша, жухлая капуста и бедный хлеб.
Тело: пытки, жажда и голод, любовь, изнасилования, клопы, беременность, цинга, дистрофия.
Чувства: недоумение, отчаяние, животный страх, злость, радость и вера в чудеса.
Канонические ссыльные тексты — «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Путь» Ольги Адамовой-Слиозберг, «Жизнь сапожок непарный» Тамары Петкевич — начинаются с описания жизни, связность и покой которой рвет внезапный стук в дверь. Этот разрыв — точка, с которой начинается возвращение.
Героиня Алены, Хелла Фришер, возвратиться не желала (или не могла?), ее повесть «Дни жизни» начинается с этапа:
В тишине бессонной ночи отчетливо слышны шаги конвойного в тамбуре. Стук колес, стук винтовки. Стук… стук… —
а завершается концом срока:
…Ты вышла в темноту. За зону.
По закону жанра после этого предложения с красной строки должна начаться заключительная часть возвращения: обустройство быта, желанные встречи с близкими, реабилитация.
Ольга Адамова-Слиозберг в предисловии к книге «Путь» пишет: «Возвращение к жизни — тяжелый процесс». Фришер свою героиню на поиски прошлого отправлять не станет. И сама она ментально и буквально останется с теми, кто вместе с ней выживал в лагере, с теми, кто выжил, и теми, кто погиб. Свидетельством этого оставания будут письма к Тамаре Петкевич, которые она позволит Алене скопировать. Алена перепечатает и сохранит листы письменной речи Хеллы. Вы найдете их опубликованными на страницах этой книги.
Вернуться из ссылки, преодолеть возвращение к жизни и, наконец, зажить — дать кромкам пропасти стянуться. Но что делать, если годы ссылки — это и есть дни жизни?
Человек привязан к чужим страданиям, я пишу это потому, что сама неуемно слежу за болью окружающих, болью на экране смартфона, болью в тексте. Моя тяга к мемуарам XX века была частью моей литературной учебы, я их пытала, разбирала на составляющие, искала общие места и щупала причину связности текстов, основа которых — хаос жизни.
У этой учебы был и другой аспект. Мою страсть к прозе узниц ГУЛАГа можно объяснить чувством ужаса от наблюдения за мучением других и облегчением от непричастности. Я читала и неустанно играла в примерочную — путь зэка сродни алгоритму, на каждом уровне которого героиню пытают: на что ты способна ради выживания?
Читая, я не могла смириться с мыслью, что прожитые в заключении годы — не параллельное существование, не сон и не длительная остановка, это сама жизнь. Смиряться с этой мыслью я стала только недавно и теперь, отвечая на вопрос: неужели мгновения, которые я проживаю сейчас, — единственные, невозвратимые? — сама себе говорю: да, другой жизни не будет. Это меня страшным образом восхищает.
На могильном камне Хеллы Фришер выбиты три даты: 1906, 1937 и 1984.
В ноябре 1975 года она писала:
Сегодня 38-я годовщина гибели! <…> Ох, Томик, неужели так было, могло быть!
Под годовщиной гибели Хелла имеет в виду арест в 1937-м. Лично мне, и, полагаю, подавляющему большинству читателей ссыльной прозы, присущ интерес к жизни посмертной. Но Алена имеет интерес «поперечный», она спрашивает:
А какой была Хелла, когда ее посадили? Был ли в ее жизни после освобождения хотя бы один человек, который это помнил? Кто мог бы помнить?
Алена отправится на поиски досмертной биографии Хеллы Фришер. Но как найти жизнь, к которой не стремились вернуться, — ту, разрыв с которой не желали зажить?
Алена раз за разом будет читать роман «Москва-граница» чешского писателя Иржи Вайля. С Вайля все и началось: в «Москве-границе» он писал об иностранцах, живших в Москве 30-х. И в квартире Ри Густавовны и Роберта Давидовича в Телеграфном переулке, куда все приходили выпить дефицитного кофе и потанцевать.
Алена найдет ту самую квартиру с призрачным адресом, Телеграфный переулок множество раз переименовывали: Архангельский, Гавриловский, Котельников. Будет искать женщину с мерцающим именем: Ри Густавовна, Елена Густавовна Фришер, Хелла. И напишет:
Впрочем, иных свидетельств, кроме литературных, кроме вымышленных, у меня нет.
Алена будет рассматривать лицо Хеллы на послегибельных портретах, искать в них отблески прошлой жизни; будет получать переписанные или тайно отснятые документы из архива НКВД; будет сверять редакции «Дней жизни»; будет расшифровывать письма Хеллы к Тамаре Петкевич. В нескольких из них Алена найдет только одно имя из досмертной жизни Хеллы, но что с того? Она справедливо назовет свою находку трофеем. А в книге лейтмотивом зазвучит:
Но по прошествии многих лет все, что у меня есть, это какие-то осколки и фрагменты, если не сказать — крохи, сор и пыль…
Я завидую Алене. Зимами 2017 и 2018 годов — почему-то мне запомнились именно зимы — в метро по дороге на работу и домой я читала женские ссыльные тексты. Тогда я мечтала написать о них книгу и заранее мучилась разочарованием, я знала, что написать ее (по крайней мере, в ближайшие годы) у меня не выйдет.
Чтобы работать с материалом, природа которого отсутствие, необходим орган, отвечающий одновременно за две взаимоисключающие функции: скрупулезность и устойчивость к фрустрации. Этот орган сам не зарождается, он, скорее, натирается как мозоль. Мозоли — признак отчаяния и болезненного наслаждения: любимая мозоль = больная мозоль.
Годы жизни Алена посвятила работе с непредсказуемыми, полными тихого отчаяния и лирических умолчаний текстами — переводу советской неподцензурной поэзии. И если, как пишет сама Алена, «Москва-граница» — роман с ключом, Вайль писал о себе и собственном окружении, то стихотворения Яна Сатуновского, Всеволода Некрасова, Геннадия Айги послужили Алене отмычкой к досмертной жизни Хеллы.
Однажды в книге Ольги Медведковой «Ф.И.О. Три тетради» меня поразил эпизод, в котором рассказчица смотрит на овраг, куда было брошено тело ее бабушки. Традиция коммеморации требует поставить здесь камень или доску, тогда перекроенное пространство заживет. Но рассказчица ставить на этом месте памятный знак не желает. Медведкова пишет, что овраг, заросший травой, кустарниками, березами, и есть памятник трагедии ее семьи.
Дело не в отказе ворошить прошлое, выбор рассказчицы — не вмешиваться, оставить все как есть. Следуя уравнению Медведковой, я заключаю: любой овраг — памятник трагедии.
В письме-прощании, обращаясь к Хелле, Алена напишет:
…понемногу перестаю различать, где заканчиваются Ваши слова и начинаются мои собственные.
Все слова этой книги — Хелла.
Милуше, Лене, Лоре, маме
Дождь моросит не переставая. Деревья качают на ветру голыми ветками. В черных лужах мокнут листья. Свет на улице желто-серый. Ноябрь, всю страну заволакивает туман. Печальный месяц ноябрь. Самый страшный месяц в году. Но это и мой месяц, в отличие от слов, которыми я о нем пишу. Отчасти слова эти принадлежат героям моего повествования, они же объекты моих многолетних изысканий или, скорее, обсессии.
Ноябрь 1937 года. Самый страшный месяц в памяти лет. В чьей-то чужой памяти. В моей памяти он объединяет двух женщин. Одна из них родилась в среду 17 ноября в маленьком городке Среднечешского края. Вторая, уроженка Моравии, на два дня позже, в пятницу 19-го, в возрасте тридцати одного года была арестована в советской столице.
Обе были женщины-огонь. В адрес одной из них это слово прозвучало в коротеньком некрологе, написанном чешским профессором, ее бывшим студентом; вторая так называла себя сама. Огонь гнал их вперед и сжигал. Горел внутри них и не мог погаснуть. Женщины эти никогда не встречались. Тем не менее первая невольно подвела меня ко второй, так же как и ко многому другому в жизни. Первая была университетским профессором русской литературы XX века, свои лекции она читала, прикрыв глаза, погружаясь в мир исследуемых текстов и судьбы их авторов. И увлекала за собой слушателей — тех, кто давал себя увлечь. Дома у нее была богатая и беспорядочная библиотека, вполне соответствующая ее натуре. Вторая женщина сначала была лишь литературным персонажем с экзотическим именем-вскриком — Ри. Много позже из-за образа вымышленной героини первого романа Иржи Вайля «Москва-граница» начала проступать реальная женщина, автор небольших прозаических текстов, утраченных стихов и горьких личных писем, которые она подписывала домашним именем Хелла. Ей и принадлежат слова: «Скоро ноябрь, самый страшный месяц в году, в памяти лет». Написала она это по-русски 3 октября 1974 года в письме из Москвы в Ленинград своей подруге Тамаре Петкевич. Описаниями тумана 20 ноября 1938 года Иржи Вайль завершил свое письмо переводчице Марии Везеролл в Англию: «Идет дождь, всю нашу страну заволакивает туман, на дорогах грязь, стоит печальный ноябрь. Когда-нибудь придет весна, мы все в это верим».
Роман Вайля я взяла тайком из библиотеки профессорши, когда летом после ее смерти мы с друзьями, ее бывшими учениками, разбирали и укладывали книги в коробки из-под бананов. Я украла его из холодного чулана позади кухни, куда гости никогда не допускались, а вещи давно не подлежали никакому разбору. Он лежал там в кладовке на пыльной фанерной полке среди других книг, бумаг, дискет, лекарств начатых, с истекшим сроком годности, старых монет, исписанных шариковых ручек и непарных к ним колпачков. Это было второе и на тот момент последнее издание начала 1990-х. В мягком переплете с потрепанными углами. На белой обложке косо проступали сахарные башенки храма Василия Блаженного. Этот ходульный символ Москвы, вырезанный из черно-белой фотографии, более походил на ярмарочный замок ужасов. Его пересекала растущая красная кривая какого-то графика производительности. Вокруг порхали цифры и проценты, повторялось название главной советской газеты — «Правда». Не было никаких сомнений, что правда на пожелтевших страницах книги будет отличаться от газетной и, вполне возможно, изобличит ее ложь. Даже несмотря на сопровождающие книгу иллюстрации, составленные из фотографий того времени, с которых смотрели грязные лица ликующих рабочих и работниц, а партийные боссы взирали на них пристально и категорично. Коллажи из фотографий, будто размноженных на плохом ксероксе, казалось, нарочно искажали оптимистичную и полную надежд действительность. На них и солнечный день южного курорта походил на угрюмую северную ночь. Типографская чернота поглотила даже золото на луковках стройных башен белоснежных православных церквей. Удивительно, но, пока я листала книжку, мои руки оставались чистыми.
Книга тогда еще не была так истрепана и испещрена пометками, как сегодня, после стольких лет ее многократного чтения-изучения. Несмываемыми синими чернилами энергично и решительно были обозначены всего две явные опечатки. Профессиональный рефлекс? Ведь не так давно непроявленная бдительность сурово наказывалась. И я никак не могу вспомнить, в каком из множества штудируемых последнее время окололагерных текстов мне довелось прочесть о такой едва ли не фатальной ошибке. Я смутно припоминаю диалог, разговор двух женщин на жаркой летней улице, и отчетливо — слова одной из них, которая не понимает и негодует: «Ведь это простая описка. С чего вы взяли, что вас завтра уволят? Всем известно, что вы лучшая машинистка в бюро». Эти слова произнесла Софья Петровна, героиня одноименной повести Лидии Чуковской — проникновенного рассказа о нежелании да и просто невозможности заглянуть в будущее, которое противоречит всем правилам и здравому смыслу. Это одно из первых произведений о повседневной жизни при Большом терроре, на первый взгляд — жизни невероятно спокойной. Роман Иржи Вайля как раз из числа этих книг.
На полях стояло еще несколько карандашных пометок: палочки, крестики и восклицательные знаки. Главным образом — в послесловии, где говорилось о судьбе прозаического дебюта Вайля, на полвека оказавшегося под запретом. В послесловии, которое убедительно доказывало, что книга представляет собой интерес далеко не только политический. Однако два слова, приписанные карандашом на странице двести семьдесят три, подчеркивали, что чтение это политическое. «Энтузиазм и разочарование» — значилось в нижнем углу. Это была единственная артикулированная пометка, сделанная в книге ее прежней владелицей. Ключ. Парадоксальным образом тот самый ключ, которым надолго и прочно закрыли доступ к роману его первые критики. Те, кто читали его сразу после публикации в 1937 году. (Может быть, как раз в ноябре, самом страшном месяце в памяти лет? Нет, как я узнала много позже, книга вышла в декабре.) Те, кто в следующем году в своих рецензиях объявили, что Иржи Вайль не выдержал столкновения с действительностью. Нарекания более снисходительные состояли в том, что произошло это потому, что сам материал, деликатный и хрупкий, воспротивился благим замыслам автора. Более беспощадные заклеймили его мелким буржуем, который смотрит на мир сквозь дырку в Эмментале.
Мир, на который Иржи Вайль смотрел в книге «Москва-граница», был миром иностранцев. Он и сам принадлежал к этому особенному миру привилегий и остракизма одновременно. Написать о нем он твердо решил еще во время пребывания в Москве, о чем и сообщил своей чешской приятельнице Ярославе Вондрачковой 22 января 1934 года: «Желаю Вам построить прекрасную дачу. Мне хотелось бы, как приеду домой, написать там роман, хотя романов я никогда не писал. Это был бы роман о жизни иностранцев в Москве и строительстве метрополитена».
Иностранцев, чьи судьбы Вайль изображает в романе, трое. Женщина и двое мужчин. Двое обычных людей и один герой-мученик. Ри — дочь еврейского фабриканта из моравского городка, она с опаской, но безропотно следует в советскую столицу за своим мужем, польским инженером Робертом, который получил там работу. Ян Фишер — пражский интеллектуал, журналист и литератор, партийный работник, работающий в Москве переводчиком. Рудольф Герцог — румынский коммунист и профессиональный революционер. Пути героев пересекаются. Но у каждого своя собственная история. И по-своему трагическая. Сопротивляясь сначала, Ри послушно вливается в новое коллективное общество, которое сокрушает и перемалывает любую индивидуальность. Ян Фишер будет этим обществом безжалостно раздавлен и с отвращением исторгнут. Рудольф Герцог отдаст за него жизнь.
Впервые я открыла книгу в тот год, итог которому, оглядываясь назад, можно подвести теми двумя словами, которые написала на полях издания его прежняя владелица. И ключи к событиям того года — как стало ясно по прошествии лет — как раз энтузиазм и разочарование. Это было в начале осени 2012 года. В Москве. Тогда с концом лета затихали протесты против выборов с предопределенным исходом, в которых два действующих лидера государства хотели по-тихому и не привлекая внимания поменяться ролями. Гладко провести подобную рокировку, к удивлению многих, помешали стихийные демонстрации в первые дни декабря 2011 года. Люди отказывались мириться не столько с самой заменой и ее бессменными актерами, сколько с неприкрытой фальсификацией итогов выборов. На глазах у них в урны вбрасывались стопки заранее подготовленных бюллетеней, к участкам голосования подъезжали все новые автобусы невесть откуда взявшихся избирателей. Однако с начала митингов, маршей и молчаливых одиночных пикетов, для которых в чешском языке я не могу подобрать подходящего слова, прошло меньше года, и осторожный энтузиазм по поводу того, сколько еще недавно апатичных и аполитичных людей решилось выйти на улицы и заявить о своих законных правах, начал угасать. Вместе с энтузиазмом ослабевала и решимость. Мало кто из новоиспеченных революционеров с белыми ленточками, символизирующими ненасильственность протестов и требуемых перемен, желал бы провести еще одну холодную зиму на улице, тем более что изначально царившая там атмосфера карнавала испарилась, а непосредственного эффекта было не заметно.
Когда я открывала книгу Вайля в начале осени 2012 года, энтузиазм уже сменялся разочарованием. Было очевидно, что ожидания застенчивых революционеров, содрогающихся от ужаса при слове «революция», не выдержали столкновения с действительностью. Решающее событие произошло весной 6 мая 2012 года на Малом Каменном мосту, что ведет к Болотной площади недалеко от Кремля, где когда-то действительно было болото, к той площади, которая издавна была местом народных гуляний, кулачных боев, публичных наказаний и казней. Шансов выдержать столкновение не было никаких, и прежде всего потому, что действительностью здесь оказался ОМОН — «космонавты» в огромных черных шлемах и пуленепробиваемых жилетах, сжимающие в руках резиновые дубинки и электрошокеры и готовые пустить их в дело. Омоновцы своими телами и поливальными машинами перегородили дорогу демонстрантам, пребывающим в радостно-майском настроении, которые по пустому шестиполосному шоссе стекались в центр города и, по-видимому, больше радовались первому солнышку, нежели столь неожиданно многолюдному шествию и возможной победе. Шествие застопорилось где-то возле кинотеатра «Ударник», откуда до Болотной площади оставалось еще несколько сотен метров, и кто-то из передних рядов бросил клич перейти к сидячей демонстрации. До меня тоже докатилась эта осторожная волна, и я села по-турецки прямо на асфальт. Однако волна была слишком слабой, чтобы перекатиться дальше за мост и реку, откуда неустанно продолжали стекаться люди, которые понятия не имели, что творится впереди, за пределами их зоны видимости, заслоненной головами других. Я тоже толком ничего не видела и ориентировалась на тех, кто находился в непосредственной близости, как птица или рыба в стае, как ячейка клеточного автомата. Нерешительные участники озабоченно вопрошали: «А что, если это провокация?» Они растерянно высились среди людского моря, которое доходило им максимум до уровня колен. Но вдруг это море снова заволновалось и поднялось, в его мирные воды вторглись стражи порядка в скафандрах и принялись ловить случайных жертв. Те от них инстинктивно шарахались прочь, пятились, пригнувшись и прикрывая руками животы. Когда разъяренным «космонавтам» все же удавалось схватить какую-то жертву, они вытягивали ее из толпы, изо всех сил перетягивая в свою сторону до тех пор, пока не отрывали от скопления народа и в конечном итоге силой не заталкивали в приготовленный автозак. Может быть, в этой мясорубке кто-то из перепуганных протестующих в целях своей или чужой обороны и в самом деле метнул, как потом утверждало обвинение, «неустановленный круглый предмет желтого цвета» — лимон и, скорее всего, в итоге вместе с десятками других людей провел несколько лет в тюрьме по «болотному делу», получив срок за свои необоснованные ожидания и в назидание другим, чтобы неповадно было.
Болото высыхало. Впрочем, об этом со злой иронией свидетельствовали и лозунги на транспарантах во время монструозного первомайского шествия, которое намеревалось воплотить совершенно иные ожидания, нежели были у тех, кого здесь разогнали чуть позже, всего пять дней спустя. От этого организованного первомайского веселья и обязательной демонстрации силы веяло страхом. Потом стало подмораживать. Наступала осень. Дворники — выходцы из Средней Азии — исступленно трясли деревья и дубасили метлами по веткам, чтобы опали все листья до последнего, чтобы как можно быстрее собрать их в черные полиэтиленовые мешки и вывезти на свалку — или куда пропадают эти тщательно упакованные листья? Перед наступающей в Москве зимой, той, которой нет конца, город должен был стать совершенно чистым.
Вряд ли тогда можно было устоять и прочесть роман Вайля о Москве первой половины 1930-х, роман об энтузиазме и разочаровании, о столкновении ожиданий с реальностью иначе, а не как аналогию, может, даже предупреждение — хотя такое чтение вводит в заблуждение, хотя мелкие совпадения часто заслоняют и коренные отличия. Той осенью разговоры о возвращении тех лет, репрессий и сталинского террора велись повсюду. Атмосферу еще не пронизал гнетущий страх, но опасения уже витали в воздухе. Прошлое пожирало настоящее, не говоря о будущем.
Москва Иржи Вайля, Москва иностранцев, которые приехали сюда работать, Москва москвичей, которые с удовольствием водят компанию с этими иностранцами, показалась мне очень близкой, несмотря на большое расстояние во времени. Тем более что я сама была иностранкой и не один год жила и работала в Москве. Кроме того, в книге было два отрывка о Москве, которые, как одни из немногих, отметила и первая читательница присвоенного мною издания. Москва там описана как громадный, чужой и равнодушный город, в котором главную героиню, юную и беззащитную, несчастную и беспомощную Ри, охватил жуткий страх. Это был ужас перед неизвестным: всеобщей дисгармонией, невозможными и даже чудовищными сочетаниями, перед совершенно иным и непостижимым порядком, который со стороны кажется хаосом и который, в конце концов, и есть хаос.
Но город меня не пугал уже давно, если вообще пугал когда-либо. Тщетно пытаюсь вспомнить свои впечатления, когда я попала сюда впервые в ноябре 2002 года. Тогда всего через пару часов после приезда у меня была назначена встреча возле конного памятника маршалу Жукову, что стоит недалеко от Красной площади. Должна же я была взглянуть на эту площадь, пусть даже и через заграждения, которыми ее тогда бог знает зачем постоянно оцепляли. Память моя не сохранила ни единого образа этой выпуклой мощеной площади, лишь горизонтально торчащий лисий хвост маршаловского коня на неуклюже прямых ногах. Ни одного снимка Красной площади у меня нет и в стопке отпечатанных фотографий из того первого путешествия, я перебираю их и удивляюсь, что они такие серые, хотя сняты на цветную пленку, хотя местами там проглядывает слабое ноябрьское солнце.
Нет, не внушал мне ужаса и храм Василия Блаженного — этот зловещий, полыхающий всеми красками замок, расположенный в нижней части такой на удивление небольшой Красной площади, он-то и затягивал перепуганную Ри куда-то в пропасть. Не внушали мне ужаса и более мощные драконовские башни — зубчатые верхушки семи сталинских высоток, пронзившие стальное московское небо, о котором Вальтер Беньямин в своем дневнике 25 января 1927 года писал, что такого широкого неба нет ни над каким другим городом-гигантом. Тем более что одна из высоток, та, что всех выше, целый год была моим домом.
Меня не пугал город и его причудливый облик, который со времен Вайля изменился значительно. Никаких высоток тогда еще не было. Совсем недавно взорвали храм Христа Спасителя, и на его месте во время пребывания Вайля зияла глубокая дыра — котлован для монументальнейшего, но так никогда и не построенного Дворца Советов. Сталинская реконструкция Москвы в то время только начиналась: авангардисты сменялись консерваторами, конструктивизм — сталинским ампиром. Вайль следил за этими переменами и, судя по письму от 30 октября 1934 года, адресованному Ярославе Вондрачковой, следил с интересом и симпатией к возможным результатам, с надеждой, как оказалось, напрасной: «А теперь будет главное сражение за архитектуру. Именно здесь самое широкое поле битвы. Как ты знаешь, безвкусицы тут было масса: ужасное здание американского посольства, гостиница Моссовета, обезображенная всякими кариатидами. Но уже наметился перелом. Все покажет съезд архитекторов в январе, на который должна приехать также делегация из Чехословакии. Пока же ведутся предварительные дискуссии. В этих дискуссиях современные архитекторы выступают весьма агрессивно. Веснин, например, совершенно разгромил Жолтовского за американское посольство. Потом в „Известиях“ вышла статья Эренбурга. Кроме того, население само недовольно такой эклектичной архитектурой. Поэтому можно ожидать, что на съезде архитекторов снова одержит верх современная архитектура. Все это звучит обнадеживающе. В целом же иностранцы ведут себя глупо. Вместо того, чтобы демонстрировать преимущества современной архитектуры, вместо того, чтобы ринуться в бой, они прячутся за печкой, как наш друг Яромир, который сидит у Веснина и внедряет современные проекты, если только это его собственные, а все остальные — к черту. Или же Лотте Бейсе, которая собралась и уехала в Голландию со своим мужем Стамом, вместо того чтобы попытаться что-то построить. Поэтому и не удивительно, что консерваторы вроде Щусева возводят таких монстров». Однако даже они со временем превратились лишь в своеобразные декорации, клише с открыток, которые привыкаешь не замечать и живешь среди них равнодушно, или находишь в них извращенное удовольствие, или они тебе просто нравятся. Во время моих первых визитов Москва выглядела, пожалуй, даже причудливее, ухмылялась, как, например, возвышающийся прямо из реки монструозный Петр Великий, который сначала был Колумбом, но ровно до тех пор, пока на рубеже тысячелетий южноамериканцы с благодарностью не отказались от этого щедрого подарка московского придворного скульптора.
Нет, город меня не пугал.
Меня бросало в дрожь оттого, что за прошедшие почти восемьдесят лет мало что изменилось в его повседневной жизни, в буднях его жителей — бесправных и потому таких жестоких? Правда, галош они уже не носили. Да я и сама рядом с ними подчас ощущала себя маленькой и беззащитной, несчастной и беспомощной.
На дорогах во время дождя неудержимо бурлили мутные ручьи. На пути им не встретится ни одной решетки водостока, куда они могли бы свободно стекать и смывать попутную грязь. Откуда в городе столько грязи? По тротуарам так же интенсивно устремлялись серые толпы вечно спешащих и озабоченных людей. И они тщетно выискивали проходы и лазейки, чтобы выскользнуть из этого людского потока. Обычная дорога на работу постоянно оборачивалась героической борьбой. Дождаться, пока у перехода скопится солидная толпа пешеходов, и только потом в монолитной давке отважиться перейти шумную шестиполосную проезжую часть без светофора. Перепрыгивать глубокие лужи под разбитыми бордюрами. А те, что разлились до ширины моря, перейти вброд. Острыми локтями пробить себе дорогу в переполненный автобус. Кто знает, когда и приедет ли вообще следующий. Молча сносить тычки окружающих. Порой болезненные. Но ведь и вы пихаетесь. И я! Отвоевывать пространство, даже если придется висеть на поручне, стоя на одной ноге. Потом яростно продираться к выходу. С облегчением позволить дверям выплюнуть тебя наружу. Прямо в почерневший сугроб, например. Добравшись до работы, чувствовать себя победителем, обессиленно рухнуть на стул, чтобы влажной тряпкой протереть испачканную обувь. А то, что пришлось сражаться не на жизнь, а на смерть, по вам никак не должно быть заметно. День только начинается. И в голове у вас еще долго, как по кругу, непрерывным потоком бу-дут вертеться стихи: «О, как ты сдерживаешься, чтобы не закричать, не взвыть, не выдать себя — ничем — посреди топота спешащих жить, — поскальзывающихся, встающих, оскаливающихся, жующих, сталкивающихся — лоб в лоб — толп, толп!»
Эти стихи Яна Сатуновского под номером 57 не будут разбиты на отдельные строчки, в памяти будут настойчиво повторяться и оседать лишь какие-то фрагменты и осколки: О, как ты сдерживаешься, чтобы не закричать, не взвыть, не выдать себя ничем… О, как ты сдерживаешься… не закричать… не взвыть… не выдать… Окактысдерживаешься… сдерживаешься… сдерживаешься… сдерж… сдер…
Иржи Вайль сдерживался. Не закричал и не взвыл. По крайней мере — вслух. По крайней мере — прилюдно. Достаточно было и вздохов-признаний в частной переписке с пражскими друзьями, а крики и жалобный вой были не нужны.
…я, как говорится, позабыт-позаброшен, как шест в заборе.
Тут все есть, кроме кофе.
…еще услышишь кофейный SOS.
Я очень устал…
…у меня полно работы, никогда в жизни столько не работал.
…я очень занят на работе.
Нет времени отдохнуть на природе.
Времени в самом деле мало.
Работы страшно много, порой работаю до 12 часов ночи.
Ни на что нет времени.
Даже на любовь.
Лишь бы времени побольше.
…если б не было столько работы.
Из-за вздохов-признаний Вайль лишился работы в московском Издательстве иностранных рабочих Коминтерна. Но мог лишиться и жизни. Ведь дело было вскоре после убийства Сергея Кирова. «Рука врага вырвала из наших рядов одного из лучших сыновей великой коммунистической страны, первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Сергея Мироновича Кирова», — сообщила всесоюзная ежедневная газета «Известия» в одном из многочисленных некрологов 2 декабря 1934 года, на следующий день после выстрела в Смольном. Вайль потом напишет о том времени в «Москве-границе»: «Враг был где-то в стране, он прятался, скрывался под всевозможными масками, враг мог быть всюду, даже в самых высших учреждениях республики, врага нужно было сокрушить. Улица взывала к отмщению…» [1]
В одном утерянном, может быть, и несуществующем письме в Прагу кому-то из близких Вайль будто бы утешался мыслью, что хуже, чем тут в Москве, ему могло быть только в немецком концлагере. По крайней мере, об этом говорилось в заявлении главы партийной ячейки Ярослава Прохаски, датированном 7 января 1935 года: некая товарищ Новакова узнала о существовании этого письма от товарища Гильды Матоушковой уже больше года назад, когда была с визитом в Праге; кроме того, неназванный товарищ Ю. написал из Праги 20 ноября 1934 года следующее: «Я неоднократно слышу, что твой приятель Вайль страшно несчастен, он пишет в Прагу знакомым душераздирающие письма, что несчастнее он мог бы чувствовать себя только в концлагерях». И на закрытом заседании партийной группы издательства, которое проходило 20 января 1935 года, Иржи Вайль был объявлен чуждым рабочему движению элементом, буржуем, лицемером, эгоистом и оппортунистом, который думает только о собственном материальном благополучии и без колебаний затевает всякие контрреволюционные выходки. Да, выходки. А также проделки, подлости, капризы и хулиганство. Как еще можно заклеймить его признания?
Речь держали один за другим, товарищи обоих полов, его недавние коллеги по издательству. Порицали. Осуждали. Клеймили. Предлагали наказание и пути исправления. Дистанцировались и сами каялись. Призывали к всеобщей бдительности.
Мне слышатся их приглушенные голоса, будто они действительно доносятся из-за закрытых дверей. Я читаю и перевожу энный экземпляр протокола, слепую машинописную копию, которая хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории, в сером конструктивистском кубе в центре Москвы, где раньше был Институт Ленина, а потом Центральный архив компартии под разными названиями. Над главным входом по-прежнему нависают три массивных рельефа, откуда взирают серьезные лица Маркса, Энгельса, Ленина.
Так писать, как писал Вайль, может только враг соц. революции.
Вайль никогда не был партийцем. Он, как многие интеллигенты, пришел к нам, когда была революционная волна, а когда она спала, ушел от революционного движения. Революционные интеллигенты не поступают так, как поступил Вайль.
Вайль никогда не был коммунистом. У западных рабочих, и у коммунистов в особенности, совсем другие отношения к СССР, чем было у Вайля. Все стремятся в СССР. Вайль явный двурушник. Вайля из партии надо исключить и направить на шахту, фабрику, в массы.
Согласен с тем, что Вайлю не место в компартии.
Согласен с тем, что Вайлю не место в компартии, и указываю на особенную опасность, состоящую в том, что Вайль одно писал о СССР партийцу и другое — противоположное — беспартийному.
Согласна насчет необходимости исключить Вайля из партии. Признаю, что чешские товарищи и особенно я виновата тоже в невыявлении Вайля. Указываю, что с чехословацкими товарищами довольно часто бывает, что приезжают в СССР с энтузиазмом, но, не имея здесь тех удобств, к которым привыкли, начинают жаловаться и становятся недовольными. Но так как они этого не скрывают, то удается им объяснить трудности, с какими нам приходится бороться в СССР, и убедить их. У Вайля плохо то, что он это скрывал, а потому не мог преодолеть.
Тут нельзя говорить об аполитичности Вайля; это чуждый элемент.
Не согласна с определением Вайля как классового врага, это слишком большая честь для него. Это просто мелкий буржуа, шкурник.
Группа не проявила достаточной бдительности. Нет гарантий, что нет еще Вайлев среди нас. Несомненно, в настоящий момент Вайль в рядах классового врага. Он, несомненно, понимал, что делает, но он искал только обеспеченной материально жизни. Вайль пойдет туда, где ему будет лучше [2].
После этого Иржи Вайлю пришлось покинуть город, пришлось уехать далеко — в самую настоящую Азию.
Когда он вернулся в Чехию и уже заканчивал «Москву-границу», то 12 июля 1936 года послал Соне Бартаковой письмо — грустное воспоминание о Москве:
«Дождь мне напоминает о Москве, там он идет постоянно, люди ходят в галошах, по улицам текут настоящие ручьи, и галоши хлюпают по асфальту. И поскольку одному богу известно, по какой причине там нет зарешеченных водостоков, то вода спокойно течет себе по тротуару, и вот вам пожалуйста — асфальт провалился. Людям теперь приходится перепрыгивать эту впадину, зрелище невеселое — скакать под дождем, хотя со временем поднатореешь. Когда я вспоминаю эти впадины и как в Азии я перепрыгивал через решетки оросительных каналов, то вся моя жизнь в Советском Союзе кажется теперь сплошной скачкой с препятствиями, что по-английски steple-chase (не знаю, правильно ли написал), такие
