автордың кітабын онлайн тегін оқу Придворный

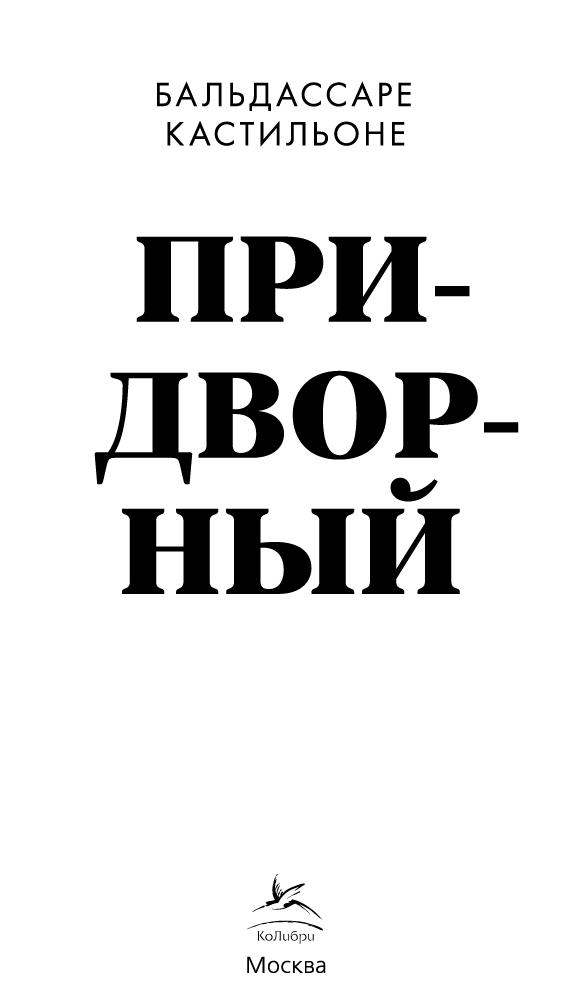
Перевод с английского Петра Епифанова
Оформление обложки Вадима Пожидаева-мл.
Редакция благодарит за помощь в подготовке книги
специалиста по истории танца
Екатерину Михайлову-Смольнякову
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
Кастильоне Б.
Придворный / Бальдассаре Кастильоне ; пер. с ит. П. Епифанова. — М. : Колибри, Азбука-Аттикус, 2021.
ISBN 978-5-389-20256-6
16+
Сочинение итальянского дипломата, писателя и поэта Бальдассаре Кастильоне (1478–1529) «Придворный», соединяющее воспоминания о придворной жизни герцогства Урбино в начале XVI века с размышлениями о морали, предназначении, стиле поведения дворянина, приближенного к государю, — одна из тех книг эпохи Возрождения, что не теряли популярности на протяжении последующих веков и восхищали блестящие умы своего и будущих столетий. Для истории культуры труд Кастильоне явился подлинной сокровищницей, и сложно представить, насколько более скудными оказались бы знания потомков об эпохе Возрождения, не будь он создан.
Составленное в виде сборника занимательных и остроумных бесед, это ярко и непринужденно написанное произведение выходит за рамки источника сведений о придворных развлечениях своего времени и перечня достоинств совершенного придворного как всесторонне образованного и утонченно воспитанного человека, идеального с точки зрения гуманистических представлений. Создавая «Придворного» почти одновременно с известным трактатом Макиавелли «Государь», Кастильоне демонстрирует принципиально иной подход к вопросу, что такое реальная политика и человек, ее вершащий.
Как ни удивительно, за почти пятисотлетнюю историю этой знаменитой книги не было осуществлено ни одного полного ее перевода на русский язык, были опубликованы лишь отдельные фрагменты. И вот наконец у нас есть возможность познакомиться с прославленным памятником литературы в полном переводе.
© П. Епифанов, перевод, 2021
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство КоЛибри®
Вступительное слово
к российскому читателю
Перед вами книга, своеобразие которой в том, что она может быть прочитана под очень разным ракурсом. Ее можно прочесть просто как легкий, ненавязчивый, в полном смысле слова светский разговор о правилах хорошего тона; можно — как трогательное, хоть и приукрашенное, подернутое ностальгической дымкой, воспоминание о дворе герцогов Урбино, чей облик обессмертило искусство двух великих мастеров — Пьеро делла Франческа и Рафаэля. Книга большого друга Рафаэля, графа Бальдассаре Кастильоне (1478–1529) позволяет себя читать «не напрягаясь», на досуге. Оба главных антагониста шестнадцатого века, изнуривших Европу бесконечными войнами, император Карл V и французский король Франциск I, чрезвычайно любили эту книгу и, говорят, держали каждый у себя под подушкой, читая на ночь. «Книга о Придворном» была любимой книгой десяти поколений европейского дворянства, а в буржуазную эпоху заложила основы жизненной философии и эстетики дендизма, объединившей цвет английской культуры девятнадцатого века, от Байрона до Уайльда. Почему при такой популярности «Придворный» практически не проник в Россию до самого конца императорской эпохи — особый вопрос, над которым стоит подумать. (Об этом и о многих других интересных проблемах, связанных с этим сочинением, как и о судьбе ее автора, пойдет речь в большой сопроводительной статье к тексту.)
Наш перевод продиктован не только желанием заполнить давнюю лакуну, уплатить некий исторический и культурный долг. Книгу Кастильоне, со дня публикации которой скоро исполнится пятьсот лет (1528), настала пора прочесть внимательнее, пристальнее, осознав ее как плод зрелых, совсем не «досужих», а взволнованных и выстраданных размышлений человека, через судьбу которого прошли и тяжелые бури, и злодейства, и самые светлые и прекрасные порывы его эпохи. Углубляясь во внутренний мир автора, обнаруживая ходы его мысли, скрытые от поверхностного, беглого взгляда, мы обнаружим, что и для нашего времени имеет не отвлеченную, но живую практическую ценность его мысль о политике как об искусстве человеческих отношений как таковых. И мы, возможно, по-новому задумаемся о сложных, неочевидных, даже причудливых связях между политикой и искусством, политикой и поэзией, политикой... и любовью.
Переводчик
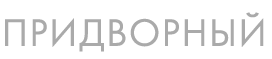
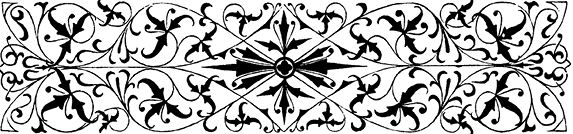
Досточтимому и славному
господину дону Мигелу да Силва,
епископу Визеу [1]
I
Когда синьор Гвидобальдо да Монтефельтро, герцог Урбинский [2], покинул этот мир, я вместе с некоторыми другими рыцарями, ему служившими, остался на службе у герцога Франческо Мария делла Ровере [3], его преемника в государственном правлении по праву наследства, и поскольку в душе моей еще живо было благоухание добродетелей герцога Гвидобальдо и то удовольствие, которое доставило мне в его дни дружеское общение со столь превосходными людьми, обретавшимися тогда при урбинском дворе, память о том побудила меня написать эти «Книги о Придворном» [4], что я и сделал в течение немногих дней, намереваясь со временем исправить огрехи, порожденные стремлением поскорее уплатить долг памяти. Но долгие годы фортуна беспрерывно держала меня под гнетом столь тяжелых испытаний, что я вовсе не имел возможности довести книги до такого состояния, чтобы мой несовершенный вкус остался ими удовлетворен.
Когда же я находился в Испании и из Италии мне сообщили, что синьора Виттория Колонна, маркиза Пескары [5], для которой я прежде сделал копию книги, нарушила данное мне обещание, отдав ее значительную часть в переписку, — [то] я не мог не почувствовать некоторое беспокойство, опасаясь многих неприятностей, которые в подобных случаях могут произойти, и тем не менее, веря, что у этой дамы, чьи добродетели я всегда чтил как нечто божественное, достанет разума и осмотрительности на то, чтобы я не понес какого-либо ущерба, подчинившись ее пожеланиям. Наконец, я узнал, что упомянутая часть книги ходит в Неаполе по рукам многих, и, поскольку люди всегда жадны до новинок, подумал, что кто-нибудь попытается ее напечатать. Встревоженный такой опасностью, я решился наскоро поправить в книге то немногое, что позволяло время, с намерением ее скорее опубликовать, считая меньшим злом увидеть ее мало исправленной собственной рукой, нежели сплошь истерзанной чужими.
Итак, чтобы исполнить свое намерение, я принялся ее перечитывать; и на первом же развороте, как только прочел заголовок, меня охватила немалая печаль, которая становилась все сильнее, чем дальше я продвигался. Ибо я вспоминал, что большинство собеседников, представленных мной, уже умерли: кроме лиц, упомянутых в предисловии к последней части, умер и сам мессер [6] Альфонсо Ариосто, которому адресована эта книга, обходительный и скромный молодой человек чудеснейшего нрава, способный ко всему, что подобает делать придворному [7]. Умер и герцог Джулиано деи Медичи, доброта и благородная любезность которого заслуживали, чтобы мир наслаждался ими более долгое время [8]. Мессер Бернардо [9], кардинал Святой Марии в Портике [10], за остроту и приятную живость ума любимый всеми, кто его знал, — и тот умер. Умер синьор Оттавиано Фрегозо [11], человек по нашему времени редчайший: великодушный, благочестивый, исполненный доброты, разума, осмотрительности, учтивости, истинный друг чести и добродетели, столь достойный похвал, что хвалить его вынуждены были даже его враги; а тех несчастий, которые он вынес с величайшей стойкостью, было вполне достаточно, дабы увериться, что фортуна как прежде была, так и ныне остается враждебна добродетели. Умерли и многие другие из упомянутых в книге, кому, казалось, природа обещала весьма долгий век. Но о чем невозможно и сказать без слез, это — что умерла сама синьора герцогиня [12]; и если дух во мне сокрушается от потери стольких моих друзей и государей, оставивших меня в этой жизни, словно в пустыне, полной невзгод, то насколько горше для него скорбь от кончины синьоры герцогини, нежели кого-либо другого, ибо она превосходила всех остальных, и я привязан к ней был больше, чем к кому бы то ни было еще.
Итак, дабы не опоздать с уплатой долга, которым я связан] перед памятью столь превосходной государыни и других, кого уже нет в живых, а кроме того, понуждаемый опасностью, нависшей над книгой, я дал ее напечатать и распространить в таком виде, как позволила мне срочность дела. Поскольку же вам ни о синьоре герцогине, ни о других, ныне покойных, кроме герцога Джулиано и кардинала Святой Марии в Портике, не довелось составить представление при их жизни, то, чтобы вы получили его, насколько в моих силах, хотя бы после их смерти, я посылаю вам эту книгу, словно живописный портрет урбинского двора, выполненный не рукой Рафаэля или Микеланджело, но художника неважного, умеющего набросать лишь общие контуры, не расцвечивая правду приятными красками и не изображая иллюзорно с помощью искусства перспективы то, чего нет. И, как ни старался я показать в беседах подлинные качества и манеры упомянутых лиц, признаю, что не сумел ни выразить, ни даже обозначить добродетели синьоры герцогини; ибо не только слога моего недостаточно, чтобы выразить их, но и моих умственных способностей, чтобы их вообразить. И пусть меня порицают в этом или в еще чем-то достойном упрека (ибо я хорошо сознаю, что огрехов в книге немало), — я, во всяком случае, не стану уклоняться от истины ради красоты слога.
II
Но поскольку люди подчас находят такое удовольствие в попреках, что порицают даже не заслуживающее порицаний, некоторым, осуждающим меня за то, что я не подражал Боккаччо или не считал себя обязанным следовать обыкновению тосканской речи нашего времени [13], не премину ответить следующее. Хотя Боккаччо, обладая, по своему времени, гибким дарованием, местами писал изобретательно и мастерски, однако он писал гораздо лучше, когда вверялся лишь дару и природному чутью, без всякого иного пристрастия и заботы об отделке написанного, нежели когда тщательно и принужденно старался быть как можно более изысканным и правильным. И сами его приверженцы подтверждают, что он весьма погрешал в суждении о собственных вещах, низко ценя то, что доставило ему честь, и высоко — то, что не стоит ничего. Так что, подражая манере письма, которую порицают даже те, кто в остальном его хвалит, я не смог бы избежать по меньшей мере таких же упреков, которые за нее делали самому Боккаччо. И заслуживал бы их больше, чем он: поскольку он погрешал, думая, что делает хорошо, а я — сознавая, что делаю плохо. А подражай я тому способу, который у многих считается хорошим, но сам Боккаччо его не столь ценил, — мне казалось бы, что таким подражанием я заявляю о несогласии с суждением того, кому подражаю, — что, по-моему, было бы нелепым. И если бы даже это соображение на меня не подействовало, я не смог бы в самóм предмете подражать ему, не писавшему ничего сходного по теме с моими «Книгами о Придворном»; а в языке, как полагаю, не был бы и должен, ибо сила и истинная правильность хорошей речи больше, нежели в чем-то ином, заключаются в доходчивости, и всегда считается недостатком использование слов неупотребительных. Поэтому странно было бы мне использовать многие из слов Боккаччо, которые в его время были в ходу, а теперь оставлены самими же тосканцами. Не считал я себя обязанным использовать и нынешнюю тосканскую речь — ибо торговля между различными народами всегда приводила к тому, что от одного к другому переходят как товары, так и новые речения, которые затем либо сохраняются, либо утрачиваются, будучи приняты в обиход или отвергнуты. И это, кроме свидетельств у древних, ясно видно и у Боккаччо, у которого так много слов французских, испанских и провансальских, иные из которых, возможно, не очень понятны и нынешним тосканцам, что если их все удалить, то книга его изрядно уменьшится в объеме. И поскольку, по моему мнению, нельзя до конца пренебрегать наречиями других именитых городов Италии, где сходятся мудрые, даровитые и красноречивые люди, рассуждая на важные темы государственного правления, наук, военного искусства и разных занятий, то я считаю себя в полном праве употреблять на письме те из слов, используемых в этих краях, которые имеют в себе приятность, красоту в произношении и всеми считаются хорошими и выразительными, пусть они будут и не тосканского или даже не итальянского происхождения. Кроме того, в Тоскане в ходу много явно испорченных латинских слов, которые в Ломбардии и других частях Италии сохранились нетронутыми и без какой-либо перемены и при этом используются настолько всеобще, что благородные считают их приличными, а простолюдины без труда понимают. Так что не думаю, что я допустил ошибку, употребляя в книге иные из таких слов и охотнее выбирая чистое и подлинное в наречии моей родины, нежели испорченное и поврежденное в чужом. Мне не кажется добрым правилом то, что, как говорят многие, народный язык тем красивее, чем меньше имеет сходства с латынью; и не понимаю, почему одному наречию следует придавать намного более значительный авторитет, чем другому; чего ради думают, будто тосканское наречие способно испорченные и неуклюжие латинские слова облагородить и придать им такое изящество, что даже в такой поврежденности всякий может их использовать как добротные (с чем я не спорю), а ломбардское или любое другое — не вправе хранить те же латинские слова чистыми, целыми, подлинными, ни в чем не искаженными, так чтобы их хотя бы терпели. Поистине, как желание создавать новые слова или сохранять, вопреки обыкновению, вышедшие из употребления старые можно назвать дерзкой самонадеянностью, так желание наперекор тому же обыкновению истреблять и словно заживо хоронить слова, живущие веками, огражденные щитом использования от зависти времени и сохраняющие достоинство и блеск даже тогда, когда из-за войн и разрушений в Италии исказились язык, здания, одежда, обычаи, — такое желание не только трудноисполнимо, но и почти нечестиво. Поэтому мне кажется извинительным, что я не захотел ни пользоваться словами Боккаччо, вышедшими из употребления в Тоскане, ни подчиняться закону тех, что считают недопустимым использование слов, не употребляемых в Тоскане теперь. Полагаю, что и в предмете книги, и в ее языке — в той мере, в какой один язык способен помогать другому, — я имею образец среди авторов, достойных похвалы не менее Боккаччо; и не думаю, что ошибся с выбором: пусть лучше во мне узнáют ломбардца по моей ломбардской речи, чем не тосканца — по тому, что я буду говорить слишком по-тоскански: чтобы не вышло со мной, как с Теофрастом, в котором простая старуха узнала не афинянина, оттого что он говорил слишком по-афински [14]. Но поскольку об этом достаточно говорится в первой книге, я, устраняя предлог для всякого спора, признаюсь своим порицателям в одном: их тосканским наречием, столь трудным и таинственным, я попросту не владею; я писал на своем, так, как сам говорю, и для тех, кто говорит, как я. И думаю, что никого этим не оскорбляю: ибо, по-моему, никому не запрещается писать и говорить на собственном языке; равно как никого не заставляют читать или слушать то, что ему не по нраву. И если они не захотят читать моего «Придворного», я нисколько не сочту себя оскорбленным.
III
Есть люди, которые говорят, что поскольку очень трудно и даже почти невозможно найти человека столь совершенного, каким я желал бы видеть придворного, то излишне его и описывать, ибо пустое дело обучать тому, чему нельзя научиться. Им я отвечаю, что предпочту заблуждаться вместе с Платоном, Ксенофонтом и Марком Туллием, рассуждавшими об умопостигаемом мире и идеях, среди которых, по их мнению, существуют идеи совершенного государства, совершенного государя, совершенного оратора [15]: ибо в нем также существует и идея совершенного придворного. Если я и не смог приблизиться к его образу пером, то хотя бы меньше труда потребуется от придворных, чтобы делами приблизиться к тому пределу и конечной цели, которую я предложил им в своем сочинении; и если при этом они не смогут достичь того совершенства (в чем бы оно ни состояло), которое я попытался изобразить, тот, кто более других к нему приблизится, будет наиболее совершенным, — так же, как если из многих лучников, стрелявших в одну мишень, никто не попал в середину, тот, кто к этому был ближе других, и является, без сомнения, лучшим. Иные же говорят, что я решил изобразить себя самого, уверив себя, будто во мне есть все те свойства, которые я приписываю придворному. Отвечая им, не хочу отрицать, что я стремился достичь всего, что хотел бы видеть в придворном; думаю, тот, кто не имеет некоторого опытного знания о вещах, рассматриваемых в книге, едва ли смог бы и писать о них, каким бы он ни был эрудитом. Но я не настолько чужд здравого суждения о себе, чтобы возомнить, будто я опытом знаю все, чего способен пожелать.
Покамест же защиту от этих обвинений (а возможно, и от многих других) я вверяю суду общего мнения, поскольку чаще всего публика, даже не зная чего-то в совершенстве, природным инстинктом чувствует некий дух, исходящий от доброго и от дурного, и, даже не умея привести какой-то довод, одно с удовольствием принимает и любит, а другое отвергает и ненавидит. Так что, если книга в целом будет одобрена, я сочту ее удачной и достойной жить; если же не будет, сочту неудачной и буду думать о ней как о достойной забвения. И если даже общим судом мои обвинители не будут удовлетворены, то пусть хотя бы довольствуются судом времени, которое выводит в конце концов на свет скрытые изъяны всякой вещи и, будучи отцом истины [16] и нелицеприятным судьей, по всегдашнему своему обыкновению, выносит правый приговор о жизни или смерти написанного.
Бальд. Кастильоне
[1] Мигел да Силва (ок. 1480–1556) — португальский аристократ, граф. Посол португальского короля в Риме с 1514 г., с 1526 г. — епископ Визеу, в 1539 г. получил сан кардинала. Обвиненный в измене королем Жоаном III, был лишен португальского подданства, но продолжал успешную карьеру при папском дворе до конца жизни. Был известен широкой гуманистической образованностью.
[2] Гвидобальдо да Монтефельтро (1472–1508) — сын Федерико да Монтефельтро (1422–1482). Стал герцогом Урбино после смерти отца, в возрасте десяти лет. Несмотря на тяжелую болезнь (подагру), участвовал в ряде военных кампаний на стороне Святого престола при папе Александре VI. Тем не менее в 1502 г. был изгнан из Урбино войсками сына папы, Чезаре Борджиа, намеревавшегося овладеть всей Центральной Италией; вернул себе герцогство после смерти Александра VI, в 1503 г. Неспособный иметь наследника, вскоре усыновил юного Франческо Мария делла Ровере, приходившегося племянником и ему самому, и новому папе Юлию II.
[3] Франческо Мария делла Ровере (1490–1538) — сын Джованни делла Ровере, герцога Соры, синьора Сенигальи, племянник кардинала Джулиано делла Ровере, в будущем папы Юлия II. Рано остался без отца. Изгнанный в 1502 г. из родового владения войсками Чезаре Борджиа, нашел приют у дяди по матери, герцога Гвидобальдо. Усыновленный им в 1504 г., в 1505 г. женился на Элеоноре Гонзага, племяннице супруги Гвидобальдо, герцогини Элизабетты. В 1508 г. стал герцогом Урбино и вслед за тем получил звание генерал-капитана Церкви, т. е. главнокомандующего войск Святого престола. В 1517 г. лишен герцогства папой Львом Х, передавшим Урбино своему племяннику Лоренцо II Медичи. После смерти папы в 1521 г. смог вернуть Урбино и свое положение в папском войске. В течение 1510-х и 1520-х гг. участвовал в ряде военных кампаний. Проявил нерешительность при вторжении в Италию германских ландскнехтов императора Карла V (1526); отсутствие деятельного сопротивления им привело в конечном счете к разграблению Рима в марте 1527 г. В относительно мирные 1530-е гг., следуя традиции урбинского дома, мог посвящать больше времени престижному строительству и меценатству. Умер, отравленный своим брадобреем.
[4] В рукописях сочинение Кастильоне ходило под заглавием «Четыре книги о Придворном». Первое венецианское издание 1528 г., а также сделанные с него вскоре французский и испанский переводы вышли как «Il Libro del Cortegiano» («Книга о Придворном»), а в дальнейшем книга чаще издавалась как «Il Cortegiano» («Придворный»). Вариативность сохраняется и в современных изданиях.
[5] Виттория Колонна (1490/1492–1547) — известная поэтесса. Происходя из знатного римского рода, по матери приходилась герцогу Гвидобальдо двоюродной племянницей. В 1509 г. выдана замуж за маркиза Пескары, Фернандо д’Авалоса, кондотьера на службе испанского двора, который проводил всю жизнь в военных походах и с женой почти не виделся. В 1525 г. овдовела; уделяла много энергии литературным занятиям и делам христианской благотворительности. Вдохновительница религиозного кружка, ставившего задачей реформацию католической церкви, не выходящую из рамок ортодоксии. Уже на склоне лет Виттория стала объектом пылкой платонической любви Микеланджело и адресатом его любовных стихов.
[6] Мессер — вежливое обращение к любому человеку из «приличного общества» — как дворянину, так и состоятельному горожанину, уважаемому мастеру, человеку искусства. Женская форма — мадонна. Синьор (или синьора), с прибавлением имени, — так обращаются к феодальным владетелям городов, замков и селений, независимо от величины их владения. В контексте книги это слово иногда уместнее переводить как «государь», чем как «господин». Синьор, без прибавления имени, — на всем протяжении книги так обращаются к Франческо Мария делла Ровере, наследнику герцога; синьора (тоже без прибавления имени) — к герцогине Элизабетте Гонзага: все участники находятся в государстве, где абсолютным главой, государем является ее муж, а она — государыней. Вторая, к кому обращаются точно так же, — ее сноха и наперсница Эмилия Пиа, — не потому, чтобы ее положение при дворе было особенно высоко, но потому, что герцогиня назначает ее председателем и распорядителем бесед от своего лица, «наделяя всей своей властью» (см. с. 25).
[7] Альфонсо Ариосто (1475–1525), начав карьеру придворного при дворе феррарских герцогов д’Эсте, с 1496 г. перешел на службу к герцогу Миланскому Лудовико Сфорца. Здесь и произошло его знакомство с Кастильоне. В 1499 г. он вернулся в Феррару, где оставался на дипломатической службе все оставшиеся годы жизни. Двоюродный дядя поэта Лудовико Ариосто. Кастильоне называет Ариосто, скончавшегося пятидесятилетним, «молодым человеком», конечно, по воспоминаниям об их юношеской дружбе.
[8] Джулиано деи Медичи (1479–1516) — третий сын Лоренцо Великолепного, унаследовавший его прозвище, далее к нему так и будут обращаться: синьор Маньифико (Великолепный). После смерти брата Пьеро на короткий срок стал синьором Флоренции, из которой изгнан в 1494 г. за открытое служение интересам французской короны. Годы изгнания провел при дворе Урбино и в Венеции. В 1512 г. вместе с другим братом, Джованни (будущим папой Львом Х), и с помощью испанских войск отвоевал Флоренцию. С 1513 г. капитан Флорентийской республики. Король Франции, заинтересованный в союзе с Флоренцией, удостоил его титула герцога Немурского. Герцог Джулиано скоропостижно умер во время совместных приготовлений папской и французской дипломатии к тому, чтобы выставить его претендентом на неаполитанский престол.
[9] Бернардо Довици да Биббиена (1470–1520) — с молодых лет придворный у семейства Медичи. В годы их изгнания из города (1494–1512) входил в свиту Джованни Медичи (будущего папы Льва Х), проживавшего при урбинском дворе. В 1513 г. получил от Льва Х кардинальский сан, приобрел большой вес при папском дворе. Автор комедии «Каландрия», имевшей длительный успех у зрителей. В 1517 г. приказом папы Биббиена был на короткое время назначен командующим папским войском в борьбе против Франческо Мария делла Ровере, попытавшегося вернуть отобранное у него годом раньше герцогство Урбино.
[10] Церковь Святой Марии в Портике (Santa Maria in Portico) — одна из древнейших т. н. титулярных церквей Рима, представители которых входят в коллегию кардиналов.
[11] Оттавиано Фрегозо (ок. 1470 — 1524) — представитель влиятельного генуэзского рода, племянник герцога Гвидобальдо со стороны матери. С 1487 г., когда семейство Фрегозо было изгнано из Генуи, переселился в Урбино, где получил прекрасное образование и военную подготовку. Провел бóльшую часть молодости при дворе Урбино. В 1502–1504 гг. проявил доблесть в борьбе с войсками Чезаре Борджиа, защищая крепость Сан-Лео. С 1506 г. не раз безуспешно пытался овладеть Генуей; наконец, завоевав город с помощью испанского отряда, в июне 1513 г. был провозглашен дожем. Пытался проводить политику, направленную на примирение партий и международную защиту интересов генуэзского купечества. Во время французского вторжения в 1515 г. счел за единственный выход подчиниться Франции на условиях широкой автономии города и, отказавшись от титула дожа, принял пост королевского губернатора Генуи. Последовательно отстаивал интересы города, одновременно подавляя внутри его заговоры и мятежи. В мае 1522 г. Генуя после недолгой осады была взята испанцами, а Фрегозо, плененный их командиром Фернандо д’Авалосом, отправлен на о. Искью, где и умер. Знаменитые современники (П. Бембо, Н. Макиавелли, П. Альчионьо, Дж. Садолето) отзывались о нем с похвалами как о высоконравственном человеке, талантливом и мужественном политике, носителе высокой культуры.
[12] Элизабетта Гонзага (1471–1526) — дочь маркиза Мантуи Федерико I Гонзага и Маргариты Баварской. В 1488 г. выдана замуж за герцога Урбинского Гвидобальдо да Монтефельтро, больного и неспособного к супружеской жизни, о чем не была предупреждена. С достоинством переносила тяготы жизни с больным мужем и военные невзгоды; была дважды изгнана из Урбино — в 1502 г. (см. примеч. 2) и в 1517 г. (см. примеч. 3). После того как в 1521 г. Франческо Мария делла Ровере снова овладел герцогством, вернулась с ним и герцогиня Элизабетта. Славилась покровительством людям науки и искусства.
[13] По ряду исторических и географических факторов Италия является страной с огромным количеством диалектов, подчас имеющих такие отличия между собой, что носители одного вовсе не понимают носителей другого. Число диалектов, во всяком случае превышающее сотню, измерить точно весьма трудно, так как внутри каждого крупного диалекта можно вычленить более мелкие варианты. Это положение уходит корнями, вероятно, еще в Античность, когда местные варианты народной латыни складывались под влиянием языков древних италийских племен (лигурский, оскский и др.), а также греческого на юге и кельтских языков на севере полуострова. В Средневековье различия были усилены феодальной раздробленностью и внешними воздействиями, оставлявшими глубокие следы в языке (переселения германцев в IV–VI вв., вторжения арабов и норманнов и далее, вплоть до франко-испанских войн XVI в.). Первые заметные шаги к сложению литературного общеитальянского языка относятся к XIII в. и связаны с деятельностью т. н. тосканско-сицилийской поэтической школы, а также с проповедью св. Франциска Ассизского и его учеников на «народном языке». Свои канонические литературные образцы этот «народный язык» (в специальной литературе он и называется «вольгаре»; от volgo —простой народ) получил в XIV в. в творчестве великих тосканцев — Данте Алигьери, Франческо Петрарки и Джованни Боккаччо. Основой для него стали тосканские диалекты (прежде всего флорентийский); впрочем, в литературной форме вольгаре подчас стремился к восстановлению близости с латинскими формами, к очищению от слов сугубо местных, а также к использованию и внетосканского лингвистического материала. Дискуссия относительно форм и путей развития итальянского литературного языка, начатая трактатом Данте «De vulgari eloquentia» (заглавие традиционно переводится на русский как «О народном красноречии», 1303–1305), велась и в последующие века и не до конца угасла даже в наши дни. В начале XVI в. одной из авторитетных позиций была опора на язык тосканской поэзии и прозы XIV в. как на единственную норму литературной речи, провозглашенную П. Бембо. Кастильоне, будучи многолетним другом и корреспондентом Бембо, имел, как мы увидим из дальнейшего изложения, другую точку зрения. Впрочем, при подготовке к печати текст книги Кастильоне был отредактирован издателями в сторону большего соответствия тосканским языковым нормам.
[14] Феофраст (ок. 370 — между 288 и 285 г. до н. э.) — греческий философ, естествоиспытатель, теоретик музыки. Родившись на Лесбосе, с молодых лет жил в Афинах, куда приехал ради образования. Преемник Аристотеля во главе школы перипатетиков (Ликея). Этот случай передает Цицерон в диалоге «Брут, или Об ораторском искусстве», 46.
[15] Имеются в виду знаменитые античные сочинения: 1) диалог Платона «Государство», где от лица Сократа ведется рассуждение о наилучшем устройстве греческого города-государства; 2) написанная Ксенофонтом «Киропедия» («Воспитание Кира»), описывающая формирование качеств идеального монарха на примере Кира Старшего, создателя Персидского царства. В отличие от Платона, рассматривающего традиционную для греков модель самодовлеющего полиса, Ксенофонт описывает правителя сверхдержавы, предвосхищая будущую империю Александра; 3) трактат Марка Туллия Цицерона «О государстве» и несколько его диалогов, посвященных ораторскому искусству (на последние Кастильоне ссылается особенно обильно).
[16] Изречение взято у римского писателя II в. н. э. Авла Геллия. Ср.: Аттические ночи, XII, 11, 7: «Истина — дочь времени» (Геллий приводит эти слова со ссылкой на «одного из древних поэтов»).
[2] Гвидобальдо да Монтефельтро (1472–1508) — сын Федерико да Монтефельтро (1422–1482). Стал герцогом Урбино после смерти отца, в возрасте десяти лет. Несмотря на тяжелую болезнь (подагру), участвовал в ряде военных кампаний на стороне Святого престола при папе Александре VI. Тем не менее в 1502 г. был изгнан из Урбино войсками сына папы, Чезаре Борджиа, намеревавшегося овладеть всей Центральной Италией; вернул себе герцогство после смерти Александра VI, в 1503 г. Неспособный иметь наследника, вскоре усыновил юного Франческо Мария делла Ровере, приходившегося племянником и ему самому, и новому папе Юлию II.
[1] Мигел да Силва (ок. 1480–1556) — португальский аристократ, граф. Посол португальского короля в Риме с 1514 г., с 1526 г. — епископ Визеу, в 1539 г. получил сан кардинала. Обвиненный в измене королем Жоаном III, был лишен португальского подданства, но продолжал успешную карьеру при папском дворе до конца жизни. Был известен широкой гуманистической образованностью.
[4] В рукописях сочинение Кастильоне ходило под заглавием «Четыре книги о Придворном». Первое венецианское издание 1528 г., а также сделанные с него вскоре французский и испанский переводы вышли как «Il Libro del Cortegiano» («Книга о Придворном»), а в дальнейшем книга чаще издавалась как «Il Cortegiano» («Придворный»). Вариативность сохраняется и в современных изданиях.
[3] Франческо Мария делла Ровере (1490–1538) — сын Джованни делла Ровере, герцога Соры, синьора Сенигальи, племянник кардинала Джулиано делла Ровере, в будущем папы Юлия II. Рано остался без отца. Изгнанный в 1502 г. из родового владения войсками Чезаре Борджиа, нашел приют у дяди по матери, герцога Гвидобальдо. Усыновленный им в 1504 г., в 1505 г. женился на Элеоноре Гонзага, племяннице супруги Гвидобальдо, герцогини Элизабетты. В 1508 г. стал герцогом Урбино и вслед за тем получил звание генерал-капитана Церкви, т. е. главнокомандующего войск Святого престола. В 1517 г. лишен герцогства папой Львом Х, передавшим Урбино своему племяннику Лоренцо II Медичи. После смерти папы в 1521 г. смог вернуть Урбино и свое положение в папском войске. В течение 1510-х и 1520-х гг. участвовал в ряде военных кампаний. Проявил нерешительность при вторжении в Италию германских ландскнехтов императора Карла V (1526); отсутствие деятельного сопротивления им привело в конечном счете к разграблению Рима в марте 1527 г. В относительно мирные 1530-е гг., следуя традиции урбинского дома, мог посвящать больше времени престижному строительству и меценатству. Умер, отравленный своим брадобреем.
[6] Мессер — вежливое обращение к любому человеку из «приличного общества» — как дворянину, так и состоятельному горожанину, уважаемому мастеру, человеку искусства. Женская форма — мадонна. Синьор (или синьора), с прибавлением имени, — так обращаются к феодальным владетелям городов, замков и селений, независимо от величины их владения. В контексте книги это слово иногда уместнее переводить как «государь», чем как «господин». Синьор, без прибавления имени, — на всем протяжении книги так обращаются к Франческо Мария делла Ровере, наследнику герцога; синьора (тоже без прибавления имени) — к герцогине Элизабетте Гонзага: все участники находятся в государстве, где абсолютным главой, государем является ее муж, а она — государыней. Вторая, к кому обращаются точно так же, — ее сноха и наперсница Эмилия Пиа, — не потому, чтобы ее положение при дворе было особенно высоко, но потому, что герцогиня назначает ее председателем и распорядителем бесед от своего лица, «наделяя всей своей властью» (см. с. 25).
[5] Виттория Колонна (1490/1492–1547) — известная поэтесса. Происходя из знатного римского рода, по матери приходилась герцогу Гвидобальдо двоюродной племянницей. В 1509 г. выдана замуж за маркиза Пескары, Фернандо д’Авалоса, кондотьера на службе испанского двора, который проводил всю жизнь в военных походах и с женой почти не виделся. В 1525 г. овдовела; уделяла много энергии литературным занятиям и делам христианской благотворительности. Вдохновительница религиозного кружка, ставившего задачей реформацию католической церкви, не выходящую из рамок ортодоксии. Уже на склоне лет Виттория стала объектом пылкой платонической любви Микеланджело и адресатом его любовных стихов.
[7] Альфонсо Ариосто (1475–1525), начав карьеру придворного при дворе феррарских герцогов д’Эсте, с 1496 г. перешел на службу к герцогу Миланскому Лудовико Сфорца. Здесь и произошло его знакомство с Кастильоне. В 1499 г. он вернулся в Феррару, где оставался на дипломатической службе все оставшиеся годы жизни. Двоюродный дядя поэта Лудовико Ариосто. Кастильоне называет Ариосто, скончавшегося пятидесятилетним, «молодым человеком», конечно, по воспоминаниям об их юношеской дружбе.
[9] Бернардо Довици да Биббиена (1470–1520) — с молодых лет придворный у семейства Медичи. В годы их изгнания из города (1494–1512) входил в свиту Джованни Медичи (будущего папы Льва Х), проживавшего при урбинском дворе. В 1513 г. получил от Льва Х кардинальский сан, приобрел большой вес при папском дворе. Автор комедии «Каландрия», имевшей длительный успех у зрителей. В 1517 г. приказом папы Биббиена был на короткое время назначен командующим папским войском в борьбе против Франческо Мария делла Ровере, попытавшегося вернуть отобранное у него годом раньше герцогство Урбино.
[8] Джулиано деи Медичи (1479–1516) — третий сын Лоренцо Великолепного, унаследовавший его прозвище, далее к нему так и будут обращаться: синьор Маньифико (Великолепный). После смерти брата Пьеро на короткий срок стал синьором Флоренции, из которой изгнан в 1494 г. за открытое служение интересам французской короны. Годы изгнания провел при дворе Урбино и в Венеции. В 1512 г. вместе с другим братом, Джованни (будущим папой Львом Х), и с помощью испанских войск отвоевал Флоренцию. С 1513 г. капитан Флорентийской республики. Король Франции, заинтересованный в союзе с Флоренцией, удостоил его титула герцога Немурского. Герцог Джулиано скоропостижно умер во время совместных приготовлений папской и французской дипломатии к тому, чтобы выставить его претендентом на неаполитанский престол.
[11] Оттавиано Фрегозо (ок. 1470 — 1524) — представитель влиятельного генуэзского рода, племянник герцога Гвидобальдо со стороны матери. С 1487 г., когда семейство Фрегозо было изгнано из Генуи, переселился в Урбино, где получил прекрасное образование и военную подготовку. Провел бóльшую часть молодости при дворе Урбино. В 1502–1504 гг. проявил доблесть в борьбе с войсками Чезаре Борджиа, защищая крепость Сан-Лео. С 1506 г. не раз безуспешно пытался овладеть Генуей; наконец, завоевав город с помощью испанского отряда, в июне 1513 г. был провозглашен дожем. Пытался проводить политику, направленную на примирение партий и международную защиту интересов генуэзского купечества. Во время французского вторжения в 1515 г. счел за единственный выход подчиниться Франции на условиях широкой автономии города и, отказавшись от титула дожа, принял пост королевского губернатора Генуи. Последовательно отстаивал интересы города, одновременно подавляя внутри его заговоры и мятежи. В мае 1522 г. Генуя после недолгой осады была взята испанцами, а Фрегозо, плененный их командиром Фернандо д’Авалосом, отправлен на о. Искью, где и умер. Знаменитые современники (П. Бембо, Н. Макиавелли, П. Альчионьо, Дж. Садолето) отзывались о нем с похвалами как о высоконравственном человеке, талантливом и мужественном политике, носителе высокой культуры.
[10] Церковь Святой Марии в Портике (Santa Maria in Portico) — одна из древнейших т. н. титулярных церквей Рима, представители которых входят в коллегию кардиналов.
[13] По ряду исторических и географических факторов Италия является страной с огромным количеством диалектов, подчас имеющих такие отличия между собой, что носители одного вовсе не понимают носителей другого. Число диалектов, во всяком случае превышающее сотню, измерить точно весьма трудно, так как внутри каждого крупного диалекта можно вычленить более мелкие варианты. Это положение уходит корнями, вероятно, еще в Античность, когда местные варианты народной латыни складывались под влиянием языков древних италийских племен (лигурский, оскский и др.), а также греческого на юге и кельтских языков на севере полуострова. В Средневековье различия были усилены феодальной раздробленностью и внешними воздействиями, оставлявшими глубокие следы в языке (переселения германцев в IV–VI вв., вторжения арабов и норманнов и далее, вплоть до франко-испанских войн XVI в.). Первые заметные шаги к сложению литературного общеитальянского языка относятся к XIII в. и связаны с деятельностью т. н. тосканско-сицилийской поэтической школы, а также с проповедью св. Франциска Ассизского и его учеников на «народном языке». Свои канонические литературные образцы этот «народный язык» (в специальной литературе он и называется «вольгаре»; от volgo —простой народ) получил в XIV в. в творчестве великих тосканцев — Данте Алигьери, Франческо Петрарки и Джованни Боккаччо. Основой для него стали тосканские диалекты (прежде всего флорентийский); впрочем, в литературной форме вольгаре подчас стремился к восстановлению близости с латинскими формами, к очищению от слов сугубо местных, а также к использованию и внетосканского лингвистического материала. Дискуссия относительно форм и путей развития итальянского литературного языка, начатая трактатом Данте «De vulgari eloquentia» (заглавие традиционно переводится на русский как «О народном красноречии», 1303–1305), велась и в последующие века и не до конца угасла даже в наши дни. В начале XVI в. одной из авторитетных позиций была опора на язык тосканской поэзии и прозы XIV в. как на единственную норму литературной речи, провозглашенную П. Бембо. Кастильоне, будучи многолетним другом и корреспондентом Бембо, имел, как мы увидим из дальнейшего изложения, другую точку зрения. Впрочем, при подготовке к печати текст книги Кастильоне был отредактирован издателями в сторону большего соответствия тосканским языковым нормам.
[12] Элизабетта Гонзага (1471–1526) — дочь маркиза Мантуи Федерико I Гонзага и Маргариты Баварской. В 1488 г. выдана замуж за герцога Урбинского Гвидобальдо да Монтефельтро, больного и неспособного к супружеской жизни, о чем не была предупреждена. С достоинством переносила тяготы жизни с больным мужем и военные невзгоды; была дважды изгнана из Урбино — в 1502 г. (см. примеч. 2) и в 1517 г. (см. примеч. 3). После того как в 1521 г. Франческо Мария делла Ровере снова овладел герцогством, вернулась с ним и герцогиня Элизабетта. Славилась покровительством людям науки и искусства.
[15] Имеются в виду знаменитые античные сочинения: 1) диалог Платона «Государство», где от лица Сократа ведется рассуждение о наилучшем устройстве греческого города-государства; 2) написанная Ксенофонтом «Киропедия» («Воспитание Кира»), описывающая формирование качеств идеального монарха на примере Кира Старшего, создателя Персидского царства. В отличие от Платона, рассматривающего традиционную для греков модель самодовлеющего полиса, Ксенофонт описывает правителя сверхдержавы, предвосхищая будущую империю Александра; 3) трактат Марка Туллия Цицерона «О государстве» и несколько его диалогов, посвященных ораторскому искусству (на последние Кастильоне ссылается особенно обильно).
[14] Феофраст (ок. 370 — между 288 и 285 г. до н. э.) — греческий философ, естествоиспытатель, теоретик музыки. Родившись на Лесбосе, с молодых лет жил в Афинах, куда приехал ради образования. Преемник Аристотеля во главе школы перипатетиков (Ликея). Этот случай передает Цицерон в диалоге «Брут, или Об ораторском искусстве», 46.
[16] Изречение взято у римского писателя II в. н. э. Авла Геллия. Ср.: Аттические ночи, XII, 11, 7: «Истина — дочь времени» (Геллий приводит эти слова со ссылкой на «одного из древних поэтов»).
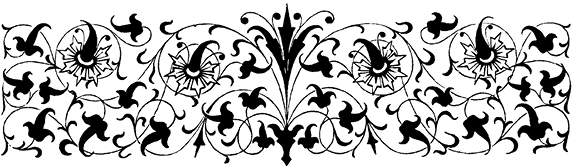
Первая книга
о придворном графа Бальдассаре Кастильоне
к мессеру Альфонсо Ариосто
I
Я долго раздумывал, любезнейший мессер Альфонсо, какая из двух вещей для меня труднее: отказать вам в том, о чем вы так настойчиво и не раз у меня просили, или же исполнить это. Ибо, с одной стороны, мне казалось крайне суровым отказывать в чем-то, и особенно в похвальном, человеку, которого я очень люблю и который, как чувствую, очень любит меня; с другой же стороны, браться за дело, не зная, сможешь ли довести его до конца, казалось мне не подобающим тому, кто ценит справедливые упреки настолько, насколько их следует ценить. Наконец, после долгих раздумий, я решился испытать в этом деле, какую помощь могут оказать моему усердию преданность и сильное желание сделать приятное, — то, что в иных вещах обычно весьма усиливает у людей способности.
Итак, вы просите, чтобы я описал образец поведения, наиболее приличествующий, на мой взгляд, благородному человеку, живущему при дворе государей, чтобы он мог и умел в совершенстве служить им во всяком разумном деле, получая за это от них благодарность, а от прочих похвалы. Одним словом, каков должен быть тот, кто заслуживает носить имя совершенного придворного, безупречного во всем. Обдумав эту просьбу, отвечаю вам, что, если бы мне самому не казалось бóльшим злом выглядеть недостаточно любезным в ваших глазах, нежели неблагоразумным в глазах всех других, я бы уклонился от этого труда, боясь прослыть самонадеянным у всех, кто знает, сколь трудно из великого разнообразия обычаев, употребляемых при дворах христианского мира, выбрать наиболее совершенную форму и как бы цвет этого придворного искусства. Ибо зачастую от привычки зависит, что одни и те же вещи нам нравятся или не нравятся; отчего порой и бывает, что обычаи, одежды, обряды и манеры, некогда бывшие в чести, становятся низкими и, наоборот, низкие становятся почитаемыми. Из чего ясно видно, что привычка больше, чем разум, имеет силу вводить между нами новое и предавать забвению старое; и кто пытается судить о совершенстве того или другого, часто ошибается. Итак, сознавая эту и многие другие трудности темы, на которую мне предложено писать, я вынужден кое-что сказать в свое оправдание и засвидетельствовать, что этот промах [17], если можно назвать его так, мы с вами разделяем; так что если я подвергнусь порицанию, то и вы тоже, ибо вина взвалившего на меня груз не по силам должна считаться не меньшей, чем моя, коли я этот груз на себя взял.
Итак, положим начало задуманному нами и, если возможно, создадим такого придворного, чтобы тот князь, который будет достоин его службы, даже обладая малым государством, мог бы именоваться величайшим государем. В этих книгах мы не будем следовать определенному порядку или правилу в форме четких предписаний, какие обычно используются в обучении чему-либо; но по примеру многих древних, обновляя благодарную память, приведем некоторые беседы об этом предмете, некогда происходившие между людьми выдающимися. Ибо хотя сам я не участвовал в них, находясь в то время в Англии [18], но, услышав о них вскоре по возвращении от лица, доподлинно мне их передавшего, все же попытаюсь их пересказать, насколько позволит память, чтобы вам стали известны суждения и мысли об этом предмете людей, достойных высшей похвалы, мнению которых в любом вопросе вполне можно доверять. И чтобы, двигаясь по порядку, достигнуть цели, которую имеет в виду наш рассказ, не будет также лишним поведать, чтó послужило поводом к этим беседам.
II
На склоне Апеннин, обращенном в сторону Адриатического моря, почти в середине Италии находится, как всем известно, небольшой город Урбино. И хотя он расположен среди гор, и не столь приятных на вид, как, возможно, иные, созерцаемые нами во многих других местах, однако небо так милостиво к нему, что земля в его округе весьма тучна и богата плодами; так что, в придачу к благоприятному воздуху, там в изобилии имеется все потребное для человеческой жизни. Но из величайших благословений, которыми осенен этот город, главным считаю то, что в течение долгого времени им преемственно правили превосходнейшие государи — кроме некоторого промежутка, когда он оказался на какое-то время лишен их посреди всеобщих бедствий Итальянских войн. Не заходя слишком далеко, достаточно привести во свидетельство этого славную память герцога Федерико, бывшего во дни своей жизни светочем Италии [19]. Нет недостатка в достоверных и многочисленных, еще живых свидетельствах его благоразумия, человеколюбия, справедливости, щедрости, неустрашимости духа и военного мастерства, в котором могут уверить его многочисленные победы, взятие неприступных крепостей, стремительность в походах, частые случаи, когда с немногими людьми он обращал в бегство большие и крепкие войска, и то, что он не проиграл ни одной битвы, по какой причине мы можем приравнять его ко многим славным древним. Он, среди прочих своих похвальных деяний, на крутом склоне, где расположен Урбино, построил дворец, по мнению многих, самый красивый, какой только можно найти по всей Италии; и так хорошо снабдил его всем потребным, что он казался не дворцом, но городом в форме дворца [20] — и не только тем, что обыкновенно бывает, вроде серебряной посуды, отделки комнат драгоценной парчой, шелком и другими подобными материями, — но украсил его великим множеством древних статуй из бронзы и мрамора, самыми отменными картинами, разнообразными музыкальными инструментами — и не встречалось там ни единой вещи, которая не была бы редкостной и превосходной. Ко всему этому он, пойдя на большие траты, присоединил огромное собрание самых замечательных и редких книг на греческом, латинском и еврейском языках, которые все украсил золотом и серебром, полагая их самым блистательным достоянием своего обширного дворца [21].
III
Итак, названный князь, сообразно естественному ходу вещей, имея уже шестьдесят пять лет от роду, умер [22] так же славно, как и жил, — а сына десяти лет, единственного у него наследника мужского пола, лишившегося уже матери, оставил после себя государем: это был Гвидобальдо. Он казался наследником не только государства, но и всех добродетелей отца; и с самого начала, в силу своих удивительных достоинств, внушал столько надежд, скольких, казалось, нельзя было ожидать от смертного; люди даже считали, что среди выдающихся деяний герцога Федерико не было более значительного, чем то, что он произвел на свет такого сына. Но фортуна, завистливая к столь великой добродетели, всею силой противостала такому славному началу: ибо, не достигнув еще и двадцати лет, герцог Гвидобальдо заболел подагрой, которая, сопровождаясь жесточайшими болями, в недолгое время так парализовала все его члены, что он не мог ни стоять на ногах, ни двигаться; и таким образом одно из самых красивых и статных тел этого мира было обезображено и расстроено в цветущем возрасте. Не удовлетворившись и этим, фортуна была так враждебна всякому его замыслу, что лишь изредка он добивался результата в задуманных им делах; и хотя ему были свойственны мудрая осмотрительность и стойкий дух, выглядело так, что все им предпринимаемое, хоть на войне, хоть во всем остальном, всегда кончается для него плохо. Свидетельством тому многие и разнообразные бедствия, которые он неизменно выносил с таким мужеством, что фортуне никогда не удавалось одолеть его добродетель. Напротив, презирая доблестной душой поднимаемые ею бури, он жил в болезни — словно здоровый, в злосчастиях — словно счастливейший, с великим достоинством и всеми почитаемый; и, невзирая на телесную немощь, он на самых почетных условиях сражался на службе у светлейших королей Неаполя Альфонсо [23] и Ферранте-младшего [24], у папы Александра VI [25], у венецианских и флорентийских правителей. Когда затем взошел на папский престол Юлий II [26], он был назначен капитаном Церкви. Все это время, следуя своему обыкновению, он прежде всего другого заботился о том, чтобы дом его наполняли самые знатные и выдающиеся люди благородного звания, с которыми он держался очень просто, находя радость в общении с ними. При этом удовольствие, которое он доставлял другим, было не меньше, чем то, что он от них получал, будучи прекрасно обучен тому и другому языку [27] и соединяя радушие и любезность с познаниями в бесчисленном множестве вещей. Мало того, его так воспламеняло величие его духа, что он, хотя сам не мог лично упражняться в делах рыцарства, как прежде, но получал величайшее удовольствие, наблюдая за упражнениями других, и в словах своих, то поправляя, то хваля каждого по его заслугам, ясно показывал, насколько хорошо в этом разбирается. Поэтому в турнирах, в состязаниях, в скачках, в умении владеть любым оружием, равно как и в праздничных развлечениях, в играх, в музыке, словом, во всех занятиях, приличных для благородных рыцарей, всякий стремился выказать себя достойным столь высокого общения [28].
IV
Итак, все время дня было распределено по часам между досточестными и приятными занятиями как для тела, так и для души. Но поскольку синьор герцог по причине болезни после обеда довольно надолго удалялся для сна, все остальные обычно уходили в покои синьоры герцогини Элизабетты Гонзага, где вместе с нею неизменно находилась в тот час и синьора Эмилия Пиа [29], которая, будучи, как вы знаете, одарена весьма живым умом и рассудительностью, руководила всеми, и каждый черпал от нее разум и добродетель. Итак, здесь звучали сладостные беседы и пристойные шутки, и на каждом лице была написана жизнерадостная веселость, так что этот дом без сомнения можно было назвать подлинным приютом радости. Не думаю, чтобы когда-либо в каком-либо другом месте можно было вкусить столько наслаждения от милого и любезного общества, как бывало там в те времена. И, не говоря о том, сколь велика была для каждого из нас честь служить такому государю, как тот, о ком я сказал выше, в душе каждого рождалась величайшая радость всякий раз, когда мы собирались перед очами синьоры герцогини. Казалось, эта радость была цепью, так соединявшей всех любовью, что и братья никогда не имели между собой большего единства воли и большей сердечной привязанности, чем та, что царила там между всеми. Так же велось и среди женщин, общение с которыми было весьма непринужденным и целомудренным; а именно: каждому позволено было разговаривать, садиться рядом, шутить и смеяться, с кем ему хотелось; но уважение к воле синьоры герцогини было столь велико, что сама свобода была крепчайшей уздой, и любой полагал величайшим удовольствием на свете угодить ей, а величайшим наказанием — ее огорчить. По этой причине с весьма широкой свободой здесь соединялись самые целомудренные нравы, и смех и шутки в ее присутствии были приправлены не одними тонкими остротами, но и грациозным и степенным достоинством; ибо умеренность и величие, свойственные всем поступкам, словам и жестам синьоры герцогини, когда она шутила и смеялась, были таковы, что даже те, которые прежде ее никогда не видели, узнавали в ней женщину великого сана. Запечатлеваясь таким образом в окружающих, она придавала всем свой образ и качества, отчего каждый старался подражать этому ее стилю, перенимая правило добрых обычаев от присутствия столь славной и добродетельной женщины. Впрочем, моей целью здесь не является рассказывать о ее прекраснейших свойствах, так как передо мною стоит другая цель и потому что они достаточно известны миру — гораздо лучше, чем я мог бы описать их словом или пером. Те же из них, которые, возможно, были неким образом прикровенны, фортуна, как бы восхищаясь столь редкими добродетелями, пожелала обнаружить многими злоключениями и несчастьями, чтобы засвидетельствовать, что и в нежной груди женщины, одаренной к тому же и редкой красотой, могут жить благоразумие, крепость духа и все те доблести, что весьма редки даже у суровых мужчин.
V
Но, оставив это, повторю, что обычным было всем лицам благородного звания, которые находились во дворце, сразу после ужина собираться у синьоры герцогини, где среди других приятных развлечений, музыки и танцев, бывших в обиходе, иногда предлагались занятные вопросы, а иногда затевались какие-нибудь остроумные игры по желанию одного или другого, в ходе которых присутствующие нередко под различными покровами сообщали свои помыслы, кому более хотели. Иногда возникали споры о различным вещах, или же они слегка жалили друг друга тут же придуманными остротами; часто составляли импрезы [30], как мы теперь это называем; и из таких бесед можно было извлечь необычайное удовольствие, ибо, как я уже сказал, двор был полон отменных талантов. Среди них, как вам известно, были славные синьор Оттавиано Фрегозо, его брат мессер Федерико [31], Джулиано Медичи, Маньифико, мессер Пьетро Бембо [32], мессер Чезаре Гонзага [33], граф Лудовико да Каносса [34], синьор Гаспаро Паллавичино [35], синьор Лудовико Пио [36], синьор Морелло да Ортона [37], Пьетро да Наполи [38], мессер Роберто да Бари [39] и без числа других благороднейших кавалеров; сверх того, было много таких, которые хоть и не жили здесь постоянно, однако проводили здесь бóльшую часть времени, как мессер Бернардо Биббиена, Унико Аретино [40], Джован Кристофоро Романо [41], Пьетро Монте [42], Терпандро [43], мессер Николó Фризио [44]; итак, постоянно поэты, музыканты и всякого рода приятные и выдающиеся на любом поприще люди, которые только были в Италии, съезжались сюда.
VI
После того как папа Юлий II в 1506 году, собственными силами и опираясь на помощь французов, привел Болонью в повиновение апостолическому престолу [45], на обратном пути в Рим он проезжал через Урбино, где был принят со всем возможным почетом и такой великолепной и блистательной пышностью, какую только могли себе позволить в каком-либо из славных городов Италии, так что как папа, так и все синьоры кардиналы и иные придворные остались в высшей степени довольны; и при их отъезде некоторые из свиты, привлеченные приятностью здешнего общества, на многие дни остались в Урбино [46]. В это время не только продолжались привычные празднества и развлечения в принятом здесь вкусе, но каждый стремился внести что-то от себя, особенно в игры, которые устраивались почти каждый вечер. А порядок их был таков: сразу после ужина все сходились в покои синьоры герцогини и садились кругом, каждый на месте, какое кому понравится или выпадет; причем женщины чередовались с мужчинами, пока хватало женщин, ибо почти всегда число мужчин было намного больше; ведущего по своему усмотрению выбирала синьора герцогиня, которая в большинстве случаев поручала это синьоре Эмилии.
Итак, на следующий день после отъезда папы, когда общество в установленное время собралось в обычном месте, после всяких приятных бесед синьора герцогиня пожелала, чтобы синьора Эмилия открыла игры; и она, сначала не соглашавшаяся на такое поручение, затем сказала:
— Госпожа моя, раз уж вам угодно, чтобы именно я дала начало играм этого вечера, я, не считая благоразумным ослушаться вас, решаюсь предложить игру, в которой, думаю, мне мало придется стыдиться и еще меньше трудиться. Суть ее в том, чтобы каждый предложил по своему вкусу игру, в которую мы еще не играли; из них будет выбрана та, что покажется наиболее достойной для этого общества.
После этого она обратилась к синьору Гаспаро Паллавичино, передав речь ему; и он тут же ответил:
— Вам, синьора, и подобает высказаться первой.
Синьора Эмилия молвила:
— Вот, я уже сказала; синьора герцогиня, прикажите ему повиноваться.
Синьора герцогиня с улыбкой произнесла:
— Чтобы вам повиновались, я назначаю вас моим наместником и наделяю всей моей властью.
VII
— Вот ведь какое дело, — ответил синьор Гаспаро, — женщинам всегда позволяется не утруждать себя, и, конечно, стоило бы как-нибудь выяснить причину этого. Но чтобы не стать первым ослушником, я отложу это до другого раза и скажу, что от меня требуется.
И начал так:
— Мне кажется, что как в прочих делах, так и в любовных наши души выбирают не одно и то же; зачастую то, что весьма желанно одному, ненавистно другому. При этом все согласны в том, что каждому в высшей степени дорого то, что он любит. И часто слишком сильная привязанность так омрачает рассудок любящих, что они считают любимого человека единственным в мире, украшенным всеми превосходнейшими достоинствами и не имеющим ни малого изъяна. Но поскольку человеческая природа не допускает столь полного совершенства и нет человека без недостатков, приходится сказать, что так судящие обманываются и что любящий бывает ослеплен тем, чтó он любит. Итак, я хотел бы в этот вечер устроить вот какую игру: пусть каждый скажет, украшенным какими достоинствами он особенно желал бы видеть человека, которого любит; а поскольку у всех поневоле есть какое-то пятно, — на какой порок в нем он был бы согласен. И посмотрим, кто сумеет найти самые похвальные и полезные добродетели и самые простительные пороки, наименее вредные для обоих — того, кто любит, и того, кто любим.
Когда синьор Гаспаро кончил, синьора Эмилия дала знак продолжать мадонне Костанце Фрегозо [47], как следующей по очереди; и та уже собиралась начать речь, но синьора герцогиня остановила ее:
— Поскольку госпожа Эмилия не хочет утруждать себя поиском какой-либо игры, то будет справедливо и другим дамам воспользоваться тем же правом и быть освобожденными на этот вечер от подобного труда, — уже потому, что здесь столько мужчин, что нам никак не грозит остаться без игр.
— Пусть так и будет, — отвечала синьора Эмилия и, дав мадонне Кoстанце знак молчать, обратилась к мессеру Чезаре Гонзага, сидевшему подле нее, с тем чтобы говорил он. И он начал так:
VIII
— Тот, кому угодно внимательно рассматривать все наши поступки, всегда находит в них разные недостатки; потому что природа, многообразная в этом, как и во всех вещах, одному даровала свет разумения в одном, другому — в другом; почему и происходит, что — поскольку один знает то, в чем не понимает другой, и невежествен в том, в чем другой сведущ, — каждый легко замечает ошибку ближнего, но не свою, и все мы кажемся себе очень мудрыми, и, может быть, больше всего в том, чем мы более одержимы. Вот и в этом доме приходилось видеть, что многих, кого сначала считали весьма мудрыми, со временем узнали как совершенно безумных; и это произошло не от чего иного, как от нашего внимательного наблюдения. Говорят, в Апулии для лечения ужаленных тарантулом применяют различные музыкальные инструменты и пробуют разные звуки до тех пор, пока влага, вызывающая недуг, по причине определенного соответствия с одним из этих звуков, не приходит в движение, чувствуя его, и так сотрясает больного, что через это трясение он выздоравливает [48]. Вот так и мы, чувствуя какие-нибудь скрытые черты безумной одержимости какой-то страстью, тонко, с помощью всяких стимулов, очень разнообразно ее развивали, чтобы наконец понять, на что она направлена, а затем, узнав эту склонность, так хорошо ее встряхивали, что она всякий раз достигала степени безумия явного: и выходило, что один у нас одержим стихами, другой — музыкой, иной — любовью, иной — танцами, иной — мореской [49], иной — скачкой, иной — сражением на мечах, каждый согласно природе своей души. И наблюдение за этим, как вы помните, доставляло необыкновенное удовольствие. Итак, я уверен, что в каждом из нас есть некое семя безумия, и, если его пробудить, оно будет умножаться почти до бесконечности. Потому я хотел бы, чтобы нашей игрой сегодня вечером было обсуждение этого предмета и чтобы каждый высказал, например, обо мне: если мне предстоит стать явственно безумным, то каким видом безумия, по его мнению, я обуян и относительно какого предмета. Пусть он судит по тем искрам безумия, которые видят ежедневно излетающими из меня. Пусть вот так же скажут и обо всех остальных, соблюдая порядок наших игр, причем каждый постарается обосновать свое мнение какими-то верными признаками и доказательствами. И таким образом плодом нашей игры будет то, что каждый узнает свои недостатки и сможет лучше их сдерживать. И если поток безумия, который мы обнаружим, будет столь обилен, что оно покажется нам неисцелимым, поспособствуем ему и, согласно учению фра Мариано [50], приобретем душу; а это немало.
Такая игра вызвала много смеха, и не было никого, кто удержался бы сказать что-либо. Один говорил: «Давайте я буду одержим тем, о чем думаю», другой: «А я — тем, на что смотрю», третий: «А я уже безумен от любви», и иное подобное.
IX
Тогда фра Серафино [51], подсмеиваясь по своему обычаю, сказал:
— Эта игра слишком долгая; а если хотите хорошую игру, давайте пусть каждый выскажет свое мнение о том, почему почти все женщины ненавидят мышей и любят змей; и увидите, что никто не отгадает, кроме меня; а я узнал этот секрет необычным способом.
И он принялся было за свои россказни, но синьора Эмилия велела ему молчать и, минуя даму, сидевшую рядом, подала знак Унико Аретино, следующему по очереди. Тот, не заставляя себя просить дважды, сказал:
— Мне хотелось бы быть судьей, имеющим власть любыми пытками выведывать правду у злодеев, чтобы открыть обманы одной неблагодарной, у которой глаза ангела и сердце змеи, а язык никогда не бывает в согласии с душой, которая, выказывая притворное и ложное сострадание, ни о чем другом не помышляет, как только анатомировать сердца [52]. Даже в песчаной Ливии нет ядовитой змеи, настолько охочей до людской крови, как эта обманщица; ведь она не только нежным голосом и медоточивыми словами, но и глазами, улыбками, чертами лица и всеми повадками — истинная Сирена. Так вот, поскольку мне не дозволено, как хотелось бы, применять цепи, дыбу или огонь, чтобы узнать правду, я желаю узнать ее с помощью следующей игры: пусть каждый скажет, что, по его мнению, означает буква S, которую носит на челе синьора герцогиня. Ибо, хотя, конечно, и это — искусная завеса, вводящая в заблуждение, может случиться, что ей будет дано какое-то истолкование, синьорой герцогиней не предусмотренное, и тогда окажется, что фортуна, сострадательная зрительница человеческих мучений, посредством этого маленького знака вынудила ее помимо воли открыть свое сокровенное желание — убивать и хоронить заживо в муках того, кто ею любуется или служит ей.
Синьора герцогиня улыбнулась, и Унико, видя, что она хочет оправдаться в том, в чем ее обвинили, остановил ее:
— Нет, государыня, молчите! Сейчас не ваша очередь говорить!
Тогда синьора Эмилия, повернувшись к нему, сказала:
— Синьор Унико, среди нас нет человека, который не уступал бы вам в любом деле, а тем более в знании души синьоры герцогини. И так как вы больше других, по причине вашего божественного ума, знаете эту душу, то и любите ее больше, чем другие, те, которые, подобно птицам со слабым зрением, не осмеливающимся направлять глаза на солнечный круг, не могут знать, как она совершенна. Поэтому была бы тщетной всякая попытка прояснить этот вопрос помимо вашего суждения. Пусть же этот подвиг достанется вам; только вы в силах совершить его.
Унико, выдержав некоторую паузу, лишь после повторной просьбы наконец прочел сонет на вышесказанную тему, открывая, что означает эта буква S [53]. Многие сочли его импровизацией, но, поскольку он был более искусным и изысканным, чем, кажется, могла позволить краткость времени, думалось все же, что Унико обдумал его заранее.
Х
После радостных рукоплесканий в знак похвалы сонету и недолгого разговора синьор Оттавиано Фрегозо, до которого дошла очередь, с улыбкой начал:
— Господа, если бы я стал утверждать, что никогда не знал любовной страсти, то, конечно, синьора герцогиня и синьора Эмилия, даже и не поверив, сделали бы вид, что верят, и сказали бы, что этому причиной мое неверие в то, что я способен влюбить в себя женщину. Я и в самом деле до сих пор не выяснял со всей возможной настойчивостью, поистине ли должен отчаяться когда-либо добиться любви. Не делал я этого не потому, что настолько высоко ценил себя и настолько низко — женщин, что не видел, как достойны любви и поклонения многие из них: меня скорее ужасали непрестанные сетования иных влюбленных — бледных, печальных, молчаливых; неутоленность их чувства будто написана у них в глазах, а если уж они заговорят, то на каждое слово издают по три вздоха и ни о чем другом не могут беседовать, кроме как о слезах, мучениях, отчаянии и желании смерти. И если порой некая любовная искра все же загорается у меня в сердце, я тут же стараюсь любыми ухищрениями ее погасить, — не из ненависти, которую я будто бы питаю к женщинам, как они думают, но чтобы остаться целым. Знавал я и иных, по всему противоположных этим скорбящим. Эти не только хвалятся и любуются приятной наружностью, милыми речами и нежным личиком своей женщины, но и любые беды приправляют сладостью, так что даже распри, гнев, презрение называют сладостными. И такие влюбленные мне представляются намного более чем счастливыми. И если они находят такую сладость в любовных раздорах, которые тем, другим, кажутся горше смерти, я думаю, что в проявлениях любовной взаимности они должны чувствовать то высшее блаженство, которого напрасно искать в этом мире. Так вот, предлагаю на сегодняшний вечер следующую игру. Пусть каждый скажет: если ему придется рассориться с любимой женщиной, какую бы он предпочел причину для ссоры? Ибо, если некоторые из присутствующих вкусили таких сладостных ссор, я уверен, что они с удовольствием пожелают выбрать одну из причин, делающих их столь сладостными. Тогда и я, пожалуй, уверюсь в том, что смогу сделать шаг вперед в любви, тоже надеясь обрести сладость там, где иные находят горечь, и эти дамы уже не смогут бранить меня за то, что я не люблю.
XI
Эта игра очень понравилась, и каждый уже готовился высказаться по предложенному предмету, но, поскольку синьора Эмилия, чья подошла очередь, не произнесла своего слова, мессер Пьетро Бембо, следующий по порядку, сказал:
— Господа! Немалое сомнение возбудила в душе моей игра, которую предложил синьор Оттавиано, рассуждавший о раздорах в любви. Ибо хоть они и разнообразны, но для меня всегда бывали очень горьки; не думаю, что смог бы изыскать приправу, способную их подсластить, — хотя, возможно, они могут быть более или менее горькими, в зависимости от причины, их породившей. Ибо я вспоминаю, как некогда увидел ту женщину, которой служил, рассерженной то ли из-за пустого сомнения в моей верности, то ли из-за какой-то другой ложной мысли, родившейся в ней от чужих слов, направленных против меня. Я думал тогда, что ни одна мука не может сравниться с моей, а самой большой скорбью было для меня то, что терплю я незаслуженно и страдаю не по своей вине, но из-за недостатка ее любви ко мне.
Иногда же я видел ее разгневанной на какие-то мои проступки и знал, что гнев ее рожден моей оплошностью; и тогда считал, что прошлая боль была гораздо легче в сравнении с той, что я испытываю теперь. И казалось, что по собственной вине впасть в немилость у особы, которой одной только я желаю и которой с таким усердием стараюсь угодить, — вот величайшая мука, превосходящая все другие. Итак, предлагаю такую игру: пусть каждый скажет, если уж суждено ему испытать гнев любимой особы, какую причину этого гнева он предпочел бы — коренящуюся в ней или же в нем самом. Так мы выясним, чтό больнее — доставлять неприятности тому, кого мы любим, или самим получать их от предмета любви?
XII
Все ждали ответа синьоры Эмилии; она же, не сказав Бембо ни слова, повернулась к мессеру Федерико Фрегозо, подавая ему знак предложить свою игру, и он тотчас начал:
— Синьора, хорошо, если бы мне позволили, как бывает порой, присоединиться к суждению других; ибо я, со своей стороны, охотно одобрил бы какую-то из игр, предложенных этими синьорами: ведь все они и вправду кажутся занятными. Но все же, дабы не нарушать порядок, скажу, что если кто-нибудь пожелал бы выразить похвалу нашему двору, то — даже оставляя в стороне заслуги синьоры герцогини, которой одной, с ее божественной добродетелью, было бы достаточно, чтобы возвысить от земли до небес самые низменные души на свете, — он может, без риска быть заподозренным в лести, сказать, что по всей Италии с трудом найдется столько рыцарей редкостных, превосходных в самых разнообразных вещах, а не только в главном призвании рыцарства, сколько сейчас собрано здесь. Так что, если где и есть люди, достойные именоваться хорошими придворными и способные судить о совершенстве придворного служения, разумно считать, что эти люди находятся здесь. Итак, с целью усмирить многих глупцов, которые по самонадеянности и никчемности льстят себя надеждой стяжать имя хорошего придворного, я предложил бы на сегодняшний вечер вот какую игру: выбрать из нашего общества одного, кому будет поручено изобразить словами совершенного придворного, описав все условия и особенные качества, которые требуются от человека, достойного этого названия. А по поводу тех вещей, которые покажутся несообразными с этим именем, пусть каждому будет дано право возражать, как это позволено ведущим диспуты в философских школах.
Мессер Федерико хотел продолжать свое рассуждение, но синьора Эмилия прервала его словами:
— Вот это и будет нынче нашей игрой, если угодно синьоре герцогине.
— Мне это по душе, — ответила синьора герцогиня. Тогда почти все присутствующие стали говорить, как обращаясь к синьоре герцогине, так и между собой, что вот она — самая прекрасная игра, которой только можно заняться; и наперебой стали просить синьору Эмилию назначить того, кто эту игру начнет. И она, повернувшись к синьоре герцогине, сказала:
— Укажите, государыня, кому вам угодно поручить это. Ибо я не хочу, предпочтя одного другому, выказать суждение, кого я считаю для этого дела подходящим более остальных, и таким образом задеть кого-то другого.
Синьора герцогиня ответила:
— Нет, все же сделайте этот выбор вы; и смотрите, не подавайте другим пример непослушания, иначе они будут еще менее послушны.
XIII
Тогда синьора Эмилия с улыбкой обратилась к графу Лудовико да Каносса:
— Стало быть, не теряя более времени, вы, граф, сейчас возьметесь за дело так, как предложил мессер Федерико. Не потому, что нам кажется, будто вы настолько хороший придворный, чтобы знать все подобающее ему, но потому, что, если станете говорить всем наперекор — как мы на то надеемся, — игра пойдет живее, ибо у каждого найдется что вам ответить. А если начнет кто другой, сведущий больше вас, он выскажет истину, все с ним согласятся, и игра заглохнет.
Граф живо парировал:
— Синьора, какую бы кто ни высказал истину, ему не грозит опасность остаться без возражений, когда вы рядом.
Ответ вызвал общий смех, а граф продолжал:
— Однако и вправду, синьора, я охотно уклонился бы от этого дела, ибо оно кажется мне слишком трудным, и я считаю совершенно верным то, что вы сказали обо мне в шутку: да, я не знаю, что именно подобает хорошему придворному, и других доказательств тому не нужно, поскольку чего делом не делаешь, того, надо полагать, и не знаешь. Но, думаю, не стоит меня за это особенно сильно корить, ибо, без сомнения, не желать делать что-то хорошо — хуже, чем не уметь. Однако, если вам все же угодно возложить эту задачу на меня, я не могу и не хочу отказываться, чтобы не пойти наперекор порядку и вашему суждению, которое ценю гораздо больше, чем мое собственное.
— Добрая часть ночи уже миновала, и к тому же приготовлено много других разнообразных удовольствий, — напомнил мессер Чезаре Гонзага. — Может быть, правильным будет отложить этот разговор до завтра и дать графу время обдумать то, что он хотел бы сказать: ведь и правда, говорить о таком предмете без подготовки — дело трудное.
— Я не хочу быть как тот, кто, раздевшись до жилета, прыгает хуже, чем прыгал в рясе, — отвечал граф. — И кажется весьма удачным, что час поздний, ибо по краткости времени мне придется говорить немного, а то, что я не продумывал все заранее, послужит мне извинением, не навлекая упреков, говорить все, что первым придет на язык.
Итак, чтобы не держать долее это бремя на плечах, скажу, что во всяком деле трудно, почти до невозможности, узнать, в чем состоит истинное совершенство; и причиной тому разнообразие суждений. Ибо многим будет приятен разговорчивый человек, и они его назовут забавным; иным больше понравится скромность; другим приятен человек деятельный и подвижный; еще другим — тот, кто во всем выказывает неспешность и осмотрительность. И так каждый хвалит или хулит по своей прихоти, прикрывая порок именем ближайшей к нему добродетели или добродетель — именем ближайшего к нему порока: самонадеянного называют раскованным, сдержанного — сухарем, недалекого — добряком, негодяя — предприимчивым и так далее. Но все же полагаю, что в каждой вещи есть свое совершенство, хотя бы сокрытое, и тот, кто имеет понятие об этой вещи, вправе высказать в обстоятельной беседе суждение о нем. И поскольку, как я сказал, истина часто пребывает потаенной, а я не могу похвастаться точностью познания в этом деле, то могу хвалить лишь тот род придворных, который выше ценю сам, одобряя то, что представляется более сходным с истиной моему скромному мнению, с которым вы можете согласиться, если оно вам покажется добрым, — или остаться при вашем мнении, если оно будет отличным от моего. И я не собираюсь доказывать, что мое лучше вашего; ибо не только вам может нравиться одно, а мне другое, но и мне самому может нравиться иногда одно, а иногда — другое.
XIV
Итак, я хочу, чтобы этот наш придворный был по рождению рыцарем и чтобы род его имел добрую славу. Ибо нерадение о делах доблести гораздо меньше пятнает человека неблагородного, чем благородного, который уклоняется от пути предков, порочит родовое имя, не только не приобретая ему славу, но теряя приобретенную до него. Благородное происхождение — как яркий светильник, который освещает и делает видными добрые и дурные дела, воспламеняя и побуждая к доблести как боязнью бесчестия, так и надеждой на похвалу. Поскольку этот свет благородства не высвечивает дела людей низкого происхождения, у них нет ни этого побуждения, ни боязни бесславия; они не видят себя обязанными превзойти то, что совершили их предки, — тогда как для благородных кажется зазорным не достичь хотя бы черты, показанной им старшими поколениями. Отчего почти всегда на войне и в других доблестных делах наиболее отличаются люди благородного звания, — ибо природа во всякой вещи имеет сокрытое семя, которое сообщает некую силу и свойства своего первоначала всему из него происходящему и уподобляет его себе. Что мы и видим обычно не только в породах лошадей и других животных, но и в деревьях, чьи саженцы почти всегда подобны дереву, от которого взяты, а если когда и вырождаются, виной тому плохой садовник. Так и с людьми: если они получили доброе воспитание, то почти всегда похожи на тех, от кого происходят, и зачастую еще и лучше их; если же не имели того, кто их обихаживал, вырастают как дички и вовсе не плодоносят.
Впрочем, или от благоприятного расположения звезд, или от природы некоторые рождаются наделенными такими дарованиями, что подумаешь, будто они и не родились, а некий бог собственными руками вылепил их и украсил всеми благами души и тела; и при этом видишь множество столь бестолковых и тупых, что впору поверить, будто природа произвела их то ли назло миру, то ли в насмешку над ним. И как эти последние, даже после упорных стараний воспитателей и при хорошем образовании, чаще всего приносят скудный плод, так те первые малым трудом достигают крайних высот совершенства.
Вот, например, синьор дон Ипполито д’Эсте, кардинал Феррарский: он от рождения одарен таким счастьем, что его стать, облик, слова, каждое его движение — все это собрано и сочетается в нем с величайшим изяществом. И пусть он молод, но и среди самых старых кардиналов являет такую степенную величавость, что кажется, будто ему самому скорее впору поучать их, нежели поучаться [54]. Подобным образом в его общении с мужчинами и женщинами любого звания, в играх, в манере улыбаться и шутить, в остроумных забавах есть какая-то приятность, и манеры его столь привлекательны, что поневоле всякий, кто с ним беседует или хотя бы просто видит его, навсегда его полюбит.
Однако, возвращаясь к нашей теме, скажу, что между такой превосходной одаренностью и непробиваемой глупостью имеется и нечто среднее; и те, кто от природы не столь совершенно одарен, могут усердием и трудами сгладить и выправить бóльшую часть природных недостатков. Так вот, пусть придворный, кроме благородного происхождения, будет одарен и по этой части, имея от природы не только ум, красивые стать и лицо, но и некое изящество [55], и то, что называется породой, что с первого взгляда делало бы его приятным и любезным всякому. И пусть это будет украшением, приводящим в согласие и сопровождающим все его действия, и явной печатью того, что этот человек достоин общества и милости любого великого государя.
XV
Тогда, не дожидаясь, когда ему дадут слово, в беседу вступил синьор Гаспаро Паллавичино:
— Дабы наша игра шла в должном порядке и не казалось, будто мы мало ценим данное нам право возражать, скажу, что мне в придворном не представляется таким уж обязательным благородство происхождения. Если бы я думал, что говорю новое для кого-то из присутствующих, то привел бы в пример многих рожденных от благороднейшего корня и при этом полных пороков и, напротив, многих худородных, которые доблестью прославили свое потомство. И будь правдой то, о чем вы давеча говорили, что в каждой вещи есть скрытая сила первого семени, тогда мы все находились бы в равном положении, ибо все имеем общее начало [56], и ни один не мог бы быть благороднее другого. Думаю, различия между нами, как и степени высокого и низменного, обусловлены множеством других причин, главной из которых я считаю фортуну. Ибо мы видим, что она правит всеми делами этого мира и, словно в забаву, часто возносит до небес того, кто ей приглянется, без каких-либо заслуг и погребает в бездне самых достойных возвышения. Да, я согласен с тем, что вы говорите о счастье тех, которые от рождения одарены благами души и тела; но это мы видим как в благородных, так и в худородных, ибо природа не делает столь тонких различений; напротив, как я говорил, часто в людях самого низкого звания можно видеть самые высокие природные дары.
Итак, коль скоро это благородство не приобретается ни умом, ни силой, ни искусством, будучи более славой наших предков, чем нашей собственной, мне представляется весьма странным думать, что если родители нашего придворного были худородны, то все его добрые качества имеют изъян, а других названных вами условий — ума, красоты лица, стати и изящества, с первого взгляда располагающего к нему всякого, — будто всего этого недостаточно, чтобы возвести его на высоту совершенства.
XVI
Граф Лудовико ответил:
— Я не говорю, что в людях низкого рода не могут проявляться те же добродетели, что и в благородных; но не хочу и повторять уже сказанного, вместе со многими другими доводами в пользу благородства, которое чтится всегда и всеми. Ибо это согласно с разумом: от добрых рождаются добрые. Поскольку наша задача — вылепить придворного, не имеющего ни единого изъяна, но соединяющего в себе всевозможные похвальные свойства, мне представляется необходимым сделать его благородным, не только по множеству разных причин, но и повинуясь всеобщему мнению, которое первым делом смотрит на благородство происхождения.
Возьмем двух придворных, которые еще не успели проявить себя ни в хорошем, ни в дурном; как только услышат, что один родился от благородных, а другой нет, любой оценит худородного гораздо ниже, чем благородного, и худородному понадобится много времени и трудов, чтобы запечатлеть в людских умах доброе мнение о себе, в то время как другой приобретет его сразу — только потому, что он из благородных. А сколь важную силу имеет эта печать, легко понять всякому: ибо, возвращаясь к нам самим, напомню, что и нам с вами случалось видеть в этих стенах людей, которые, будучи чрезвычайно глупы и грубы, однако, славились по всей Италии как величайшие придворные; и пусть в конце концов их раскрыли и узнали, все же многих из нас они ввели в заблуждение, удерживая в наших душах то мнение о себе, которое в самом начале мы нашли как бы оттиснутым на них, хотя поступки их были сообразны их ничтожеству. Видели мы и других, которых сначала никто не ценил, а они в конце концов достигли весьма многого. Эти ошибки имеют различные причины; среди прочих — упрямство государей, которые, желая творить чудеса, пускаются подчас осыпать милостями такого, кто, по их же собственному мнению, этих милостей вовсе не заслуживает. Конечно, часто они обманываются и сами; но поскольку всегда находится безмерное множество желающих им подражать, из их милостей к кому-либо происходит весьма громкая слава, за которой чаще всего и следуют люди в своих суждениях. А если обнаруживают что-нибудь, что выглядит несогласным с общим мнением, то подозревают, что обманулись, и всегда ждут чего-то потаенного; ибо им кажется, что эти общие мнения должны же быть основаны на истине, иметь действительные причины.
К тому же наши души очень податливы на любовь и ненависть. Это можно видеть на зрелищах с боями и играми и при всякого рода состязаниях, когда зрители, часто без видимой причины, выражают пристрастие к одной из сторон, чрезвычайно желая, чтобы она победила, а другая проиграла. Вот и в том, что касается мнения о качествах человека, добрая или дурная молва с самого начала толкает нашу душу к одному из этих двух пристрастий. Отчего и происходит то, что в большинстве случаев мы судим с любовью или с неприязнью. Итак, видите, сколь важно это первое впечатление и как с самого начала должен стараться приобрести добрую славу тот, кто считает себя достойным положения и имени настоящего придворного.
XVII
Переходя к частностям, я считаю, что главным и настоящим делом придворного должно быть военное, и стою за то, чтобы он проявлял в нем горячее рвение и был известен как человек отважный, мужественный и верный тому, кому служит. А эти славные наименования он приобретет, в любое время и в любом месте доказывая их делом. И нельзя ими пренебрегать, не заслужив крайнего порицания: ведь как у женщины девственность, однажды нарушенная, уже не может быть восстановлена, так и слава дворянина, носящего оружие, будучи хоть единожды, хоть в мельчайшем деле трусостью или чем-либо другим недостойным, в глазах света навсегда померкнет и покроется позором. Словом, чем более выдающимся будет наш придворный в этом искусстве, тем более будет достоин похвал.
Впрочем, я не считаю необходимым для него совершенное знание военных материй и другие свойства, подобающие полководцу, — этого было бы уже слишком много. Хватит с него, как я сказал выше, непоколебимой верности, стойкости духа и того, чтобы таким мы видели его неизменно. Ведь зачастую в делах малых мужественные узнаются лучше, нежели в больших. Есть такие, у которых при больших опасностях, при многих свидетелях, хоть сердце и уходит в пятки, но, подстегиваемые то ли боязнью осрамиться, то ли примером товарищей, они бросаются вперед, зажмурив глаза, и Бог знает как, но исполняют свой долг. Зато в случаях когда никто не толкает в спину и кажется, что можно незаметно уклониться от опасности, они охотно позволяют себе схорониться в укрытии. Не эти, но другие, которые, даже думая, что никто за ними не наблюдает, никто их не видит, никто не знает, тем не менее выказывают отвагу, не упуская ни малейшей вещи по части своих обязанностей, — вот кто обладает той доблестью души, которую мы ищем в нашем придворном.
Мы не желаем, однако, чтобы он, выставляя себя завзятым воякой, сыпал направо и налево похвальбами вроде: «Моя жена — кираса!», чтобы метал во все стороны угрожающие и дикие взгляды, какие мы часто видели в комических представлениях Берто [57]. Ибо такие вполне заслуживают слов, которые одна неробкая женщина в благородном собрании с улыбкой сказала рыцарю, чье имя я сейчас называть не стану. Тот, когда она, оказав честь, пригласила его на танец, отказался — так же как и слушать музыку, и как-то по-другому развлечься, каждый раз повторяя, что этакие пустяки «не его ремесло». Когда наконец дама спросила: «Да что же у вас за ремесло?» — он со зверским лицом рыкнул: «Война!»
Дама тут же отпарировала:
— Ну поскольку нынче вы, кажется, не на войне и сражаться не собираетесь, надо бы вас хорошенько смазать салом и вместе с вашими доспехами убрать в чулан до тех пор, пока не понадобитесь, а иначе заржавеете еще больше, чем теперь [58].
И так, под смех окружающих, оставила его посрамленным с его глупым самомнением. Пусть же будет тот, кого мы стараемся изобразить, при виде неприятеля отважен, суров и всегда среди первых; но в любых других обстоятельствах — человечен, скромен и сдержан, избегая прежде всего чванства и безрассудного хвастовства, ибо хвастун всегда вызывает неприязнь и отвращение у того, кто его слушает.
XVIII
— А я, — отозвался синьор Гаспаро, — мало знаю людей, в чем-либо выдающихся, которые не хвалили бы себя самих; и мне кажется, что им вполне позволительно вести себя так. Когда человек, знающий себе цену, видит невежд, не имеющих понятия, каков он в деле, то, конечно, негодует, что его доблесть как бы похоронена, и вынужден каким-то образом открывать ее, чтобы никто не похитил у него чести, которая и есть истинная награда за подвиги. Почему и среди древних писателей те, кто имел заслуги, редко удерживались, чтобы самим не похвалить себя. Невыносимы лишь те, которые хвалятся, вовсе не имея заслуг; но наш придворный, как мы предполагаем, не будет одним из таких.
— Если вы меня хорошо услышали, — сказал граф, — я порицал бесстыдное и безудержное хвастовство; и конечно, как вы и говорите, не следует плохо думать о доблестном человеке, который умеренно хвалит себя: такое свидетельство даже надежнее, чем похвала, исходящая из чужих уст. Более того: кто, хваля себя, не впадает в ошибку и не вызывает раздражения и зависти у слушающих, тот в высшей степени благоразумен и, кроме тех похвал, что дает самому себе, заслуживает их также от других, а это ведь весьма нелегкое дело.
Тогда синьор Гаспаро сказал:
— Вот этому вы нас и научи́те.
— Есть достаточно древних писателей, которые этому учат, — ответил граф. — Но, мне представляется, все дело в умении говорить об этом так, чтобы не казалось, что хвастаешь, но настолько к месту, что невозможно не сказать, — и, неизменно выказывая стремление избегать похвал себе самому, все же произносить их. Не так, как те хвастуны, что лишь откроют рот — и давай нести что попало: как несколько дней назад один наш приятель рассказывал, что в Пизе, когда копье вошло ему в бедро с одной стороны и вышло с другой, он подумал, будто его укусила муха [59]; а другой сказал, что не держит зеркала в комнате, ибо, когда сердится, становится так ужасен лицом, что сам себя боится.
Тут все рассмеялись, но мессер Чезаре Гонзага возразил:
— Над чем вы смеетесь? Неужели не читали, как Александр Великий, услышав мнение одного философа, что существует бесконечное множество миров, заплакал; а когда его спросили, почему он плачет, ответил: «Потому что я еще не завоевал и одного» [60], — как будто ему хватало решимости завоевать их все? Вам это не кажется еще большей похвальбой, чем сказанное об укусе мухи?
— Александр был более велик, чем болтавший о мухе, — отвечал граф. — Но людям выдающимся поистине простительно, когда они мнят о себе высоко. Ибо кому предстоят великие дела, тому нужны и дерзновение осуществить их, и вера в себя; и не малодушным ему следует быть, но весьма сдержанным в речах, делая вид, будто он мнит о себе меньше, чем на самом деле, чтобы вера в себя не обернулась опрометчивостью.
XIX
Тогда, поскольку граф ненадолго прервал свою речь, мессер Бернардо Биббиена, улыбаясь, сказал:
— Как помнится, прежде вы говорили, что этот наш придворный должен быть от природы наделен красивым лицом и осанкой, вместе с изяществом, которое сделает его столь привлекательным. Что касается изящества и прекрасного лица, я уверен, что ими обладаю, почему, как вы знаете, очень часто женщины возгораются ко мне любовью. Однако относительно фигуры я испытываю некоторые сомнения — прежде всего относительно моих ног, которые, сказать правду, кажутся мне не такими стройными, как хотелось бы; телом же и всем прочим я вполне доволен. Разъясните же поподробнее о форме тела, какой она должна быть, чтобы я избавился от сомнений на сей счет и жил со спокойной душой.
За этими словами последовал смех, а граф продолжил:
— Конечно, в вас есть изящество облика, — это можно утверждать без лести, и не нужно никакого другого примера, чтобы показать, в чем оно заключается. Мы видим и не имеем сомнения, что ваше лицо чрезвычайно приятно и всем нравится, пусть даже черты его не очень тонки; в нем есть мужество, и при этом оно изящно — качество, которое можно обнаружить в лицах самого разного строения. И я хочу, чтобы таким был и облик нашего придворного, — а не таким изнеженным и женственным, какой стараются иметь многие молодые люди, не только завивая волосы и выщипывая брови, но и приглаживая себе кожу всеми теми способами, что в ходу у самых бесстыдных и бесчестных женщин этого мира. Двигаясь ли, стоя на месте, делая что-либо другое, они выглядят столь хрупкими и изнемогающе томными, будто члены тела у них готовы отвалиться, а речь ведут так страдальчески, будто вот-вот испустят дух; и чем c более сановитыми людьми обращаются, тем больше прибегают к подобным приемам. Пусть вид их выдает желание казаться и быть женщинами, но поскольку природа не создала их таковыми, то рассматривать их надо не как почтенных женщин, но как продажных блудниц, прогоняя не только от дворов государей, но и из общества благородных мужчин.
XX
Итак, рассматривая качества фигуры, скажу: достаточно, чтобы тело не было ни чрезмерно огромным, ни вовсе малорослым, поскольку и то и другое вызывает презрительное удивление, и людей такого сорта разглядывают как что-то почти уродливое. Но если уж выбирать из этих крайностей, то лучше пусть придворный будет несколько малорослым, нежели намного переросшим разумную меру. Ибо люди со столь огромным телом не только весьма часто тупоумны, но еще и не годятся ни на какое дело, требующее ловкости, а это качество я считаю для придворного очень желательным. Поэтому я хотел бы, чтобы он имел хорошо сложенное тело и пропорционально развитые члены и выказывал силу, легкость и проворство, освоив все телесные упражнения, надлежащие воину. А из них полагаю первым владение любым оружием для пешего и конного боя, включая все приемы обращения с ним, особенно с тем, что обыкновенно употребляется между благородными. Ведь, помимо его применения на войне, где, может быть, и не необходимы особенные тонкости, нередко случаются и между благородными ссоры, побуждающие взяться за оружие, причем подчас за то, что оказалось под рукой: поэтому знать его — надежнейшее дело. Я не из тех, кто говорит, будто в момент нужды вся выучка забывается; ибо, вне сомнения, тот, кто теряет в такое время выучку, показывает, что еще раньше от страха потерял мужество и самообладание.
XXI
Еще полагаю, что очень кстати ему умение драться, ибо это сопровождает любую пешую схватку. Затем нужно, чтобы он и сам, и через друзей узнавал, какие могут возникнуть споры и ссоры, и, будучи подготовлен заранее, при каждом таком случае выказывал совершенное присутствие духа и осмотрительность. Но пусть и не ввязывается в такие схватки, иначе как если этого требует защита чести; ибо, кроме великой опасности, которую несет переменчивая удача, тот, кто опрометчиво, без крайней необходимости бросается в них, заслуживает величайшего порицания, даже если ему повезет. Но если мужчина видит, что дело зашло так далеко, что без урона для чести отступить не удается, он должен и в том, что предшествует бою, и в бою быть решительным, неизменно выказывая готовность и мужество. Не то что иные, которые тянут дело, обсуждая условия и пункты, выбирают из оружия то, что не рубит и не колет, а перед схваткой нагромождают на себя броню так, словно ожидают обстрела из пушек; и поскольку для них довольно лишь не быть побежденными, только и делают, что защищаются и отступают, изобличая свое крайнее малодушие. Отчего они бывают посмешищем даже для мальчишек, как те два анконца, что недавно бились в Перудже, насмешив всех, кто их видел.
— Кто ж это были такие? — спросил синьор Гаспаро Паллавичино.
— Какие-то двоюродные братья, — ответил мессер Чезаре.
— Когда они бились, казалось, что они родные братья [61], — вставил граф и продолжил: — Часто применяется оружие и в мирное время, во всяких упражнениях; мы видим рыцарей на публичных зрелищах, состязающихся перед множеством народа, дамами и самими государями. И я хочу, чтобы наш придворный был совершенным наездником и прекрасно держался в любом седле. И среди прочих своих умений не только знал толк в лошадях и в верховой езде, но и прилагал все рвение и усердие к тому, чтобы в любом деле быть несколько впереди других, так чтобы все считали его лучшим между собой. И как мы читаем об Алкивиаде, что он превосходил всех во всяком народе, среди которого жил, в том искусстве, которое было этому народу свойственно [62], пусть так и этот наш придворный опережает других, — и каждого именно в том, чему тот больше предан. Итак, поскольку у итальянцев особенно в чести умение хорошо ездить верхом с поводьями, объезжать лошадей, особенно норовистых, сражаться с копьем, биться верхом один на один, пусть в этом он будет среди лучших из итальянцев; в групповых боях, в умении «оборонять проход» и «биться за перекладину» не уступает лучшим из французов [63]; в «игре с тростями» [64], бое быков, метании пик и дротиков — превосходит испанцев. Но прежде всего пусть каждому его движению сопутствуют обдуманность и изящество, если он хочет заслужить то всеобщее благоволение, которое столь высоко ценится.
XXII
Есть и много других упражнений, хоть и не связанных напрямую с военным делом, но имеющих с ним немало сходства и требующих мужественной стойкости: среди них одним из главных я считаю охоту, ибо и она в чем-то подобна войне. Поистине, это — забава государей, приличная и придворному; мы знаем, что и у древних она была во всеобщем обычае. Хорошо также уметь плавать, прыгать, бегать, метать камни, ибо, кроме той пользы, которую все это может иметь на войне, часто случается показывать себя в подобных вещах; этим можно заслужить немалое уважение народной толпы, с которой тоже приходится считаться. Еще одно достойное и вполне приличное для придворного упражнение — игра в мяч, в которой прекрасно видны сложение тела, проворство и раскованность каждого его члена и все то, что видно почти в любом другом упражнении. Не меньших похвал, считаю, достойна вольтижировка: требуя много труда и умения, она больше, чем что-либо другое, придает человеку легкость и проворство. И если эта легкость сочетается с подлинным изяществом, то, по моему мнению, эти упражнения составляют зрелище прекраснейшее любого другого.
Итак, хорошо поднаторев в этих упражнениях, наш придворный, думаю, от прочих должен держаться в стороне. Имею в виду кувыркание на земле, хождение по канату и тому подобное, что почти неотличимо от трюков жонглеров и мало приличествует благородному человеку. Но поскольку нельзя непрерывно заниматься этими утомительными упражнениями, а кроме того, неизменная погруженность в одно и то же приедается, ослабляя то восхищение, которое вызывают вещи редкостные, то необходимо разнообразить нашу жизнь и другими занятиями. Так что пусть придворный по временам снисходит до более спокойных и тихих развлечений и, стремясь избегать людской зависти и держаться любезно с каждым, делает все то же, что делают другие, но при этом никогда не уклоняется от дел похвальных, руководствуясь благоразумием, которое не даст ему впасть во что-либо безрассудное: пусть смеется, шутит, острит, танцует и пляшет — но при этом выказывает искусность и сдержанность, и во всем, что делает и говорит, пусть будет изящен.
XXIII
— Препятствовать течению нашей беседы, конечно, не следовало бы, — сказал тогда мессер Чезаре Гонзага. — Но если я промолчу, то не воспользуюсь предоставленной мне свободой высказать свое мнение; кроме того, хочу узнать одну вещь. И пусть мне простят, если, вместо того чтобы возражать, я задам вопрос. Думаю, это позволяет мне и пример нашего мессера Бернардо, который, слишком желая, чтобы его сочли красавцем, нарушил правила нашей игры, не возражая, а только задавая вопросы.
— Вот видите, — сказала синьора герцогиня, — как одна ошибка влечет за собой другие. И кто нарушает правила, подавая дурной пример, как мессер Бернардо, тот заслуживает наказания не только за свой проступок, но и за проступки других.
— В таком случае, государыня, — ответил мессер Чезаре, — я буду избавлен от кары, ибо мессеру Бернардо придется ответить и за свой, и за мой проступок.
— Вовсе нет, — возразила синьора герцогиня. — Вы оба получите двойное наказание: он — за cвой проступок и за то, что вас подтолкнул к тому же; вы — за ваш проступок и за то, что повторили проступок другого.
— Государыня, — ответил мессер Чезаре, — я пока еще не сделал никакого проступка, и, оставляя все это наказание одному мессеру Бернардо, лучше промолчу.
Он и в самом деле умолк, но в это время синьора Эмилия сказала, смеясь:
— Да говорите же все, что вам угодно. С дозволения синьоры герцогини я прощаю того, кто совершил и кто совершит столь ничтожный проступок.
— Я рада, — добавила синьора герцогиня, — но смотрите, чтобы вам не обмануться, надеясь, может быть, снисхождением снискать больше похвал, чем справедливостью. Ведь, слишком легко прощая нарушающему порядок, мы проявляем несправедливость к тому, кто его не нарушает. И все же не хочу, чтобы сейчас, из-за того что я упрекнула вас за мягкосердечие, мы лишились бы возможности услышать вопрос мессера Чезаре.
И синьор Чезаре, получив знак согласия от синьоры герцогини и синьоры Эмилии, немедленно начал:
XXIV
— Помнится, господин граф, за нынешний вечер вы не раз повторили, что придворный должен свои поступки, жесты, повадки — словом, всякое свое движение — приправлять изяществом: похоже, что оно идет у вас в качестве приправы ко всякому блюду, без которой остальные свойства и достоинства недорого стоят. И думаю, что каждый легко с вами согласится, ибо, в силу значения самогó слова, можно сказать, что кто обладает изяществом (grazia), тот и приятен (grato). Но вы сами сказали, что оно зачастую бывает даром природы и небес; а когда дар этот и не вполне совершенен, усердием и трудом его можно значительно увеличить, — стало быть, те, что от рождения счастливо и щедро одарены таким сокровищем, по-моему, мало нуждаются в другом наставнике. Ибо эта щедрая милость небес едва ли не против воли возводит их выше, чем они сами желают, и делает их не только приятными, но и вызывает восхищение у всех. Однако говорю не о них, ибо сами собой стяжать такую милость мы не в силах. Я хотел бы спросить о людях, которым в силу их природы, чтобы сделаться привлекательными (aggraziati), остается прилагать лишь труд, старание и усердие. Каким искусством, каким обучением, каким способом смогут они приобрести это изящество — и в упражнениях тела, где вы его считаете столь необходимым, и во всех прочих делах и речах? Ведь поскольку вы, очень расхваливая нам это качество, кажется, пробудили во всех пылкую жажду им овладеть, то, согласно поручению синьоры Эмилии, ваш долг и утолить ее, обучив этому нас.
XXV
— Мой долг не учить вас, как сделаться привлекательными или чему-то еще, но лишь показать вам, каким следует быть совершенному придворному, — возразил граф. — И я не взял бы на себя труд такого обучения хотя бы потому, что чуть раньше сам же говорил, что придворный должен уметь бороться, делать упражнения верхом на коне и много других вещей. Как я мог бы вас этому научить, если сам этому никогда не учился, что вам прекрасно известно.
Как хороший солдат может сказать кузнецу о виде, прочности, удобстве нужных ему доспехов, но не может научить их изготовлению, проковке или закалке, — так и я, пожалуй, сумею сказать вам, каким следует быть хорошему придворному, но не научить, что надо вам делать, чтобы стать таким. Но, желая посильно удовлетворить вашу просьбу — хотя стало уже почти пословицей, что изяществу нельзя выучиться, — скажу: кому требуется стать привлекательным в телесных упражнениях (при условии, что он не является неспособным от природы), тот должен начинать с юных лет и постигать основы у лучших наставников. Насколько важным это представлялось Филиппу, царю Македонии, можно понять из того, что наставником в началах наук для своего сына Александра он пожелал иметь Аристотеля, столь славного и, может быть, самого великого философа из когда-либо живших на свете. А что касается людей, известных ныне, можете оценить, как хорошо и изящно выполняет все телесные упражнения синьор Галеаццо Сансеверино, великий конюший Франции; и это потому, что, помимо своей природной стати, он со всем усердием учился у хороших наставников и всегда держался рядом с людьми выдающимися, от каждого беря то лучшее, что они умели [65]. Его учителем в борьбе, конных упражнениях и владении многими видами оружия был наш мессер Пьетро Монте, известный вам как подлинный и исключительный наставник в любом искусстве, требующем силы и ловкости. Что же касается скачек, турниров и всего прочего, он всегда смотрел на тех, кто слыл наиболее совершенным в каждом из этих занятий.
XXVI
Итак, кто хочет быть прилежным учеником, должен не только хорошо делать то, что от него требуется, но и постоянно прилагать всякое старание, чтобы уподобляться наставнику, если возможно, прямо-таки перевоплощаясь в него. А когда почувствует, что уже нечто приобрел, тогда ему будет очень полезно посмотреть и на других людей, занимающихся тем же, и, следуя здравому рассуждению (которое пусть всегда будет его вождем), перенимать различные полезные навыки то у одного, то у другого. Как пчела в зеленых лугах среди трав выбирает медоносные цветы, так и наш придворный должен будет подхватывать это изящество у тех, кто, по его мнению, им обладает, у каждого заимствуя именно то, что наиболее похвально; но не так, как один наш друг, всем вам известный, который, считая себя очень похожим на короля Ферранте-младшего Арагонского [66], старался подражать ему не в чем ином, как в том, что часто вскидывал голову и кривил на сторону рот (повадка, которая у короля была последствием болезни). И многие полагают, будто довольно походить на какого-то великого человека хотя бы в чем-то, нередко выбирая как раз то, что является в нем единственной дурной чертой.
Я часто размышлял: откуда берется изящество? Так вот, если не говорить о тех, кому оно даровано звездами, нахожу одно всеобщее правило, которое кажется мне наиважнейшим как в этом, так и во всем, что люди делают или говорят: следует что есть силы, как острого и опасного подводного камня, избегать нарочитости; и, если можно так сказать, держать себя с некой непринужденностью, скрывающей искусство, чтобы казалось, будто все, что делается и говорится, делается без труда и почти бессознательно. Вот из чего, думаю, в основном и проистекает изящество: поскольку всякий знает, как бывает трудно хорошо исполнять необычные дела, то непринужденность в них вызывает величайшее удивление. Напротив, когда человек тужится изо всех сил, когда он, что называется, «за волосы тянет», — это порождает только досаду, обесценивая любое дело, сколь угодно значительное. Истинным искусством можно назвать такое, которое не кажется искусством; более всего другого надо стараться, чтобы оно было скрыто: ибо, если оно обнажено, это полностью отнимает доверие и человека уже не ценят.
Помню, я как-то читал, что некоторые превосходнейшие ораторы древности в числе прочих своих хитроумных приемов старались внушить каждому мысль о том, что они вовсе не обучены словесности; утаивая свое умение, они делали вид, будто речи их составлены чрезвычайно просто, более согласно тому, что предлагали им естественность и истина, нежели старание и искусство; а если бы это открылось, то вложило бы в души слушателей сомнение: а вправе ли оратор вводить их в заблуждение таким образом? Итак, вы видите, что, выдавая искусственность и преднамеренность, можно лишить изящества любое дело. Неужели кому-нибудь из вас не смешно, когда наш мессер Пьерпаоло [67] танцует в своей манере, подпрыгивая и вытягивая ноги вплоть до носков, боясь пошевелить головой, будто деревянный, с таким напряжением, что прямо-таки думаешь, что он двигается, считая шаги? Чье око столь слепо, что не увидит в этом нелепую нарочитость, а, напротив, у многих здесь присутствующих мужчин и женщин — изящество непринужденной раскованности (ибо так многие называют это качество в движениях тела), когда они, болтая, смеясь, отвечая движениям партнера, показывают, что вовсе не придают значения танцевальным фигурам, думая о чем угодно другом, отчего видящим их кажется, будто они не умеют и не могут ошибаться?
XXVII
В этом месте мессер Бернардо Биббиена, не дожидаясь конца речи, воскликнул:
— Вот и нашел наш мессер Роберто человека, который похвалит его манеру танцевать, раз уж более никто из вас, кажется, не обратил на нее внимания. Если это совершенство состоит в непринужденности и в том, чтобы показывать, будто не придаешь значения тому, что делаешь, думая скорее о чем угодно другом, чем об этом, тогда в танце мессер Роберто не имеет равных в целом свете. Ибо, показывая, что вовсе о нем не думает, он нередко и плащ роняет с плеч, и туфли с ног и, ничего не подбирая, так и танцует.
— Поскольку вы все же хотите, чтобы я продолжал, — ответил граф, — я еще поговорю о наших промахах. Вы разве не видите, что то, что у мессера Роберто вы называете непринужденностью, и есть самая настоящая нарочитость? Ведь он очевидным образом всячески старается показать, будто ни о чем таком не думает, а это и значит думать об этом слишком, и, поскольку он переступает границы умеренности, его небрежность нарочита и выглядит дурно. Ибо как раз противоположно поставленной цели, которая, как мы только что говорили, состоит в том, чтобы скрыть искусство. И я не считаю нарочитость под видом непринужденности (которая сама по себе похвальна), когда роняют одежду с плеч, меньшим пороком, нежели когда под видом утонченности (которая тоже сама по себе похвальна) боятся двинуть головой, чтобы не испортить замысловатую прическу, или в подкладке шапки носят зеркальце, а в рукаве — гребешок и ходят по улице непременно в сопровождении пажа с губкой и метелочкой [68].
И утонченность, и непринужденность такого рода слишком близки к крайности, которая всегда порочна и противоположна чистой и приятной простоте, столь отрадной для людских душ. Смотрите, как неуклюже смотрится всадник, который старается ехать, вытянувшись в седле, как у нас говорят, по-венециански, рядом с другим, который, кажется, вовсе не задумывается об этом и на коне держится так непринужденно и уверенно, словно стоит на земле. Насколько больше любят и хвалят дворянина, носящего оружие, который при этом скромен, немногословен и не хвастлив, чем другого, который только и знает хвалиться да с руганью и вызовом делать вид, будто плюет на весь мир! Что это, как не нарочитое старание казаться бравым малым? И так же можно судить обо всем, что делается и говорится на этом свете.
XXVIII
— Это справедливо и в отношении музыки, — вступил в разговор синьор Маньифико, — в которой считается грубейшей ошибкой взять два совершенных консонанса один за другим, так как одно и то же ощущение нашему слуху досадно, и он подчас предпочитает секунду или септиму, что само по себе является резким и нестерпимым диссонансом. Так получается потому, что последовательность совершенных [консонансов] порождает пресыщение и обнаруживает слишком нарочитую гармонию. Этого избегают, смешивая несовершенные звукосочетания как бы для сравнения, отчего наши уши, сильнее напрягаясь, более жадно ожидают совершенных и наслаждаются ими, а подчас находят удовольствие в диссонансах секунды и септимы, как в чем-то непринужденном.
— Вот и пример, как вредит нарочитость в этой области, как и во всем другом, — подхватил граф. — Еще говорят, что у знаменитых живописцев древности была поговорка: чрезмерная тщательность вредит, а Апеллес порицал Протогена за то, что тот не умеет рук оторвать от доски [69].
— Тот же самый недостаток, — вставил мессер Чезаре, — есть, кажется, и у нашего фра Серафино, который не умеет оторвать рук от доски [70], во всяком случае, пока не унесут со стола все кушанья.
Граф улыбнулся и добавил:
— Апеллес хотел сказать, что Протоген, когда писал, не знал, когда уже надо остановиться; то есть порицал излишнюю нарочитость в его работах. Стало быть, то качество, противоположное нарочитости, которое мы здесь именуем непринужденностью, не только является истинным источником изящества, но имеет и другую прекрасную черту: проявляясь в любом, даже самом мелком действии человека, она не только сразу открывает умение делающего, но часто заставляет ценить его куда больше, чем он того заслуживает по правде, ибо у окружающих создается мнение, будто тот, кто столь легко выполняет что-либо, умеет намного больше, и если бы он в то, что делает, вложил усердие и труд, то мог бы делать это намного лучше.
Взять, к примеру, человека, владеющего оружием: если, метая копье или беря в руку меч или другое оружие, он не задумываясь, непринужденно встает на изготовку, так легко, что кажется, будто тело со всеми его членами принимает это положение естественно, без всякого усилия, — то, даже не производя иных движений, он любому покажется мастером этого дела. То же самое в танцах: один только шаг, одно только изящное и непринужденное движение тела тотчас выдает мастерство танцора. Если певец в пении произносит в двойном группетто одну лишь ноту так мягко и с такой легкостью, будто все вышло само собой, одним этим он уже дает понять, что способен и на большее. Часто и в живописи одна только непринужденная линия, один мазок кисти, положенный так легко, будто рука, не направляемая никакой выучкой или искусством, сама собой движется к своей цели соответственно намерению художника, — с очевидностью доказывает совершенство мастера, о чем каждый судит затем согласно своему разумению. Это справедливо и в отношении почти всего остального.
Итак, наш придворный будет считаться превосходным, во всем, а особенно в речи, проявляя изящество, если сумеет избежать нарочитости — этой ошибки, в которую впадают многие, и подчас больше других — наши ломбардцы: пробыв год вдалеке от родных мест, по возвращении домой они начинают говорить то по-римски, то по-испански или по-французски, и Бог знает как; и все от излишнего желания показать, что много узнали: так люди тратят усердие и старание, чтобы усвоить дрянную повадку. И немалого бы мне стоило труда в этих наших беседах говорить старинными тосканскими словами, вышедшими из обихода у самих нынешних тосканцев; к тому же, думаю, надо мной все бы смеялись.
XXIX
На это мессер Федерико сказал:
— Действительно, в таком разговоре, как у нас сейчас, пожалуй, неуместны эти старинные тосканские слова; поскольку, как вы говорите, они будут утруждать и говорящего и слушающего, и понимать их многим будет нелегко. Но если пренебрегает ими пишущий, я, право, думаю, что он делает ошибку, ибо эти слова придают написанному много изящества и силы, и с ними речь выходит более торжественной и величавой, нежели с новыми.
— Не знаю, — ответил граф, — какое изящество и силу способны придать написанному слова, которых нужно избегать не только в беседе вроде нашей нынешней (что вы сами признаете), но и в любой другой, какую можно представить. Ибо если любому благоразумному человеку случится держать речь о серьезных предметах перед сенатом самой Флоренции, столицы Тосканы, или частным образом говорить с лицом, занимающим в этом городе какое-то положение, по важному делу или с кем-нибудь откровенно о вещах приятных — например, кавалеру с дамой или, наоборот, даме с кавалером — о любви, или шутя и смеясь на празднике, в игре, еще в чем-то подобном, или где угодно, в любое время, в любом месте, по любому поводу — я уверен, что он остережется использовать эти старые тосканские слова; а если нет, то не только выставит себя на смех, но и очень утомит любого из слушающих. И мне кажется очень странным считать пригодными на письме те слова, которых избегаешь как непригодных в разговоре любого рода, уповая на то, что неподходящее для устной речи будет самым подходящим способом выражения в письменной. Ибо, напротив, по-моему, письмо есть не что иное, как одна из форм речи, сохраняющаяся и после того, как человек закончит говорить, словно некий образ или, скорее, сама жизнь слов. Поэтому в устной речи, которая рассеивается сразу, как только смолкнет голос, могут быть терпимы некоторые вещи, которых не допускают на письме; ведь письмо сохраняет слова и отдает их на суд читающего, давая время составить зрелое суждение. И разумно вкладывать в письменный текст больше старания, чтобы он вышел более изящным и исправным, — но не так, чтобы написанные слова отличались от слов произносимых, а выбирая для письма самые красивые слова из используемых в разговоре. А если бы на письме позволялось то, что непозволительно в разговоре, — из этого, думаю, произошло бы что-то в высшей степени неподобающее: можно было бы позволять себе бόльшую развязность там, где нужна бóльшая обдуманность, и то искусство, которое вкладывают в письменную речь, вместо пользы приносило бы вред. Поэтому, бесспорно, уместное на письме уместно и в устной речи, и наиболее красива та устная речь, что подобна красиво написанному.
Итак, еще раз повторю: намного важнее быть понятным в писании, чем в разговоре; ибо те, кто пишут, не всегда находятся рядом с читающими, как те, кто говорят, — со слушателями. И мне кажется похвальным, если человек, избегая злоупотребления старинными тосканскими словами, при этом уверенно использует — и на письме, и в разговоре — те, которые сегодня в ходу как в Тоскане, так и в других областях Италии и имеют некое изящество в произношении. А подчиняющий себя иному правилу, на мой взгляд, рискует впасть в ту самую нарочитость, которую мы в нашей беседе только что сильно порицали.
XXX
Мессер Федерико ответил на это:
— Синьор граф, я не могу отрицать, что письмо — один из видов разговора. Я лишь утверждаю, что если произносимые слова имеют в себе что-то неясное, то речь не проникает в душу слушателя; прозвучав и не будучи понята, она оказывается бесполезной. На письме так не бывает, ибо если слова, употребляемые писателем, содержат в себе нечто, не скажу трудное, но прикровенно-тонкое, не столь известное, как слова, звучащие в обыденных разговорах, то они придают написанному бóльшую весомость. Они делают так, что читатель, напрягаясь и как бы поднимаясь над самим собой, лучше ценит написанное и полнее способен насладиться талантом и ученостью сочинителя. Немного потрудившись умом, он вкушает наслаждение, которое таит в себе познание вещей нелегких. А если неосведомленность читателя такова, что тот не в силах преодолеть трудности, виноват здесь не сочинитель, и нельзя из этого заключать, что язык его не хорош.
Поэтому на письме, полагаю, уместно использовать тосканские слова, и именно бывшие в употреблении у прежних тосканцев; ибо это — сильное, заверенное временем свидетельство того, что они хороши и вполне передают смысл того, ради чего говорятся. А сверх того, несут в себе то очарование и почтенность, которые древность придает не только словам, но и зданиям, статуям, картинам и всему, что способно их сохранять. И часто одним своим блеском и достоинством слова эти делают повествование прекрасным: свойство, которым, вместе с изысканностью стиля, любой предмет, будь он сколь угодно низким, может быть так расцвечен, что удостоится высших похвал.
Но это ваше «обыкновение», которому вы придаете такую силу, мне кажется очень опасным и часто ведущим ко злу. И если обнаружилось, что какой-то речевой порок укоренился среди толпы невежд, не думаю, что из-за этого надо возводить его в правило, которому якобы должны следовать и другие. Кроме того, обыкновения весьма различны, и нет среди знаменитых городов Италии такого, что не имел бы своего наречия, отличающегося от всех остальных. Раз вы не решаетесь объявить, какое из них лучшее, то человек может отдать предпочтение хоть бергамскому наречию [71] точно так же, как и флорентийскому; ведь, по-вашему, в этом не будет никакой ошибки. А я думаю, что желающему избежать всякого сомнения и обрести уверенность надо предложить для подражания писателя, которого всеобщее согласие считает хорошим, в качестве ориентира и защиты от упреков. А таковым (имею в виду в народном языке), по моему мнению, не может быть никто, кроме Петрарки и Боккаччо; и всякий отдаляющийся от них бредет ощупью, подобно тому, кто, идя в потемках без фонаря, часто сбивается с дороги. Но мы, нынешние, так смелы, что считаем ниже своего достоинства делать то, что делали лучшие из древних, то есть прилежно заниматься подражанием, без чего, полагаю, невозможно научиться писать хорошо. Верное свидетельство этого я нахожу в Вергилии, который своим дарованием и поистине божественным умом отнял у потомков надежду успешно подражать ему, но при этом сам стремился подражать Гомеру.
XXXI
Тогда синьор Гаспаро Паллавичино сказал:
— Эту дискуссию о письменной речи, конечно, стоило послушать, однако для нашей цели было бы полезнее, если бы вы разъяснили нам, как должен придворный говорить, потому что, мне кажется, он нуждается в этом больше и ему чаще приходится выражаться устно, нежели писать.
Маньифико ответил:
— Напротив, такому превосходному и исполненному совершенств придворному, без сомнения, просто необходимо уметь и то и другое; а без этих двух качеств все остальные навряд ли удостоятся больших похвал. Поэтому, если графу будет угодно по-настоящему исполнить свой долг, он обучит придворного не только говорить, но и писать хорошо.
— Нет уж, синьор Маньифико, увольте, — сказал граф. — С моей стороны было бы весьма глупо взяться обучать других тому, чего не умею сам, а если б даже умел — думать, что можно немногими словами осуществить то, чего со многим усердием и трудом едва достигали ученейшие мужи. К чьим сочинениям я и отослал бы нашего придворного, будь я все же обязан обучать его письму и речи.
Мессер Чезаре заметил:
— Синьор Маньифико имеет в виду — обучать речи и письму на народном языке, а не на латыни, так что эти ваши сочинения ученых мужей к делу не относятся. Однако нам нужно, чтобы вы рассказали об этом все, что знаете, а остальное мы вам простим.
— Я уже все рассказал, — ответил граф. — А если говорить о тосканском наречии, то, может быть, высказать суждение о нем — долг скорее синьора Маньифико, чем кого-либо другого?
— Я и по совести не могу, и не вижу разумных оснований спорить с теми, кто говорит, что тосканское наречие красивее прочих, — сказал Маньифико. — Но верно и то, что у Петрарки и Боккаччо найдется много слов, которые сегодняшнее обыкновение отвергает. И я, со своей стороны, ни за что не стал бы их использовать ни в разговоре, ни на письме; думаю, что даже сами эти писатели, доживи они до наших дней, их уже не употребляли бы.
— Как раз напротив, они-то употребляли бы, — сказал мессер Федерико. — А вам, господа нынешние тосканцы, следовало бы возродить ваш язык, а не оставлять его на погибель, как вы делаете: ибо уже можно сказать, что во Флоренции его знают меньше, чем во многих других местах Италии.
— Слова, которыми не пользуются более во Флоренции, сохранились среди поселян, — ответил мессер Бернардо. — Люди благородные гнушаются ими как испорченными и обветшалыми.
XXXII
Но тут дискуссию прервала синьора герцогиня:
— Итак, не станем отклоняться от первоначальной темы и обяжем графа Лудовико научить придворного хорошо говорить и писать, хоть на тосканском наречии, хоть на каком другом.
— Синьора, — ответил граф, — я уже сказал об этом все, что знаю; и считаю, что те же правила, что годятся для обучения одному языку, сгодятся и для обучения другому. Но поскольку вы мне приказываете, я отвечу, как считаю нужным, мессеру Федерико, имеющему иное мнение. Возможно, мне придется говорить несколько пространнее, чем полагалось бы, но это и будет все, что я могу сказать. Во-первых, по моему разумению, этот наш язык, который мы называем народным, пока еще молод и нов, хотя и давно уже находится в обращении. Ибо по причине того, что варвары не только опустошили и разграбили Италию, но и надолго поселились в ней, латинский язык в ходе общения с этими народами был испорчен и поврежден, и из этой порчи родились другие языки.
Как реки, от хребтов Апеннин расходясь в противоположные стороны, стекают в два моря, так разделились и эти языки; и некоторые, приобретя преимущественно латинскую окраску, разными путями попали в разные страны, а один, сильно подвергшийся варварскому воздействию, остался в Италии. Длительное время он оставался у нас неупорядоченным и разнородным, ибо никто не пекся о нем, на нем не писал, не стремился придать ему какой-либо блеск и изящество; но все же о нем несколько больше заботились в Тоскане, нежели в других областях Италии; и, как мне кажется, его цвет сохранился здесь еще с тех давних времен, оттого что здешний народ более других соблюдал благозвучие в произношении, а грамматический строй поддерживал в должном порядке. А также оттого, что в его среде явились три знаменитых писателя, которые талантливо и с помощью тех слов и выражений, что были в обыкновении в их время, воплотили свои замыслы [72]. (Что лучше других, по моему мнению, удалось Петрарке в предметах любовных.) [73] Позднее же, когда по временам уже не только в Тоскане, но и по всей Италии среди людей благородных, сведущих в делах придворных, военных и в словесности возникало некоторое стремление изъясняться и писать более изысканно, чем прежде, в века грубые и некультурные, когда пожар бедствий, учиненных варварами, еще не был потушен, — многие слова были заброшены, как в самом городе Флоренции и во всей Тоскане, так и в остальной Италии, а вместо них вошли в обиход другие, — одна из тех перемен, которым подвластны все человеческие дела.
То же всегда происходило и с другими языками. Ибо, если бы первые писания на латинском языке сохранились до наших дней, мы бы увидели, что Эвандр, Турн [74] и прочие латиняне тех времен говорили иначе, нежели последние римские цари и первые консулы. Например, стихи, которые пели салии, были едва понятны последующим поколениям [75], но, переданные именно в таком виде первыми учредителями обрядов, они, из уважения к религии, не подвергались переделкам. Так ораторы и поэты постепенно выводили из употребления многие слова, которыми пользовались их предшественники: ибо Антоний [76], Kpacc [77], Гортензий [78], Цицерон избегали многих слов, обычных для Катона [79], а Вергилий — многих слов Энния [80]. Так же поступали и другие: питая почтение к старине, они, однако, ценили ее не настолько, чтобы быть ею связанными так, как хотите вы теперь связать нас, но, когда казалось нужным, они ее даже порицали, как Гораций, который говорит, что предки хвалили Плавта по глупости [81], и желает иметь возможность вводить новые слова [82]. И Цицерон во многих местах упрекает многих своих предшественников: чтобы умалить Сервия Гальбу, утверждает, что его речи отдают стариной [83]; и еще говорит, что и Энний невысоко ценил писавших прежде него [84]. Так что если мы захотим подражать древним, то тем самым не станем им подражать. И Вергилий, который, как вы говорите, подражал Гомеру, не подражал его языку.
XXXIII
Итак, что до меня, я все же обходился бы без этих старинных слов, вставляя их разве что в определенных местах и нечасто; мне кажется, кто использует их иначе, совершает ошибку не меньшую, чем тот, кто, желая подражать древним, стал бы снова питаться желудями, хотя люди давно умеют выращивать пшеницу [85]. И коль вы говорите, что старинные слова одним блеском древности так украшают любой, сколь угодно низкий предмет, что могут сделать его достойным великой похвалы, то я скажу, что не только эти старинные слова, но и вполне употребительные не считаю, по справедливости, особо ценными, если в них не содержатся прекрасные мысли. Ибо отделять мысли от слов — это как отделять душу от тела: ни того ни другого нельзя сделать без пагубы.
Первостепенно важным для придворного, чтобы хорошо изъясняться и писать, я считаю знание [86]; ибо тот, кто ничего не знает и не имеет в душе мысли, которая заслуживала бы внимания, тот не в состоянии ни высказать ее, ни ее записать. Затем нужно расположить в красивом порядке то, о чем предстоит говорить или писать; затем — хорошо выразить это в словах, которые, насколько я понимаю, должны быть точными, изысканными, блестящими и хорошо подобранными, но прежде всего быть еще в народном употреблении. Ибо они придают речи величие и торжественность, если говорящий, обладая рассудительностью и усердием, умеет подбирать их согласно смыслу того, что намерен сказать, выделять их и, как воску, по своей воле придавая им форму, размещать в таких местах и в таком порядке, чтобы они сразу обнаруживали свои достоинство и блеск, словно картины, выставленные при хорошем естественном освещении. И я говорю это как об искусстве письма, так и об искусстве речи, для которого, однако, требуются еще некоторые качества, необязательные в письме: хороший голос, не слишком тонкий или изнеженный, как у женщины, и не такой грубый и дикий, как у деревенского мужика, но звучный, ясный, приятный и хорошо поставленный, вместе с четким произношением, с приличными повадками и жестами. Последние же, на мой взгляд, заключаются в определенных движениях всех частей тела, не вычурных, не резких, но умеряемых располагающим выражением лица и взглядом, который имел бы приятность и не противоречил словам, передавая, насколько возможно, вместе с жестами намерения и чувства говорящего. Но все это окажется пустым и бесполезным, если мысли, выражаемые в словах, не будут прекрасными, разумными, острыми, изысканными и, при необходимости, серьезными.
XXXIV
— Если этот ваш придворный будет говорить столь изысканно и серьезно, — отозвался мессер Морелло, — я сомневаюсь, что среди нас найдутся способные его понимать.
— Напротив, его будут понимать все, — возразил граф, — ибо доступность речи не исключает изысканности. Я не о том, чтобы он всегда говорил серьезно; в подобающее время пусть говорит о приятных пустяках, развлечениях, передает остроумные высказывания и шутки — но делает это всегда тактично, осмотрительно, не превращая словоохотливость в болтливость и ни в коем случае не выказывая мальчишеского хвастовства и безрассудства. А когда будет говорить о чем-то малопонятном и трудном, пусть подробно излагает дело в ясных словах и суждениях, растолковывая и распутывая любую двусмысленность, — и все это старательно, но без навязчивости. Когда же понадобится, пусть он умеет говорить с достоинством и напором, пробуждая чувства, живущие в наших душах, воспламеняя их или направляя, куда требуется; а подчас — в простоте той искренности, когда кажется, что сама природа говорит, — умиляя их и почти опьяняя сладостью, делая это так непринужденно, чтобы тот, кто его слышит, подумал, что и сам без большого труда сможет достичь того же, но, попытавшись это сделать, понял бы, сколь ему до этого далеко.
Вот как я хотел бы, чтобы умел говорить и писать наш придворный, — и похвалил бы его, если он не только будет брать яркие и изысканные слова из любой области Италии, но подчас и французские и испанские речения, уже вошедшие в наш обиход. Меня не возмутило бы, скажи он в случае надобности что-нибудь вроде «primor» [87], «accertare» [88], «avventurare» [89] или, например, «ripassare» [90], подразумевая: познакомиться с человеком и потолковать с ним, чтобы составить о нем полное представление; или скажи он о каком-то рыцаре: «senza rimproccio» [91], «attillato» [92] — или о фаворите некоего государя: «creato» [93] и тому подобное, — конечно, если рассчитывает, что его понимают.
Пусть он подчас употребляет слова и не в собственном значении, а, умело перенося их, прививает, как юный отросток дерева к более породистому стволу, дабы прибавить им прелести и красоты, как бы поднося вещи к глазам и давая, как говорится, потрогать их руками, к удовольствию тех, кто слушает или читает. Пусть также не боится создавать новые слова вкупе с новыми фигурами речи, изящно заимствуя у римских авторов, как некогда сами римляне заимствовали их у греков.
XXXV
И если кто-нибудь из людей ученых, талантливых и разумных (а такие сегодня находятся и среди нас) возьмет на себя труд писать на нашем языке в описанной манере вещи, достойные прочтения, то мы вскоре увидим этот язык отделанным, богатым словами и красивыми фигурами и вполне подходящим для того, чтобы писать на нем так же хорошо, как и на любом другом. И пусть даже это будет не старый тосканский язык в чистом виде — зато он будет итальянским, общим для всех, богатым и разнообразным, как прекрасный сад, полный всякого рода цветов и фруктов.
И это не что-то небывалое; ибо из четырех языков [94], бывших в употреблении, греческие писатели, отбирая из каждого подходящие слова, обороты и фигуры, создали еще один, получивший название общего; и с тех пор все пять одинаково назывались греческим языком. И хотя афинское наречие было изящнее, чище и богаче других, те хорошие писатели, что происходили не из Афин, не были к нему привержены до такой степени, чтобы их нельзя было узнать по манере письма и как бы по аромату и своеобразию их родного наречия; и никто их за это не презирал; напротив, порицались те, которые хотели казаться слишком афинянами.
Также и среди латинских писателей в свое время почитались многие неримляне, хоть у них и нельзя было найти той чистоты собственно римской речи, которую лишь в редких случаях могут приобрести не коренные римляне. Нисколько ведь не отвергали Тита Ливия, даже если кто и находил у него признаки патавийского наречия [95], ни Вергилия, притом что его попрекали неримским выговором [96]. А еще, как вам известно, в Риме читали и высоко ценили многих писателей родом из варваров.
Но мы, куда более строгие, нежели древние, несвоевременно подчиняем себя неким новым законам и, имея перед глазами надежные дороги, ищем окольных троп; ибо в нашем собственном языке, чье назначение, как и всех других, хорошо и ясно выражать образованные в духе мысли, тешим себя темнотою и, называя этот язык «народным», хотим использовать в нем слова, непонятные не только простонародью, но и людям благородным и образованным, нигде ныне не употребляемые; и не берем примера с хороших древних авторов, которые порицали использование слов, отвергнутых обиходной речью. Которую вы, по моему впечатлению, знаете не весьма хорошо, раз говорите, что если какой-то порок речи укоренился во многих невеждах, то его не следует называть «обыкновением» и принимать за правило, а в то же время, как я не раз слышал, хотите, чтобы вместо «Capitolio» говорили «Campidoglio», «Girolamo» вместо «Ieronimo», «aldace» вместо «audace», «padrone» вместо «patrone» [97] и тому подобные испорченные и поврежденные слова, на том основании, что их, оказывается, так записал в старину какой-то невежественный тосканец и что их так произносят сегодня тосканские поселяне. Так вот, я считаю, что доброе обыкновение в речи создается одаренными людьми, которые учением и опытом приобрели дар различения, с которым сообразуются, соглашаясь принять слова, которые сочтут пригодными, распознавая их неким природным суждением, а не искусственно или подчиняясь какому-нибудь правилу. Или вам не известно, что все фигуры, придающие речи столько изящества и блеска, являются отступлениями от грамматических правил? Однако они приняты и утверждены обычаем, потому что они — здесь нельзя привести других причин — просто нравятся и словно самим ушам любезны и приятны. Вот это я и считаю добрым обыкновением. И оно может встретиться как у тосканцев, так и у римлян, неаполитанцев, ломбардцев и всех остальных.
XXXVI
Правда, что во всяком языке есть качества, которые всегда хороши, как, например, легкость, стройный порядок, богатство, красивые речения, ритмизованные клаузулы; напротив, нарочитость и иные вещи, противоположные названным, дурны. Но из слов иные какое-то время сохраняют пригодность, а затем устаревают и полностью теряют свое изящество; другие входят в силу и поднимаются в цене. Как времена года то обнажают землю от цветов и плодов, то вновь покрывают ее другими, так время отбрасывает устарелые слова, а обыкновение возрождает другие, наделяя их изяществом и достоинством до тех пор, пока и они не отмирают, мало-помалу снедаемые завистливым временем; ибо и мы сами, и все наше в конечном счете обречено смерти. Подумать только: нам вовсе ничего не известно о языке осков [
