автордың кітабын онлайн тегін оқу Одиночество смелых
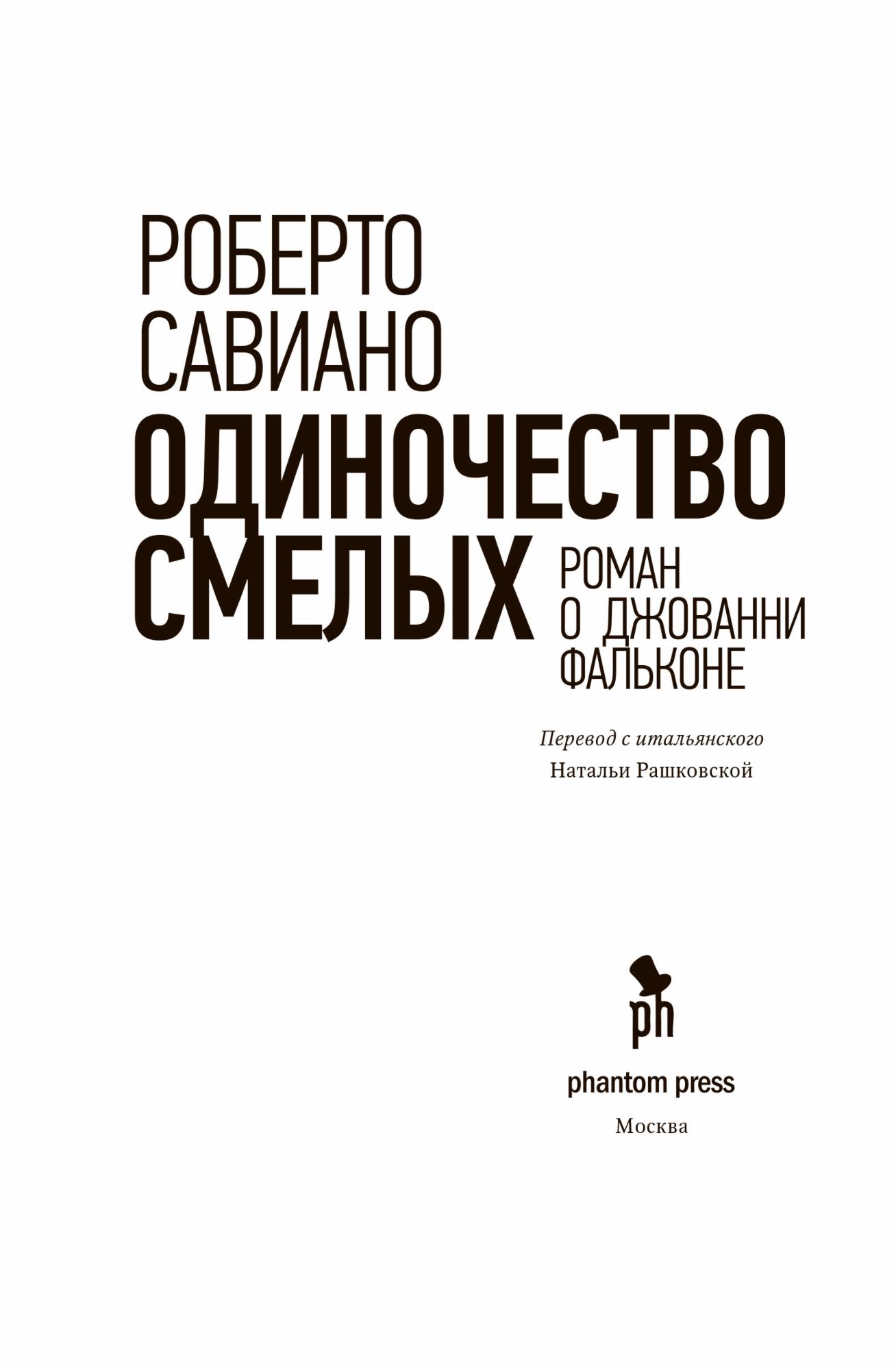
Пролитой крови, что никогда не засохнет
В этом романе рассказывается реальная история. По ряду эпизодов существуют разные версии и гипотезы, я всякий раз выбирал ту, что казалась мне наиболее правдоподобной и убедительной. Соединяя факты, заполняя лакуны, реконструируя диалоги, воображая короткие сцены или воплощая эмоции и мысли, я действовал не по собственному произволу, но всякий раз основывался на исторических свидетельствах или конкретных указаниях. В нескольких случаях я приспосабливал хронологию событий к нуждам повествования, чтобы придать более линейный характер этой масштабной, сложной, часто запутанной истории. Эти страницы — образ, выстроенный благодаря литературным приемам, которые жанр романа предоставляет в распоряжение писателя, каждая сцена рисует драму всей страны, где искажения правды превосходят самую буйную фантазию. Все персонажи реально существовали, все факты реальны. Все это было.
Роберто Савиано
1
ПЛАМЯ
КОРЛЕОНЕ, 1943 ГОД
Земля трясется от грохота. Дальше только камни. Камни, обрывки ткани и сломанные кости.
Казалось, что было, то прошло, дьявол уже не бьет в свой барабан, и свист, взрывы и разрушения войны ушли с небесной дороги. По крайней мере, металл уже не хлещет с неба дождем. К середине лета и бомбардировки прекратились. Тогда что же случилось? Почему покосились кресты на стенах?
На виа Руа дель Рьяно разверзся ад. Дома Джованни и его семьи больше нет. Кто-то стоит, оцепенев, перед развалинами и пламенем, глядя поверх облака серой пыли.
Среди развалин остался только юный Сальваторе, он еще жив. Жив и Гаэтано, его брат. Он, весь в крови, корчится на земле. Остальные мужчины в семье погибли.
До сих пор казалось, что ад от Корлеоне далеко. Здесь работают, молятся и заводят семьи.
Так тих сон этих деревень, что чужаки, если им почему-то приведется оказаться здесь, ступают по земле легкими шагами, опасаясь, что она вдруг проснется, что комья почвы вдруг раздвинутся и, пока на поля дует горячий бестолковый ветер, из недр земли со злобной издевкой прогремит вопрос: Несчастные идиоты, вы и правда верили, что эта земля спит?
В здешних местах земля просыпается куда раньше солнца. Она начинает дышать, пока еще темно. Потягивается, разминает члены. Кажется даже, что она зевает, что ее горячее дыхание лениво поднимается над фруктовыми садами.
Вместе с землей просыпаются и люди.
Сегодня утром Джованни погрузил трех сыновей на телегу, когда солнце было еще еле теплым. Мул нехотя побрел по виа Руа-дель-Пьяно, и под цоканье его копыт они, три мальчика, то и дело засыпали, но Джованни уже видел перед собой новый день и смотрел вперед, держа вожжи. Низкие серые строения постепенно оставались позади, и по обе стороны от дороги за невидимой границей, окружающей Корлеоне, открывались широкие поля. Состоит эта граница из церквей: Святого Михаила Архангела, Святого Бернарда, Святого Николая, дальше — Святого Луки, Богоматери, Святой Марии Магдалины, Благовещения Пресвятой Богородицы, Святого Иоанна Евангелиста и снова Святого Михаила Архангела. Если соединить их друг с другом, образовалась бы крепостная стена. И это не считая церквей внутри городка. Если на продавленных кроватях в этих старых домишках, где часто живет вся семья плюс собаки, свиньи и курицы, порой не хватает места для христиан, то для святых место всегда найдется. Они свисают с изголовий, цепляются к стенам, отражаются в дверцах шкафов и стеклах буфетов.
У Джованни три гектара земли в контрадах [1] Марабино, Фраттина, Сан-Кристофоро и Маццадиана. Мало, но ему хватает. Все земля вокруг когда-то принадлежала невежам-баронам, которые хвалились, что могут доехать до Палермо, не покидая пределов своего поместья. Так оно и было. И ничего удивительного, что сегодня в сельской местности, полной овец, рожковых и оливковых деревьев да виноградников, — причем все это принадлежит одному человеку и раньше принадлежало одному, и так далее на протяжении веков — в краю несчастных батраков и крестьян, арендующих землю у хозяина, в краю собак, пожирающих других собак, чтобы не умереть с голоду, владеть тремя гектарами земли и хотя бы раз в день есть досыта уже считается удачей.
Джованни по-своему человек удачливый. Среди морщин его лица, сожженного солнцем за сорок шесть лет, и в самом деле скрывается кроха благодарности. Каждый день он гнул спину в поле, каждый вечер у него болели руки, но чего-то он за свою жизнь добился. На его памяти не было ни дня, когда бы он не рвал жилы, и когда он не рвал жилы себе, случалось, что он рвал их кому-то другому — королевские карабинеры Корлеоне отметили в его личном деле, что он “субъект, склонный наносить ущерб людям и чужому имуществу”.
Но сегодня Джованни и его три сына, Сальваторе, Гаэтано и Франческо, поехали искать среди кустов не чужое имущество. Искали они, так сказать, дары неба. Американские бомбы. Железо, порох, металл, который можно использовать, продать или обменять. Бомбардировщики роились и жужжали в сицилийском небе, оставляя среди комьев почвы выводки драконьих яиц. А теперь кто хочет, тот увидит, как они блестят на солнце, полупогребенные под землей.
Прочесав поля вокруг Корлеоне, они кое-что нашли: взрывное устройство made in USA и снаряд.
Двенадцатилетнего Сальваторе все зовут Тото. Он старший и самый крепкий, хотя даже не дорос до ста шестидесяти сантиметров. Его сила пригодилась, чтобы погрузить бомбу и снаряд на телегу.
— Тихонько! Тихооонько! А то как рванет.
— Давай! — закричал Тото Гаэтано, стоя на коленях в кузове. — Тяни...
Гаэтано и Франческо завернули бомбу и снаряд в холщовый мешок, а Джованни смотрел на них, кусая пальцы.
— Все вместе взлетим, осторожнее... С грохотом и огнями...
Снаряд выпал из мешка и прокатился до дальней стенки кузова.
— А! — Джованни укусил кулак. — Давай!
Мальчишки смотрели на него с ужасом, его тяжелая мозолистая рука — того и гляди ударит — страшила их больше, чем опасность взлететь на воздух.
— Праздник огней Святого Луки уже прошел, попробуем вернуться домой целыми, ехаем.
И так, разместив снаряд и бомбу на соломенном тюфяке, чтобы они не шибко подпрыгивали по дороге, все мужчины семьи уже к вечеру двинулись домой. Мул шел не торопясь, и только через час они снова увидели груду серых крестьянских домишек, покрытых покоцанной черепицей и полных святых, распятий и молитв, на которые святые никогда не отвечали.
Гаэтано смотрел на дорогу и говорил с отцом о том, что завтра надо бы распахать участок Маццадиана. Только Франческо удалось вздремнуть по дороге домой, с двумя снарядами между ног. Тото не проронил ни слова. Он смотрел в небо, грыз ногти. Отвесил подзатыльник младшему брату, когда они приехали в Корлеоне.
Они спрыгнули с телеги на углу виа Руа-дель-Пьяно и виа Равенна, Джованни растянул полотно на земле, взял бомбу и положил ее на ткань. Он хотел обезвредить ее здесь, на улице, у двери в свой дом.
Он склонился над взрывным устройством. Две старухи, которые шли по виа Равенна, увидели, что его спина прикрывает что-то вроде торпеды. Он не раз стоял так, когда чинил оси телеги, доил овец, собирал бобы. Только сейчас он играл с семьюдесятью килограммами взрывчатки под окнами тысячи христиан, которым и так уже перепало немало несчастий. Старухи бросили взгляд на трех бедолаг, которые притулились к стене и глядели, как трудится их отец. Тото злобно усмехнулся в ответ, он гордился отцом, который дерзко приручал смерть, отдирал от нее кусок за куском и превращал их в деньги.
Джованни быстро обезвредил бомбу. Он ее, пожалуй, продаст. Неважно кому. Несите ваши денежки, а дальше уже не его дело. Металл, запчасти, порох — эти американские бомбы что твои свиньи. Все идет в дело. Лучше трюфелей, да и найти их куда легче. Только вот они иногда взрываются.
Но Джованни прекрасно знал, как обращаться с такими стальными трюфелями. За несколько секунд он расправился с носовым и хвостовым взрывателями — он даже не знал, для чего они нужны, но знал, как их открепить. Теперь бомба обезврежена.
А снаряд и так не представлял опасности. На кончике он треснул, и пороха внутри не было. Джованни с ребятами его по-всякому вертели, точно не было. Пустой внутри. Но железо пригодится.
Такой он был безвредный, что Джованни сказал ребятам отнести его в дом, дом-полустойло и полуцерковь, где никогда не замолкали животные.
Женщин дома не было. Мария-Кончетта ушла по делам со старшей дочерью, Катериной, и младшей из детей, Арканджелой. Они брели по одной из улочек городка медленно, устало — Мария-Кончетта была на восьмом месяце, живот большой, точно три арбуза. Они не видели, как Джованни взял камень, переступил через порог и резко, решительно ударил по кончику снаряда. А вот мальчики видели. Они стояли за спиной отца, когда снаряд взорвался с оглушительным грохотом и пламя охватило дом.
Теперь Тото никак не может узнать своего отца. Всего мгновение назад тот стоял, что-то бубня и, словно мельница, размахивая сильными руками, шишковатые пальцы сжимали камень, а теперь части его тела повсюду, на стенах и на полу вспоротого дома. И маленького Франческо постигла та же судьба. Гаэтано лежит, свернувшись клубком. Осколки железа вошли ему в правую ногу, поранили лицо и шею.
Только Тото стоит в аду огня и отчаяния без единой царапины. Отныне он глава семьи — единственный мужчина из семьи Риина, оставшийся невредимым.
Пламя танцует вокруг Тото, не трогая его.
Среди плача и отчаянных воплей кто-то из людей, собравшихся на дороге, кричит: “Чудо! Чудо!”
[1] Районах. — Здесь и далее примеч. перев.
2
ВЕСЬ ПРАЗДНИК ИСПОРТИЛ
ПАЛЕРМО, 1982 ГОД
И кому нужно, чтобы сегодняшний день отличался от вчерашнего?
Вот какой вопрос задает себе директор сберегательной кассы, заходя в бар деи Мираколи, расположенный прямо напротив банка. Владелец бара кивает и улыбается, приветствуя его. Человек за стойкой тоже его приветствует:
— Директор.
Он снимает шляпу, кладет ее на стойку и ждет привычного кофе с привычной бриошью, которые появляются в рекордные сроки в сопровождении стакана воды с газом. Директор, наклонив голову, внимательно их рассматривает. Оценивает.
Кофе приличный. Бриошь тоже. Вроде нет в этой булке ничего особенного, но она только из печи, еще горячая, а значит, баланс определенно положительный. Он всегда чувствует благодарность, глядя на положительный баланс как у вкладчиков банка, так и на собственном счете.
Поэтому, кусая бриошь и чувствуя, как сахар тает у него на языке, директор уже знает ответ на свой вопрос. Перемены никому не нужны.
Директор надевает шляпу и выходит из бара. Пересекает площадь, опустив взгляд, в правой руке болтается кожаный портфель.
Подойдя к западной части площади, где арки Сицилийской сберегательной кассы придают несколько претенциозный вид зданию, построенному в начале девятнадцатого века, директор начинает игру, которую практически без изменений повторяет каждое утро. Он считает разницу в сантиметрах между сегодняшними и вчерашними шагами до входа в здание. Кто знает, может быть, однажды он сможет достичь совершенства и полностью повторить вчерашние шаги. Но, насколько ему известно, игры хороши, пока никто на самом деле не выигрывает.
И все же сегодня что-то изменилось. Переступив порог и не поднимая глаз, он чувствует на себе пристальные взгляды. Чувствует, что за ним наблюдают. На расстоянии нескольких метров от его кабинета двое мужчин в форме разговаривают с секретаршей. Один из них, тот, что пониже, улыбается ей, опершись локтем о письменный стол. Но, едва заметив директора, оба принимают официальный вид. Мужчина — не тот, что опирался о стол, а другой, — не говоря ни слова, протягивает ему конверт.
— Директор, — вступает секретарша, — агенты принесли...
— Судебный запрос, — перебивает ее низенький, вдруг меняясь в лице.
Директор берет конверт. Переводит взгляд с секретарши на сотрудников финансовой полиции. Пытается улыбнуться, но на лице его появляется лишь кривая ухмылка.
— Могу я узнать, в чем дело?
— Э, — говорит женщина, — я тоже спросила, но...
— Ни в чем, директор. Это письмо из Следственного отдела.
— Ах вот как... И о чем же? — снова спрашивает он.
Но он уже прекрасно знает, что это за письмо. Он знал, что рано или поздно оно придет, пусть в нем и жила слабая, но все же надежда, что этого не произойдет. Сегодня эта надежда разбилась.
— Прочитайте, директор. Мы должны только уведомить вас. Подпишите здесь, пожалуйста.
Директор подписывает. Двое полицейских из финансовой гвардии (у обоих текущий счет в Сицилийской сберкассе) пожимают ему руку и чуть ли не снимают в знак уважения свои береты, а потом уходят по коридору. Стук их каблуков отскакивает от стены к стене, пока директор с секретаршей с сомнением смотрят друг на друга.
Зайдя в кабинет, директор снимает шляпу и вешает ее за дверью. Садится за письменный стол и ножом для бумаг открывает конверт. Рассматривает сложенный лист бумаги, вертит его в руках, точно игрок в покер. Он будто ухаживает за этим письмом, пробует задобрить его легкими движениями пальцев, зная, что оно определит будущее его руки и, может быть, тех, кто выше него.
Руки директора слегка дрожат.
Наконец он решается.
Письмо весьма краткое. Тем не менее он читает и перечитывает его в течение нескольких минут. Некоторым образом директора даже успокаивает то, что это случилось и с ним. Как говорят, угроза страшнее исполнения. С этой минуты угрозы больше нет, есть только проблема.
Настоящим письмом Следственный отдел города Палермо в интересах ведущегося следствия просит в кратчайшие сроки предоставить нижеподписавшемуся следователю Джованни Фальконе справки обо всех операциях по обмену валюты с января 1975 года по настоящее время, совершенных кредитной организацией, директором которой Вы являетесь.
Директор кладет письмо на прочный столик красного дерева и поворачивается к окну. И сегодня утреннее солнце, как всегда, освещает большую комнату, окна которой выходят на площадь. Он поднимает трубку телефона, стоящего справа от него, — еще один стоит слева — и нажимает на кнопку.
— Соедини меня с директором Банка Сицилии.
Он несколько минут трет подбородок, глядя в пустоту, потом звонит телефон. Секретарша переключает его на директора банка.
— Мне тоже пришло.
— Добро пожаловать в клуб, — отвечает коллега.
Он вешает трубку, не сказав больше ни слова, и снова принимается смотреть в пустоту. Так он сидит один больше четверти часа. Никто не заходит в кабинет, сотрудники знают, что утром директора можно беспокоить только по самым срочным вопросам, потому что в это время он листает газеты.
Потом, когда он чувствует, что по крайней мере на пару часов может отложить это дело, звонит телефон.
— Директор Сельскохозяйственного и ремесленного банка просит...
— Хорошо, хорошо, соедини меня с ним. Тебе тоже пришло? — сразу спрашивает он.
Тому тоже пришло. Видимо, прокуратура Палермо разослала серию писем. Теперь, наверное, весь список банков охвачен. Голос коллеги такой же напряженный, как и у него самого, не то что по четвергам вечером, когда они собираются поиграть в карты.
Похоже, что сегодня, к сожалению, все будет не как вчера.
На следующее утро перед “притоном” наблюдается странное бурление. “Притоном” в прекрасной Италии пренебрежительно называют здание суда. В особенности в Палермо, где суд — настоящий лабиринт из мрамора и бетона со строгим фасадом, простыми интерьерами и тяжелыми колоннами. Если к этому добавить, что никому не хочется оказаться в суде, наименование более чем заслуженное.
Бурление странное не столько из-за того, что почти все собравшиеся одинаково одеты — темные костюмы, галстуки, портфели, — но из-за того, кто они: это не обычные адвокаты, судьи, секретари и помощники.
Перед входом в суд припаркованы несколько дорогих автомобилей. Водители прислонились к своим машинам в ожидании больших шишек, которых они привезли в суд.
Внимание прохожих привлекает внезапный звук шлепка, сопровождаемый недовольным бормотанием. Шоферы собрались возле автомобиля с темными стеклами и играют в карты на капоте. Один из них, к большому неудовольствию коллег, только что выкинул трефового туза.
Придется еще немного подождать, прежде чем вернутся начальники. Шоферы не знают, в чем дело и сколько им еще здесь торчать, но тот факт, что они оказались здесь все вместе, ничего хорошего не предвещает. По крайней мере, ничего быстрого.
Их начальники по большей части — директора банков, но есть и более или менее видные местные политики. Никто, кроме завсегдатаев “притона”, увидев их в коридоре, не заметил бы разницы.
Привычный ход дел в здании суда нарушает сдержанная, но безумная энергия. Обычно только молодые торопятся из одного кабинета в другой, а пожилые берегут силы и стараются с кресла не вставать. Но сегодня заторопились седые. И заметьте, они не судьи. И даже не адвокаты.
— Без повестки следователь вас не примет, — говорит секретарша мужчине в двубортном пиджаке, которого, вероятно, сопровождает шофер или, так сказать, мальчик на побегушках, он стоит позади и держит портфель.
— Так у меня повестка. Я получил письмо от Фальконе, если уж это не повестка...
— Это не повестка, а официальный запрос. Если вы хотите поговорить с синьором Фальконе, запишитесь...
— Никуда я записываться не буду. Так вот, пожалуйста, сообщите его превосходительству Пиццилло, который, насколько мне известно, все еще руководит этим... заведением, что я здесь и хочу его увидеть. Возьмите мой документ. Анто´, портфель, — говорит мужчина своему верному слуге.
Тот ставит портфель на подоконник и роется в нем.
— К синьору Пиццилло нужно подняться по лестнице... Извините, но вам назначено?
— Назначено? — с отвращением спрашивает мужчина в двубортном пиджаке.
— Да. Если не назначено, к нему нельзя.
Мужчина несколько секунд смотрит на нее не дыша.
Потом выдыхает. Поворачивается к слуге.
— Ну, пошли, — говорит он, удаляясь по коридору. В эту минуту телефон на столе секретарши снова принимается звонить, как он звонил без перерыва до появления парочки.
— Следственный отдел. Нет, синьор Фальконе не... Да, я поняла, но я не могу соединить вас. Нет, не только вас, он вообще не может ответить на звонок...
Секретарша возводит взгляд к небу.
Человек шесть ждут приема под дверью генпрокурора Пиццилло. Охранник, который сидит за деревянной стойкой, время от времени шикает, чтобы они не шумели, и возвращается к своей газете. Из кабинета доносятся два возбужденных голоса. Говорят громко, но о чем речь, не разберешь. Иногда, однако, ожидающие улавливают какие-то обрывки. Все они готовы повторить эти слова: “мы погибли”, “следствие”, “Сицилия” и многократное “блядь”. Кто-то кивает, кто-то выписывает нервные круги. Когда в сопровождении своего верного слуги появляется еще один посетитель, все с ним здороваются.
— Вот видишь, — говорит этот мужчина, такой худой, будто умирает с голоду, которого он, судя по золотым запонкам и наручным часам, никогда не испытывал, — только нас недоставало. Теперь синьору Фальконе есть что отметить, он вычеркнул все имена из своего списка. Наверное, не хватает только...
Но вот еще один подошел.
— Напророчил! — говорит коллега и хлопает его по плечу. Они смеются. Тут как раз открывается дверь.
— Ваше превосходительство, — говорит один.
— Джованни, — приветствует его другой.
— Синьор председатель, — вступает третий.
Пиццилло обводит их взглядом, пожимает плечами и говорит:
— Входите.
В кабинете генерального прокурора руки ныряют в карманы элегантных пиджаков, одна за другой щелкают зажигалки. В несколько мгновений кабинет наполняется дымом.
— Джованни, Джованни... — начинает один, потирая руки. На нем светлый костюм и голубой галстук с морскими коньками. Мужчина маленький, щупленький, поэтому толстая сигара в его руках (он только что затянулся) кажется еще толще. — Сам знаешь, сколько лет мы уже знакомы. Разве я когда-нибудь позволял себе перечить? Говорить, что нам подходит, а что полная херня? Разве мы себе такое позволяли?
Он обводит взглядом аудиторию. Все качают головой.
Другой визитер вторит ему, вздымая руки к небу:
— Мы и теперь себе такого не позволяем.
— Никак нет, — соглашается синьор в светлом костюме.
— Но один вопрос я тебе должен задать, и я тебе его задам от имени всех присутствующих. Можно?
Пиццилло высокомерно кивает и жестом показывает, что можно продолжать.
— Очень хорошо. Я бы хотел узнать, мы бы хотели узнать, нам что, работу менять... я не знаю... подыскивать место на почте?
— Я уже старый человек, синьор председатель, — говорит другой, прислонившись к книжной полке. — Мне только на пенсию дорога.
Пиццилло не обращает на него внимания.
— Что же нам... я не знаю... что же нам делать? Вы столько документов запросили, столько у вас вопросов, — жалуется мужчина в светлом, жестикулируя и выдыхая новое облако дыма, — да у нас вся работа встанет. Вся работа встанет.
— Нам эти документы много дней искать не переискать, — вторит ему прислонившийся к полке. — Синьор председатель, вы так из нас следователей сделаете. Но кто же тогда работать будет?
— Все встанет, — подает голос еще один.
Пиццилло массирует лоб. Он молчит, а остальные вглядываются в него из-за завесы дыма. Несколько мгновений спустя он прерывает свои размышления.
— А я что могу сделать? Не закрывать же Следственный отдел.
— Нееет. — Низенький с толстой сигарой тотчас ухватывает мысль. — Да что ты, Джованни. Как можем мы тебя просить кого-нибудь уволить? Как тебе такое в голову пришло? Извини, если мы тебе плохо объяснили, мы хотим только, чтобы нам дали возможность... дышать. — Он театрально ослабляет узел галстука и повторяет, выдыхая дым: — Дышать.
Потом смотрит на собравшихся, они кивают и наконец улыбаются, всеми легкими вбирая никотин.
— Нам бы только вздохнуть.
— Только вздохнуть, — отзывается эхом его коллега, прислонившийся к книжной полке.
Пиццилло выходит из кабинета час спустя, на пороге прощается с посетителями и, пока их голоса удаляются, несколько мгновений стоит, опершись на дверной косяк и глядя в пустоту. Когда последний заворачивает за угол, он спокойно закрывает дверь и садится. Но не успевает он откинуться на спинку кресла, как кто-то стучит в дверь.
— Председатель.
Это Рокко Кинничи, начальник Следственного отдела. Кинничи пользуется большим уважением во Дворце правосудия, он очень крупный мужчина с большим профессиональным опытом, да и должность у него важная. Задача его отдела — уголовное расследование, сотрудники собирают доказательства и организуют собранные материалы — собственно, собирая дело, которое потом будет представлено в суде против обвиняемых. Работа Следственного отдела требует неустанного внимания. Чрезвычайно важно правильно предъявить обвинения и собрать доказательства. Особенно в таком городе, как Палермо, где не счесть процессов против мафии, которые закончились оправдательными приговорами из-за отсутствия доказательств. Больше одного раза судить за одно преступление нельзя и исправить ошибку уже невозможно.
Пиццилло кивает и показывает на кресло перед столом.
— Я бы сам к тебе пришел, — говорит он.
Кинничи входит и закрывает дверь.
— По вопросу мирового судьи? Нужно менять Ла Коммаре, Высший совет магистратуры принял решение, что это вопрос в компетенции председателя суда, и если мы этого не сделаем...
— Нет, нет, садись. Нам сначала надо другой вопрос обсудить.
— Синьор председатель, но это дело срочное.
— Есть дело поважнее. Ты сядешь или нет?
— Сажусь-сажусь.
Кинничи садится. Принимается разглаживать галстук указательным и средним пальцами, вопросительно глядя на Пиццилло.
— В общем, ты мне объясни, что ты творишь со своими... как ты их называешь? Печеньки?
Кинничи, улыбаясь, бьет себя рукой по бедру:
— Да, я им дал такое прозвище. Знаешь рекламу печенья? “Сильные и суперактивные”! — Кинничи чуть краснеет. — Они меня моложе, и таким образом я хотел...
— Ладно, ладно. Зови их как твоей душеньке угодно.
Кинничи пропускает галстук между мизинцем и остальными четырьмя пальцами, будто гладит его. Это привычка вроде нервного тика, хорошо знакомая его коллегам. В спокойном состоянии он трогает галстук только двумя пальцами, а всеми — когда волнуется.
— Проблема не в том, как вы друг друга зовете, а в том, как вы работаете.
— В смысле?
— В смысле, что вы устроили какой-то дурдом и всех запутали. Мне доложили, что вы творите.
— Он вправе это делать. Это его долг.
— Спасибо, что напомнил.
Пиццилло встает и смотрит на висящий на стене портрет Сандро Пертини [2], повернувшись спиной к молчащему Кинничи. Пиццилло тоже молчит несколько секунд.
Потом он вдруг поворачивается и кладет руки на письменный стол.
— Я всегда давал вам свободу, потому что мне нравится, что вы глубоко копаете, в общем, ведете расследование, хотите, чтобы был порядок. Но так нельзя. Вам, может, неясно, что вы разрушаете экономику Палермо.
— Мы? — не веря своим ушам, спрашивает начальник Следственного отдела.
— А кто, я? Тебе кажется нормальным, что финансовая гвардия каждый божий день наведывается в отделения банков? Что им приходится тратить все время на сбор справок об обмене валюты? Сколько рабочих дней коту под хвост, — спрашивает председатель суда, взволнованно жестикулируя, — потому что Джованни Фальконе пришло в голову поиграть в шерифа?
Кинничи морщит лоб.
— Он просто делает свою работу.
— Плохо он делает свою работу. А раз ты его начальник, значит, и ты плохо делаешь свою работу.
Кинничи снова тянется к галстуку. Пиццилло поднимает руки, будто хочет что-то сказать, но ничего не говорит. Опять поворачивается к стене и поглаживает себя по подбородку.
— Знаешь, что тебе надо сделать?
— Нет.
— Заставь его работать по-настоящему.
— Фальконе? Но, мне кажется, он и так уже...
— Загрузи его делами. Но только легкими, повседневными процессами. — Пиццилло возвращается в свое кресло. — Тогда, может, ему лучше делать то, что привыкли делать следователи?
— То есть?
— Ничего! — отвечает Пиццилло, пристукнув кулаком по столу.
— Не хочу с вами спорить, но это мы обнаружили каналы поставки наркотиков из Палермо в США, а мы следователи.
Пиццилло, опершись локтями на стол, внимательно смотрит на Кинничи. Сжимает зубы. В таком положении он остается несколько секунд. Ожидание кажется бесконечным, наконец он решает откинуться на спинку кресла. Кладет ногу на ногу, покашливает. Пробует скрыть злость, но это у него не выходит.
— Рокко, так нельзя. Я к вам с проверкой приду.
— Ваше право.
— Разговор окончен.
Пиццилло указывает рукой на дверь. Кинничи встает, придвигает кресло к столу и выходит из кабинета.
Паломничество банкиров продолжается все утро. После двух секретарша удаляется в комнатку, выходящую в коридор, прямо перед дверью в кабинет судьи Фальконе. Она убирает контейнер с обедом, когда в кабинет магистрата [3] резвыми шагами направляется нахмурившийся мужчина с широкими плечами и большой головой. Завидев носки его ботинок, она инстинктивно открывает рот. Но потом понимает, что это Рокко Кинничи.
За его лапищей даже не видно дверную ручку. Уже наполовину оказавшись в кабинете, Кинничи вспоминает, что надо было постучать.
— Рокко, — говорит человек, сидящий за письменным столом в черном стеганом кресле.
В кабинете, кроме длинного деревянного стола и застекленного шкафа, — сейф, куча папок, разложенных там и сям, и пишущая машинка “Оливетти Линия 98”. И еще два пустых письменных стола с какими-то механизмами, на стенах несколько календарей вооруженных сил. На полу нагромождение коробок.
— Можно войти?
— Куда тебе еще входить?
Кинничи закрывает дверь и садится у стола. Стул скрипит. Он вырос профессионально — и не только профессионально — за двенадцать лет карьеры в Трапани и Партанне, а потом уже вернулся в Палермо. Можно сказать, вернулся домой. Родился Кинничи в 1925 году в деревушке Мисильмери недалеко от Палермо и прекрасно знает дорогу, соединяющую деревню с Палермо: после бомбардировок союзников железной дороге пришел капут, и Кинничи, чтобы закончить классический лицей имени Умберто I, вынужден был ходить в город пешком. Больше пятнадцати километров, около трех часов пути. Два раза в день.
— Джованни, ты знаешь, что происходит, да?
— Скудетто у “Юве”? А, да, но придется с этим смириться...
— Я с тобой серьезно разговариваю. Эта история с письмами, которые ты рассылаешь банкам, выходит из-под контроля.
— Это ты мне говоришь? — спрашивает Фальконе, указывая на коробки.
Кинничи опирается локтями на стол:
— Я только что был в кабинете Пиццилло.
— Его превосходительства.
— Вот именно.
— Он тебя вызвал?
— Я сам к нему пришел.
— Ты, как истинный католик, решил подвергнуть себя бичеванию?
— Я хотел ему напомнить, что нам нужно сменить Ла Коммаре, после решения Высшего совета магистратуры нам нужен новый мировой судья. Но он мне и слова вымолвить не дал. Сказал, что наш Следственный отдел губит экономику Палермо.
— А, так, значит, теперь это называется “экономика”?
— Сказал, чтобы я загрузил тебя пустяковыми процессами, потому что тебе следует заниматься тем же, чем и всем следователям.
— То есть?
— Ничем.
Кинничи разглаживает галстук двумя пальцами — значит, чувствует он себя более или менее в своей тарелке. Фальконе морщит лоб, проводит рукой по заросшему подбородку, выдерживает взгляд собеседника. Человеку, плохо знающему Кинничи, этот взгляд наверняка показался бы полным угрозы, а кабинет Кинничи обычно наводит на посетителей ужас.
Фальконе спокоен. Ему хочется улыбнуться, но он не уверен, что может себе это позволить. Субординация есть субординация, в это верит и он, и Кинничи, и оба они ее соблюдают.
— И ты бы на это пошел?
Рокко Кинничи глубоко вдыхает, медленно выдыхает через нос и молчит.
— Иди за мной, — говорит он, жестом показывая, чтобы Фальконе встал.
Фальконе отодвигает кресло и направляется за Кинничи. Тот останавливается перед своим кабинетом и открывает дверь, пропуская Фальконе вперед.
— Что, правда? — спрашивает Фальконе. — Мы уже до этого дошли?
Всем известно, что в суде полно завистников и более-менее тайных врагов, и также известно, что с приходом Фальконе обстановка тут сделалась совсем уж напряженной, но подозревать, что в кабинетах спрятаны жучки...
— Нет, что это тебе в голову пришло?
— Ну откуда мне знать, ты ничего не говоришь, ведешь меня в другой кабинет, я подумал, что...
— Это не другой кабинет, это не просто кабинет. Это кабинет советника, начальника Следственного отдела. А это знаешь что такое? — говорит он, указывая на свое кресло.
— Кресло начальника Следственного отдела?
— Кресло Чезаре Террановы. Сейчас он должен был бы сидеть здесь. Как прежде.
[3] В итальянской судебной системе магистрат — лицо, наделенное судебной властью, либо судья, либо общественный обвинитель.
[2] Алессандро Пертини — президент Италии с 1978 по 1985 год.
3
ЗАПИСКА
ПАЛЕРМО, 1979 ГОД
В Палермо странное сентябрьское утро. Жарко, но не слишком. Небо серое, но не слишком. С минуты на минуту пойдет дождь, а может, облака, прикрывшие голубое небо влажным налетом, расступятся перед солнцем. Пока еще ничего не решено.
Джованна открывает глаза. Видит, что Чезаре уже не спит, лежит, опершись спиной на изголовье. Она кладет голову ему на грудь. Слушает, как равномерно бьется его сердце. Удивляется, как он может быть таким спокойным.
— Тебе страшно? — спрашивает она в полузабытьи.
— Нет, — отвечает он, и Джованна окончательно просыпается. Она раздражена.
Почему ей страшно, а ему нет? Мафия высказалась однозначно. “Пентито” [4] Джузеппе Ди Кристина официально заявил, что босс Лучано Леджо, он же Лиджо, приговорил следователя Чезаре Терранову к смерти, а Чезаре тем не менее стремится возглавить Следственный отдел в Палермо. Хочет собрать вместе всех нужных людей и все нужные доказательства, чтобы отправить в тюрьму этих сволочей. И ведь Чезаре не притворяется, искренне говорит, что ему не страшно. Ровный ритм сердца тому свидетельство. Несколько дней назад он сказал Джованне, чтобы она не беспокоилась: “Мафия судей не убивает. Судьи делают свою работу, а мафия — свою, так оно всегда и было”. Только вот сегодня — наверное, потому что и солнце никак не выйдет, и дождь никак не решится полить, — Джованна больше ни в чем не уверена. И то, что муж не испытывает сомнений, ее не успокаивает, а выводит из равновесия.
— Мне сон приснился, — вдруг говорит Чезаре.
Он невидяще смотрит перед собой. Темные глаза у него, как у ребенка. Нисколько не изменились с тех пор, как он родился пятьдесят восемь лет назад в Петралие Соттане, деревушке, карабкающейся на горный хребет Мадоние, где зимой жители проваливаются в снег, а летом, спасаясь от жаркого солнца, ныряют в фонтаны.
— Паоло Борселлино, совсем молоденький. Он попал ко мне в суд за драку, которую он и другие правые студенты устроили с коммунистами.
— Но все ведь так и было.
— Да, конечно. (Они с Борселлино уже много раз смеялись над этой старой историей.)
Чезаре берет с тумбочки свои очки с толстыми стеклами и надевает. Теперь он больше не похож на ребенка.
— Только во сне Паоло протягивал мне записку.
Чезаре смеется. Голова Джованны подпрыгивает у него на груди.
— То есть он пытался положить листочек бумаги мне на стол, но полицейские ему не давали. Он настаивал, повторял “Записка! Записка!”, а его уводили прочь.
— И что это была за записка?
— Не знаю.
Чезаре почти никогда не врет своей жене. Но сейчас один из таких случаев. Уже второй за несколько дней.
С некоторым усилием он встает с кровати, надевает тапочки и шаркает в ванную. Он чувствует себя уставшим. В пятьдесят восемь лет у него на это, наверное, есть право. Во время Второй мировой войны он попал в плен в Африке, а после, едва вернувшись, начал другую войну, на сей раз без оружия, — уже в 1946-м работал в магистратуре, занимал должность мирового судьи в Мессине, потом стал судебным адъюнктом в Патти, следователем в Палермо и, наконец, прокурором в Марсале. Чего он только не повидал на своем веку. Практически в одиночку педантично и терпеливо вел дела против палермской мафии и излил потоки слов против “Анонимных убийц”, шестидесяти четырех злодеев под предводительством Лучанедду. Этот самый Лучанедду, Лучано Лиджо, и подписал год назад его смертный приговор. А Чезаре так испугался, что тут же заявил журналисту: “Я часто забываю револьвер дома, но мне не страшно. Я видел, как мафиози становятся на колени и плачут, Лиджо в том числе. Я играю в бридж. Я люблю карты и всегда играю на выигрыш. Лучано Лиджо... он тоже проиграет. Наша партия не закончилась, но мне не страшно”.
Чезаре так испугался, что повесил у себя в кабинете рисунок, подаренный ему другом, художником Бруно Карузо. На первом плане — Чезаре в галстуке и солнечных очках. За ним, точно его тень, — босс мафии. Каждый божий день Джованна спрашивает, не пора ли этот рисунок снять. Но Чезаре не считает его проявлением плохого вкуса. Напротив, ему нравится этот портрет, на котором за его спиной маячит тупая физиономия босса из Корлеоне — с пустыми рыбьими глазами.
А еще, исключительно с перепугу, он вставил фотографию Лиджо с надписью “С любовью, твой друг Лучанедду” в серебряную рамку, которую ему подарили коллеги. Всякий раз, бросив взгляд на эту фотографию, он смеется. Но это тяжелый смех, темным покровом он ложится на него, и так день за днем, покров за покровом, и он придавливает Чезаре. Но Чезаре не считает это страхом, это нечто другое. С тех пор как начался этот его флирт со смертью, ему кажется, что зима приходит раньше, а лето, наоборот, торопится ускользнуть, только поприветствует его — и пока-пока, и снова холод и темень.
Понятно, почему он шаркает, точно старик.
Чезаре выходит из ванной, Джованна разливает кофе по чашкам. На кухне обманчивый, будто подвешенный между зарей и сумерками, свет.
— Сегодня снова в бой? — спрашивает она мужа. В ее голосе сарказм.
Чезаре разводит руками. Он знает, что ему следовало бы довольствоваться своим положением: его назначили советником апелляционного суда, чтобы он смог вернуться к судебной деятельности, ведь он много лет не облачался в тогу. Поначалу он, честно говоря, особо по мантии не скучал. Все из-за неудачного процесса против “Анонимных убийц”: из 64 обвиняемых ровно 64 были оправданы, в том числе Лиджо и Риина. Впрочем, нет, Тото Риину осудили — за подделку водительских прав. В заключении суда было указано: “Приравнивание мафии к преступной группировке, на чем так долго настаивали дознаватели и что следственный судья доказывал, пустив в ход все свои способности к диалектическому мышлению, не имеет весомого значения для вынесения решения”. Только насмешек ему не хватало. Но Чезаре упрямо повторял, что не считает себя проигравшим. “Я их сфотографировал, — сказал он Джованне, вернувшись тогда домой с понурой головой. — В тюрьму они не отправятся, но я их сфотографировал. Раньше у них не было лиц, а теперь есть групповое фото. Кому-то другому оно пригодится”.
Тогда он избавил суд от своего присутствия и стал депутатом от Коммунистической партии. Войдя в комитет по борьбе с мафией, он не отказал себе в удовольствии в соавторстве с Пио Ла Торре [5] написать отчет, в котором представители Христианско-демократической партии, в том числе сенатор Джованни Джойя, бывший мэр Палермо Вито Чанчимино и депутат Сальво Лима, обвинялись в связях с мафией.
Но теперь ему не хватает мантии. Его упрямство цепляется за что-то, чего никто не понимает. Может, и он сам. Он хочет вернуться на фронт и снова расследовать дела.
Чезаре допивает кофе. Пока он завязывает шнурки, перед его глазами снова встает молодой Борселлино, протягивающий записку.
Он надевает пиджак и прислушивается к происходящему на кухне. Джованна открыла кран и моет чашки. Чезаре разувается и тихонько прокрадывается к шкафчику в гостиной. Открывает его ключом. Роется в папках с документами. Вот она, записка. О которой он соврал жене. Он закрывает дверь. Джованна теперь в спальне — полежит еще пятнадцать минуточек.
— Ты что, ботинки найти не можешь?
— Да, ну нет... Вот они.
Он улыбается, целует ее в лоб и выходит из комнаты. Открывает входную дверь и спускается по лестнице с четвертого этажа.
Старшина полиции Ленин Манкузо курит, поджидая его у подъезда. Да, так его и зовут — Ленин. Этот полицейский с резкими чертами лица, напоминающий актеров вестернов, сын отца, который точно знал, за кого голосовать, — его охранник. Был бы и водителем, только судья Терранова предпочитает рулить сам.
Чезаре приветственно похлопывает его по плечу. Они идут к синему “фиату 131 супермирафьори”, принадлежащему судье, садятся в машину, Чезаре включает заднюю передачу.
— Ну что, — спрашивает Манкузо, потирая руки, — сколько еще ждать, синьор судья?
Они знакомы больше двадцати лет, но Манкузо по-прежнему обращается к нему “синьор судья” и на “вы”.
— Как думаешь, мы им там, в Следственном отделе, вправим мозги?
— Э... Если Богу будет угодно.
— Я готов.
— Я знаю.
Ленин Манкузо — не просто его охранник. Он еще и отличный детектив, его чутье сыграло решающую роль осенью 1971-го, когда они с Террановой охотились на преступника, похитившего и убившего трех девочек. Знакомя Джованну с Ленином, Чезаре сказал, что это его ангел-хранитель. Так она и представляет их, лежа в постели с полуприкрытыми глазами, — судью и его ангела-хранителя в “фиате 131”. Во рту у нее еще чувствуется вкус первой за день чашки кофе.
— Но чего они ждут? Ведь приказ о назначении уже подписан?
— Да, конечно, — говорит Терранова, который между тем задним ходом уже почти доехал до угла с виа де Амичис.
— И чего?
— Э, это что за...
Чезаре жмет на тормоз, старшина вцепляется в сиденье. Дорогу “фиату 131” резко преграждают два автомобиля. Из них выскакивают трое — с пистолетами, у одного еще и винтовка. Думать тут не о чем, нет времени даже пальцем шевельнуть. Манкузо успевает выхватить из-за пояса служебную “беретту” и броситься всем телом на судью. Но пули повсюду. Чезаре чувствует на лице горячее дыхание своего ангела-хранителя, его тело трясется от пуль, словно ковер выбивают. Чезаре еще слышит, как старшина открывает окно и несколько раз стреляет, но все бесполезно. Невозможно защититься пистолетом от винтовки, особенно если ты попал в засаду.
Так вот она, смерть. Чезаре видит ее приближение. Правильно он над ней смеялся: смерть не страшная. Просто она чертовски глупа. У нее пустой взгляд деревенского дурачка. Как на портрете его друга-художника. Не вложи ей в руки винтовку, она, смерть, так бы и сидела днем и ночью у деревенского бара, жалуясь на жару и старческие хвори. Но винтовку ей вручили, и вот она стреляет и стреляет, не зная даже зачем, пока не заканчиваются пули.
Чезаре вспоминает, как он первый раз соврал Джованне, сказав, что мафия не убивает судей и каждый занимается своим делом. А может, и не соврал, ведь уже несколько лет дело мафии в том числе — убивать судей и полицейских. Но что касается записки, которая приснилась ему сегодня, это точно ложь. Он прекрасно знает, что там написано. Записка закрыта на ключ в книжном шкафу.
Недвижимого имущества у меня нет.
Что же до движимого имущества, я желаю, чтобы оно все полностью осталось в собственности Джованны. Я прошу Джованну заботиться о нашей маленькой библиотеке и сохранять в целостности литературные и исторические сочинения, имеющие определенную ценность, которые мы вместе собрали.
Я также хотел бы, чтобы Джованна по собственному усмотрению сделала пожертвование организациям по защите животных и природы.
Наконец, я желаю, чтобы Джованна, прежде всего, в память обо мне позаботилась о моей матери, — я желаю ей долгой, долгой жизни, — о моей матери, о которой я постоянно думаю, с нежностью и ностальгией вспоминая годы безмятежного детства и юности.
Вот о чем думает Чезаре — о своей прекрасной матери, которая его переживет, о безмятежной юности и о деревушке, карабкающейся на горный хребет Мадоние, где зимой жители проваливаются в снег, а летом, спасаясь от жаркого солнца, ныряют в фонтаны. Теперь, когда он лежит лицом вниз и очки соскользнули на кончик носа, глаза у него снова как у ребенка. Ребенка, заснувшего в объятиях ангела-хранителя.
Смерть, тупая и старательная, прощается с ним через окно автомобиля, стреляя в последний раз, а солнце теперь уже окончательно скрывается за облаками. И тут же начинается ливень.
[5] Лидер Коммунистической партии Италии, убитый мафией 30 апреля 1982 года.
[4] Мафиозо, перешедший на сторону полиции и сотрудничающий со следствием.
4
ДЛИННАЯ ЭСТАФЕТА
ПАЛЕРМО, 1982 ГОД
— В общем, отвечая на твой вопрос, сделаю я это или нет, попрошу ли я тебя сбавить обороты в расследовании деятельности банков, семей Спатола, Гамбино, корлеонцев, — да, надо бы. Меня об этом попросил начальник, человек, с которым я должен считаться каждый день до захода солнца, а часто и вечером. Но человек, с которым я должен считаться после захода солнца, а часто и поздней ночью, должен был бы сидеть в этом кресле вместо меня. Он так сильно к этому стремился, что его убили.
Вдруг дверь открывается. В кабинет просовывает голову усатый Паоло Борселлино.
— Мы что, сегодня не встречаемся?
— Конечно, встречаемся. Минуточку.
— Ребята тоже...
— Да, да, я понял. Можешь подождать минуточку? — Он жестом просит закрыть дверь.
— Слушаюсь.
Голова Борселлино исчезает, дверь закрывается. Из коридора доносятся громкие голоса других коллег, Ди Лелло и Гварнотты, они тоже ждут встречи. Эту традицию еженедельных встреч завел Кинничи. До его появления практика была такова, что каждый вел свое расследование, редко когда судьи обменивались информацией по различным делам — вернее, практически никогда. Впрочем, в этом не было никакой необходимости, учитывая, что, по мнению большинства, мафия не имела определенных рамок и рассматривалась как ряд совершенно не связанных между собой криминальных явлений без какой-либо иерархии, в то время как Кинничи уже несколько лет настаивал, что мафия имеет четкую структуру. Четверо крестьян, легкомысленно обращающихся с оружием, и несколько похитителей-рецидивистов — вот как воспринимали мафию. Но теперь...
Из коридора доносится смех.
— Нифига себе! Вы что, все время работаете? — слышится голос Айялы, и его шаги удаляются по коридору.
Стоя в кабинете, Фальконе и Кинничи внимательно смотрят друг на друга. Рокко оперся на письменный стол. За ними с портрета на стене наблюдает Сандро Пертини в квадратных очках..
— Я тебе это объясняю, потому что... — говорит Кинничи, разглаживая галстук, — я тебе это объясняю по двум причинам. Во-первых, — он поднимает большой палец, — я не хочу, чтобы ты думал, будто здесь все делают что им угодно или что я не уважаю вышестоящих. Я всей душой верю в иерархию и порядок. Ты понимаешь, что я хочу сказать?
Джованни кивает, но смотрит с некоторым сомнением. Он пытается понять, куда гнет Рокко.
— Но я прежде всего отвечаю не перед властью, а перед своей совестью. Пиццилло не коррупционер, просто он немного... засиделся. Он консервативный, вот точное слово, немного слишком консервативный.
Джованни поднимает брови. Он не убежден.
— Во-вторых, ты понимаешь, почему я вас заставляю работать в команде? Почему мы встречаемся по крайней мере раз в неделю, передаем друг другу папки? Ты это знаешь?
— Потому что все эти дела связаны между собой, постоянно попадаются те же имена, есть четкая система...
— Да, конечно, — говорит Рокко, махнув рукой, — но есть и другая причина, более тайная.
Он подмигивает Фальконе, указывая на кресло. Фальконе садится, и Рокко тоже, опершись локтями на письменный стол.
— Мафия изменилась, Джованни. Их больше не смущает... мы же это знаем, да?
Кинничи сжимает ручки кресла. На миг у Фальконе холодеет кровь в жилах при виде этих вцепившихся в мягкую кожу пальцев. Он видит перед собой человека, которого живым положили в гроб. И правда, это кресло — словно тщательно выбранный гроб. Цвет, дерево, отделка...
Джованни пытается изгнать этот образ.
— Я много, много недель объяснял жене и детям, что для меня важна эта должность, — говорит Кинничи, снова сжимая черные кожаные ручки кресла, — что я к ней всю жизнь стремился и не могу отказаться. Они прекрасно знают, что случилось с... Они всё знают. Но я им сказал, что волноваться не о чем. Что теперь следователи ездят с полицейским эскортом, я езжу с эскортом. И волноваться особо не о чем. Но нам ведь нужно быть реалистами. Я об этом много думал после смерти Чезаре. Важно, чтобы в случае, если кто-нибудь из нас падет, если кого-нибудь из нас...
— Да, да, я понял, — прерывает его Фальконе.
Сегодня лицо Рокко бледнее обычного, под глазами синяки. Джованни больше не может выносить образ, который впечатался ему в мозг.
— Так вот. В таком случае информация, которую каждый из нас собрал, не должна потеряться. Если погибнет один из нас, расследование не погибнет. Если погибнет один из нас, мы будем знать, что он оставил свидетелей.
Свет, падающий из окна, отражается в глазах Рокко, которые словно покрылись блестящей глазурью. Он откидывается на спинку кресла, погружается в мягкую черную обивку, будто в гроб ложится, и снова принимается разглаживать галстук.
— Значит, ты не только можешь, но должен продолжать расследование. А потом рассказывать остальным — Паоло, Джузеппе, Леонардо — то, что ты...
— Да, Рокко, все понятно.
Джованни резко встает. Ему не хватает воздуха. Он едва ли не бегом выходит из кабинета, его зовут коллеги, собравшиеся в коридоре. Но он ничего не слышит, лишь чувствует нож у горла. Холодное, хорошо наточенное лезвие у сонной артерии.
5
ЗАЛОЖНИК
ФАВИНЬЯНА, 1976 ГОД
— Вы меня надуть хотите... Я его убью! Убью!
Джованни Фальконе привязан к стулу в комнате для свиданий в тюрьме Фавиньяна, к его горлу приставлен нож. За спиной у него стоит Винченцо Олива, во взгляде его безумие, ему двадцать девять лет, и он приговорен к тридцати годам заключения за убийство. Огромная татуировка покрывает всю его шею и плечи.
— Я его убью!
Директор тюрьмы держится у порога. Он не сомневается, что заключенный — в этой тюрьме его хорошо знают, его переводили в другую, а потом вернули сюда после драки с сокамерниками — говорит серьезно. Олива, заявляющий, что он входит в ячейку вооруженных пролетариев, сидит в тюрьме за убийство работника автозаправки Оттавио Перроне, произошедшее 9 мая 1964 года в Сан-Ремо в ходе ограбления, которое принесло Оливе тридцать тысяч лир. Столько, по его мнению, стоит человеческая жизнь.
Дело настолько серьезное, что рядом с директором исправительного заведения стоят прокурор Республики Джузеппе Люмия, прибывший на место, едва ему сообщили о произошедшем, и Кристофоро Дженна, председатель суда Трапани. Но Олива отказывается вести с ними переговоры. Он потребовал, чтобы в комнату никто не входил, иначе он убьет инспектора. Он предпочитает разговаривать с двумя заключенными, которые выполняют роль посредников, — сардским бандитом Пеппино Песом и Санте Нотарниколой из Апулии, тот правая рука Пьетро Каваллеро, босса банды грабителей, которые девять лет назад держали в страхе Пьемонт и Ломбардию.
— Где телевидение? А? Вы меня за мудака держите? — орет Олива.
У Джованни Фальконе волосы прилипли ко лбу. Он потеет, хотя уже конец октября, но непохоже, что он напуган. Напряжен, это да. Да и кто бы не напрягся, если бы ему сжимали горло, касаясь сонной артерии кончиком ножа?
— Где газеты? Радио? Вы меня наебать хотите?
— Нет, нет, — пытается успокоить его директор тюрьмы, — скоро они будут.
Он поворачивается к прокурору, тот кивает:
— Они скоро будут, они уже на корабле.
Отчасти это правда. Несколько человек находятся на катере, который причалит к острову Фавиньяна, где карабинеры и полиция организовали блокпосты. Пока еще неясно, правда ли журналисты попадут в тюрьму, но они в пути. Ситуация меняется каждую минуту и может выйти из-под контроля.
Пес и Нотарникола тоже возбуждены. Из камер доносятся голоса других заключенных, которые подстрекают Оливу, понося начальников. Вот-вот начнется бунт.
Тюремный инспектор Джованни Фальконе прибыл в тюрьму около полудня с еженедельным визитом. Олива вместе с другими заключенными ждал в коридоре у комнаты свиданий. Как только Фальконе вошел в комнату, Олива напал на него, приставив нож к горлу, привязал к стулу и забаррикадировался, требуя, чтобы его перевели в тюрьму Турина вместе с сестрой, потому что, по его словам, в тюрьме Фавиньяна его хотят прикончить. И такое действительно не исключено, учитывая, что в прошлом он постоянно затевал драки. Он требует также, чтобы ему предоставили возможность зачитать на радио и телевидении политическое заявление, которое заканчивается просьбой перевести его в туринскую тюрьму.
Вдруг двое карабинеров подводят к комнате свиданий запыхавшегося мужчину в темном костюме. Это адвокат Сальваторе Чаравино, известный тем, что, совместно с организацией крайне левых “Красная помощь”, защищал некоторых террористов. Взгляд у него обнадеживающий. Он сразу просовывает голову в дверь. Олива сжимает рукой горло Фальконе, и тот кашляет.
— Спокойно, спокойно, — говорит адвокат. — Я Сальваторе Чаравино, я здесь ради вас. Я уже...
— Да, да, — бубнит Олива, — я знаю, кто ты.
— Хорошо. Тогда можем мы на минуточку успокоиться? Все хорошо.
Фальконе озадаченно смотрит на него.
— Все будет хорошо, — поправляется Чаравино.
— Где телевидение?
Чаравино очень осторожно делает полшага в комнату.
— Скоро будут журналисты с радио. С телевидением сложнее, нужно больше времени.
— Вы меня наебываете!
— Нет, нет... В это время никто не смотрит телевизор, а радио в прямом эфире услышат все, даже те, кто за рулем.
Хоть адвокат и врет, в его словах есть доля правды. Олива забаррикадировался в комнате больше четырех часов назад. Все уже измотаны. Фальконе медленно поднимает руку и вытирает лоб.
Проходит еще час бесплодных переговоров с криками и угрозами перерезать горло заложнику. Потом адвокат Чаравино возвращается в комнату свиданий с телефоном, подсоединенным к розетке в коридоре, за ним тянется длинный провод.
— Можете поговорить с редактором АНСА [6].
— Но что это, блядь... — Олива выпучивает глаза. — Что это, блядь, значит? Я просил радио и телевидение. Что вы тут затеяли?
— АНСА — это информационное агентство, которое готовит новости для всех газет, телевидения и радио. Это лучшее, что мы можем сделать.
— Но я не этого просил! — взрывается заключенный. — Я хочу РАИ [7]. Вы поняли?
— Это невозможно, — отвечает Чаравино. — Послушайте меня, Олива. Можно? — Он прижимает телефонную трубку к груди и подходит к нему маленькими шажками, демонстрируя другую руку. — Вот лучшие условия, на которые мы можем надеяться. Уже подписанный приказ на перевод в тюрьму Турина, и ваше обращение передадут по радио.
Олива не убежден.
— А откуда я узнаю, что его зачитают по радио?
— Вы сами послушаете передачу.
Заключенный несколько мгновений колеблется, а потом хватает трубку.
— Кто говорит? У меня нет... Да, хорошо. Можно начинать?
Только тут он понимает, что не сможет зачитывать свое обращение, сжимая одной рукой шею инспектора, а другой держа трубку.
— Закрой дверь, — приказывает Олива адвокату. — Выйди!
Чаравино выходит и закрывает за собой дверь. Олива убирает руку от горла Фальконе, но продолжает держать нож. Зажимает телефонную трубку между плечом и подбородком. Левой рукой достает из кармана листок бумаги, разворачивает и начинает читать.
— Сегодня боевой анархо-индивидуалист... — он прокашливается, — сегодня боевой анархо-индивидуалист, входящий в ячейку вооруженных пролетариев, отвечая на жестокие репрессии со стороны государства, направленные на физическое устранение бойца в буржуазной тюрьме, намерен по-революционному ответить на данные тяжелейшие провокации, похитив инспектора тюрьмы Фавиньяна...
Заложник терпеливо слушает его минут десять, время от времени закрывая глаза или поднимая их к потолку.
— ...На малейшие репрессии он ответит по-революционному...
Тольку через пару часов Олива считает, что ему предоставили достаточные гарантии. А конкретно, когда приходит приказ о переводе в тюрьму Турина. Тогда Олива передает нож адвокату Чаравино. Джованни Фальконе может облегченно вздохнуть и встать со стула.
— Как ты? — подходит к нему судья Дженна. — Все в порядке?
— Бывало и лучше, но жаловаться не на что.
Дженна кладет ему руку на плечо.
— И кто расскажет Рите, если с тобой что-нибудь случится?
Когда Фальконе перевелся в Трапани из Лентини, где он был мировым судьей, у них сложились хорошие отношения. Председатель суда часто бывает дома у Фальконе, где Рита демонстрирует свои кулинарные способности. В доме Фальконе всегда шумно. Рита любит приглашать лучших людей Трапани, у которых множество тем для разговора и столько же мнений, и Джованни тоже не прочь преодолеть свою сдержанность, проделать брешь в щите, которым он, отчасти потому что у него такой характер, отчасти по необходимости, закрывается от мира.
Туда-то, в Трапани, Фальконе и должен сейчас вернуться. Так что он направляется к выходу из тюрьмы. Дойдет до пристани и потом наконец-то катер отвезет его домой, где он встретится с Ритой. Она, конечно, очень переживает, учитывая, что новость о его похищении за несколько минут облетела остров. Ей попробовали позвонить домой, сообщить, что все хорошо закончилось, но трубку никто не брал.
На пристани Джованни понимает почему. Его ждет куча друзей, и среди них Рита, которая сразу бежит обнять его. Сегодня дома у Фальконе будет праздник.
[7] RAI (Radiotelevisione italiana) — итальянская радиотелевещательная компания.
[6] ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) — итальянское национальное информационное агентство.
6
СУД МЕРТВЫХ
ПАЛЕРМО, 1982 ГОД
Странно снова, шесть лет спустя, чувствовать холод лезвия, прижатого к горлу. На этот раз никто ему ножом не угрожает. Но ощущения почти не отличаются. Фальконе откидывается на спинку кресла, поднимает глаза к потолку. От начальника “притона” его отделяет немного бетона и несколько досок. Может быть, если прислушаться, он даже различит его шаги.
Почему Пиццилло решил возвысить голос именно сейчас? Эта история продолжается уже как минимум пару лет — ведется финансовая проверка счетов и сберегательных книжек, у директоров банков постоянно запрашивают документацию. Очень часто от этих запросов не то чтобы уклоняются, но игнорируют их, отписываются при помощи адвокатов, затягивают дело до тех пор, пока следователи лично не идут в отделения банков, и такое уже не раз бывало, чтобы освежить память слишком занятым директорам.
Единственное объяснение — он выбрал правильный путь. Расследование дошло до точки, и эта точка белым воротничкам не нравится. Они в этой точке оказываются под давлением. Поэтому реагируют быстро и конкретно, пытаясь перенести хотя бы часть этого давления на генпрокурора. А он, в свою очередь, отыгрывается на подчиненных.
Документы по делу братьев Розарио и Винченцо Спатола попали в руки Фальконе два года назад, и он сразу же понял, как — в особенности первый из них — важен для местной экономики. Розарио, с семидесятых годов один из крупнейших сицилийских налогоплательщиков. И подумать только, что свою предпринимательскую карьеру он начал после войны, еще парнишкой, когда стал разносчиком молока в Удиторе, своем квартале. Тогда-то и возникли первые трения с законом: Розарио Спатола разбавил водой партию молока, предназначавшуюся для продажи на черном рынке. Так сказать, многообещающий молодой человек. Сегодня Розарио Спатола — один из самых влиятельных застройщиков во всей Сицилии: в его компании работают четыреста человек, а он сам постоянно перемещается между Палермо и Соединенными Штатами.
Кроме того, Спатола (носит парик, темный пиджак, элегантные галстуки) — постоянный посетитель прокуратуры Палермо, уже с конца семидесятых следователи пытаются пролить свет на его деятельность, добыть хоть крупицу правды, получить от него хоть малейшее признание. Его родственники и деловые партнеры прекрасно известны по обе стороны океана. Их зовут Гамбино, Ди Маджо, Индзерилло, Бонтате, Мангано, у них итало-американские имена, такие как Джон Иджитто, Джеральд Кастальдо, Ричард Чефалу, и прозвища — например, Фрэнки-бой. Всего несколько месяцев назад Спатола организовал прием по случаю выборов в честь министра обороны Аттилио Руффини от Христианско-демократической партии, призывая всех присутствующих “голосовать и заставлять голосовать за нашего друга на европейских выборах”.
Но сейчас эта история рискует отойти на второй план. Имя Розарио Спатолы прочно связано с именем банкира Микеле Синдоны. Журнал “Тайм” назвал его “самым успешным итальянцем после Муссолини”, председатель Совета министров Джулио Андреотти — “спасителем лиры”, а американский посол Джон Вольпе — “человеком года”, при этом его имя встречается в том же деле, что и имя Спатолы. Это если не считать лжеограбления, которое он, кажется, инсценировал после того, как его “Фрэнклин Бэнк” признали неплатежеспособным из-за преднамеренного банкротства. Благодаря Синдоне, хорошему знакомому Папы Пия VI и владельцу частного банка, с которым в 1969-м вступил в ассоциацию Банк Ватикана, семейства Бонтате, Спатола и Индзерилло вложили “грязные” деньги в компании по финансам и недвижимости путем цепочки операций во Флориде и на острове Аруба.
Процесс братьев Спатола — настоящая банка с червяками, это запутаннейшая сеть имен, мафиозных кланов и масонских лож, которые берут начало на Сицилии, но простираются очень далеко, и одно ясно сразу: кто туда влезет — погибнет. Это случилось с Джорджо Амбросоли, уполномоченным по ликвидации компании, который расследовал финансовую деятельность Синдоны, и с прокурором Гаэтано Костой. На креслах в суде Палермо можно крестики ставить, отмечая тех, кто погиб, едва успев занять их. Есть суд живых, которые пытаются — сбиваясь и путаясь, в кругу виртуозных, все забывающих волокитчиков — вершить правосудие. И есть суд мертвых, которые этого правосудия еще не добились.
