автордың кітабын онлайн тегін оқу Моя мать прокляла мое имя
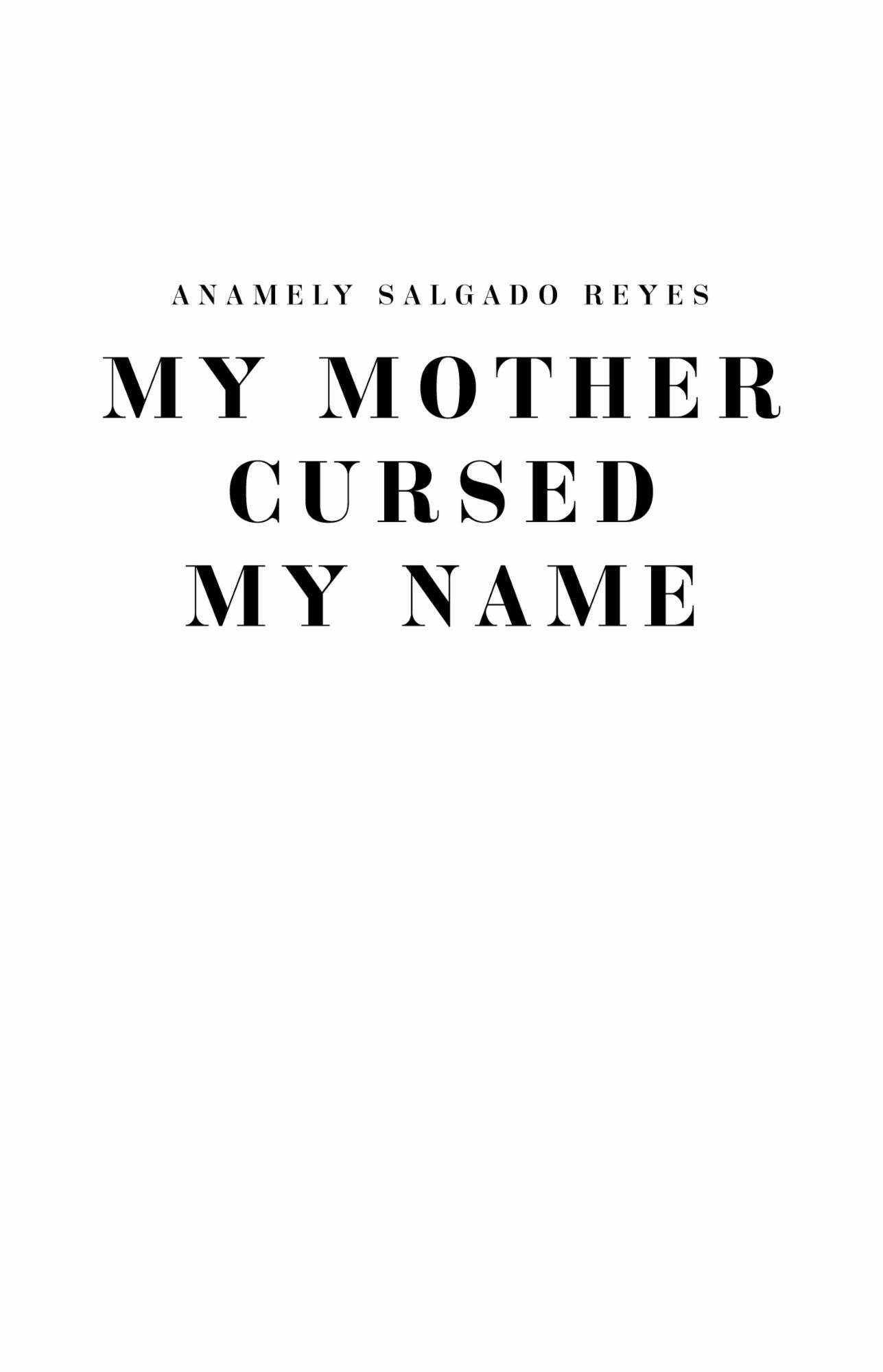
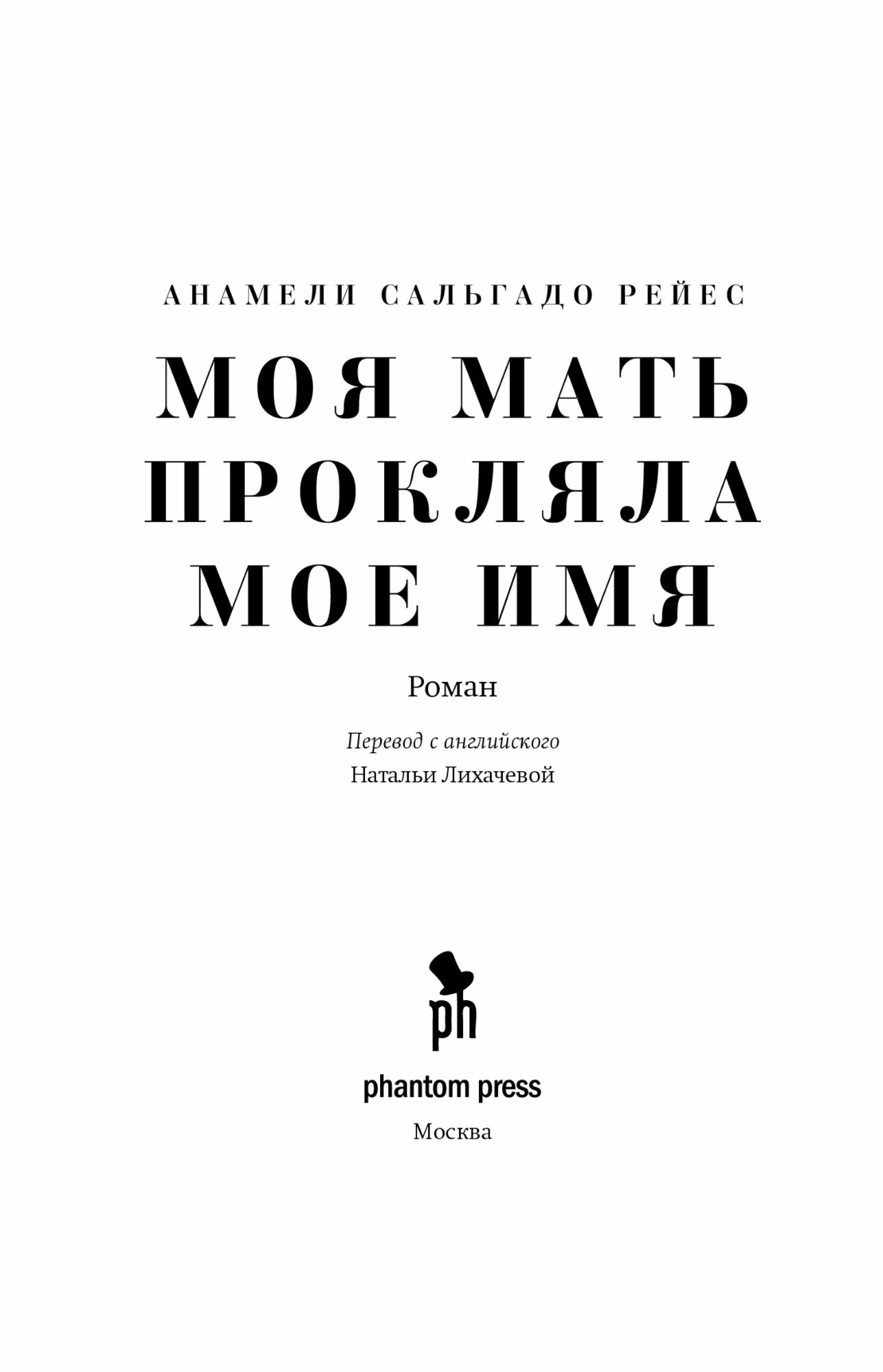
Маме, благословившей мое имя
часть первая
Глава 1
Ангустиас
На протяжении нескольких поколений женщины из рода Оливарес пытались изменить ход судьбы с помощью имен. Все они славились упрямством, однако явно недооценивали, насколько эта же черта присуща судьбе. В результате ни одна попытка не увенчалась успехом и женщины Оливарес так и не смогли управлять ни своей жизнью, ни, что самое важное, жизнью своих дочерей.
А началось все 18 июня 1917 года, когда Хуста[1] Оливарес, женщина жестокая и несправедливая, решила назвать новорожденную дочь Каламидадес[2]. Хуста рассудила, что поскольку жизнь была немилосердна к ней, то и дочери незачем жить лучше. Ничего дурного в своем выборе она не усматривала. Напротив, Хуста убедила себя, что это настоящий подарок, ведь в несчастьях можно обрести мудрость и стойкость, если приложить достаточно усилий, чтобы видеть в них не только боль.
В жизни Каламидадес Оливарес не случилось ни одного несчастья, за исключением ночи, когда она родилась, а мать умерла, держа на руках спящую дочь. На следующий день ее богатая и одинокая тетушка по имени Дария удочерила Каламидадес, а позже сделала своей единственной наследницей. Поскольку Дария дала племяннице кров, мудрость и любовь — три составляющие, необходимые для того, чтобы сердце не ожесточилось, — девочка выросла без обиды на мать и выбранное ею имя. Каламидадес полагала, что Хуста была права. Несчастья могут быть подарком, просто она такого никогда не получала.
Судьба позаботилась, чтобы беды обошли Каламидадес стороной. Когда на северо-восток Мексики обрушился ураган, ее родной прибрежный город Матаморос ни капли не пострадал. Десять лет спустя, когда регион накрыла пятилетняя засуха, раз в месяц именно над домом Каламидадес обязательно шел дождь. Через шесть лет после окончания засухи регион пережил нашествие смертельно опасных ос, но если бы вы спросили жителей Матамороса, как выглядят эти ужасные насекомые, они не смогли бы ответить. Осиный рой пронесся прямо над городской чертой, не оставив ни жертв, ни следов этой напасти.
В возрасте двадцати шести лет Каламидадес родила прекрасную дочь, которую доктор провозгласил самым здоровым ребенком из всех, кого ему довелось принимать. Каламидадес назвала девочку Викторией, чтобы та могла одерживать победу в любом начинании. Пребывая в уверенности, что дочь здорова, в безопасности и ей на роду написано побеждать, Каламидадес мирно скончалась во сне в свой тридцатый день рождения.
Виктория Оливарес оказалась неспособна добиться успеха ни в чем, за что бы ни бралась, и, чем выше были ставки, тем печальнее последствия. Она проваливала почти все экзамены в школе, оказывалась лишней, когда на детской площадке формировали команды, ни разу не выиграла в damas chinas[3] у двоюродной бабушки Дарии, с которой прожила десять лет, пока та не скончалась от старости. Сколько бы усилий она ни прикладывала — а усилий было немало, учитывая, как пострадал ее дух под гнетом жизненных обстоятельств, — Виктория раз за разом терпела неудачу. В пять лет она решила полетать, упала и сломала руку в трех местах. В пятнадцать впервые готовила себе обед и спалила дом. А в восемнадцать пристрастилась к азартным играм и до последнего цента просадила наследство, доставшееся от двоюродной бабушки.
Из-за того что Виктория так плохо училась в школе, она не смогла найти работу с приличной зарплатой, которая покрывала бы ее долги. Она начала занимать деньги под проценты, что стало спасательным кругом, но когда осознала, что в конце концов это ее и погубит, решила воспользоваться помощью Небес.
Пытаясь изменить судьбу, Виктория назвала свою дочь Ольвидо, в честь Nuestra Señora del Olvido — Девы Марии Забвения, надеясь, что все ее грехи, а самое главное, долги будут прощены и забыты. Но ничего подобного не произошло, и Ольвидо была вынуждена эмигрировать в Америку, спасаясь от ростовщиков, требующих все больше денег даже после смерти Виктории.
Неся на себе бремя ошибок матери, Ольвидо выросла женщиной суровой и злопамятной. Она не прощала и не забывала любую несправедливость, материнский эгоизм, неблагоразумные поступки мужа, а позже и промахи дочери. Единственной ошибкой, с которой Ольвидо научилась мириться, стало неправильное произношение ее имени американцами.
— Ол-вии-до, — пытались выговорить посетители закусочной, в которой она работала официанткой. — Очень красиво. А что это означает?
— Забвение.
Посетители обменивались удивленными взглядами и хихикали:
— Не может быть, чтобы это было настоящее имя.
— Очень даже может, — уверяла их Ольвидо, похлопывая по именному бейджу. — Поезжайте в Мексику, еще и не такое услышите. Вам тортильи из кукурузной или пшеничной муки?
Чтоб дочь не стала такой же безрассудной, как Виктория Оливарес, Ольвидо назвала малышку Ангустиас[4]. Она надеялась, что постоянное состояние тревоги заставит дочь думать, прежде чем действовать, и предотвратит новые несчастья в семье, однако произошло обратное. Ангустиас Оливарес росла веселой и беззаботной. В свой первый день в детском саду, когда другие новички рыдали, переживая из-за перспективы расстаться с родителями, Ангустиас утешала мать и уверяла, что с ней все будет хорошо. В то время как соседские дети дрожали от страха перед надвигающимся ураганом и наперебой рассказывали, как их родители накупили горы еды и заколотили дома, чтобы пережить конец света, Ангустиас играла на улице до тех пор, пока ветер не начинал сбивать ее с ног. В тот вечер, когда девочка впервые столкнулась с ураганом, Ольвидо пришлось затащить брыкающуюся и орущую Ангустиас в дом и заклеить дверные замки скотчем, чтобы та не сбежала.
В школу Ангустиас всегда приходила за минуту до начала уроков, к экзаменам готовилась в последний момент, перед учителями извинялась тоже в последний момент, чудом избегая взбучки в кабинете директора, но при этом никогда не испытывала ни тени беспокойства. Это чувство было абсолютно незнакомо Ангустиас, потому, когда ей исполнилось шестнадцать и она обнаружила, что беременна, радости ее не было предела. Ну а Ольвидо чуть не сгорела со стыда.
Имя следующей представительницы рода Оливарес появилось благодаря божественному вмешательству. Ангустиас сидела на пассажирском сиденье в машине своего парня и взахлеб рассказывала о фильме, на который они собирались пойти, как вдруг ей ужасно захотелось чего-нибудь кисленького: маринованных огурчиков, мармеладных червячков или лимонада. Она приказала другу остановить машину и развернуться — они проехали заправку несколько миль назад. Парень отказался под предлогом, что они опоздают в кино.
Ангустиас в бешенстве повернулась и потянула ручку дверцы на себя. Толкать дверь она не стала, но всем своим видом продемонстрировала серьезность намерений. Желание съесть чего-нибудь кислого становилось нестерпимым, так что она пригрозила выпрыгнуть из машины и пешком дойти до заправки, если он немедленно ее туда не отвезет.
— No quieres que tu hija salga con cara de pepinillo, ¿verdad?[5] — сердито спросила она.
Парень уставился на нее в недоумении. Он неплохо понимал испанский, но смысл мексиканских выражений обычно оставался для него загадкой.
— Если не утолять свои желания во время беременности, ребенок родится похожим на ту еду, которую тебе хотелось, — объяснила Ангустиас.
Друг сморщил нос:
— Ерунда какая-то.
— Вовсе нет, — возразила Ангустиас. Конечно, мексиканские народные приметы иногда звучали глупо, но они несли в себе мудрость сотен поколений. А с мудростью сотен поколений не поспоришь, если только ты не тупой и не безрассудный. Ангустиас можно было назвать безрассудной, но точно не тупой.
— Ну, допустим, тебе захочется манго.
— У ребенка будет желтуха.
Парень хихикнул.
— Это не смешно. Это, — Ангустиас ткнула пальцем в живот, давая понять, что речь идет и о ребенке, и о ее аппетите, — очень серьезно.
— Значит, если ты считаешь, что малышка будет похожа на огурец, у нее будут... прыщи?
— Возможно. А если над ней будут издеваться из-за этого? Ты сможешь с этим жить?
Парень закатил глаза, но все же помотал головой.
Один запрещенный поворот и десять долларов спустя Ангустиас наконец стала обладательницей кислых лакомств. Успокоившись, она смогла более вдумчиво поразмышлять над своим внезапным желанием. “Может быть, все не так буквально”, — сказала она, отхлебывая лимонад. И тут ее осенило, причем столь же внезапно. Ангустиас ахнула от ужаса, а ее парень в изумлении вильнул влево и чуть было не врезался во встречный автомобиль.
Мироздание, или бог, или кто там отвечает за подобные знаки, сообщал Ангустиас, что ее дочь будет вечно недовольной и неприветливой особой, причем весьма неприветливой, учитывая обстоятельства. Ангустиас не желала мириться с тем, что такое ужасное предзнаменование может сбыться, и тут же решила, что назовет дочь Фелиситас[6].
Несмотря на знак свыше, Фелиситас Оливарес не стала угрюмым ребенком. Однако родилась она с кислым выражением лица. Увидев ее, акушерка сразу почувствовала осуждение и подумала, что, быть может, малышка вовсе не собиралась появляться на свет именно сейчас. Купая и пеленая Фелиситас, медсестры испытывали сомнения в правильности своих действий. Иначе почему ребенок выглядит таким расстроенным? Одна из них даже дала себе зарок хорошенько подумать, прежде чем заводить детей. Если ей настолько не по себе от недовольства чужого ребенка, как же она выдержит неодобрение собственного?
Теперь как минимум трижды в день Ангустиас приходится тереть лоб дочери, напоминая ей о необходимости перестать хмуриться.
— Ты станешь первой десятилетней девочкой в мире, у которой появятся морщины, — говорит она Фелиситас, отправляя ее утром в школу. Приподнимается, тянет руку через кухонный стол и разглаживает складочку между бровями.
— Ничего страшного. — Фелиситас отмахивается от ее руки. — Морщины — признак мудрости.
— Откуда ты знаешь? — удивляется Ангустиас. Не обращая внимания на протесты дочери, она тщательно проводит большим пальцем по бровям девочки. Как только Ангустиас садится обратно, дочь снова хмурится. Но это не повод для серьезного беспокойства. Утренняя хмурость Фелиситас не более чем скверная привычка, а вовсе не признак гнева. Ангустиас может судить об этом по бледно-желтому облаку над макушкой дочери. Более теплый тон был бы идеальным, но сейчас утро и ей надо идти в школу. Любой оттенок желтого можно считать благословением.
— Abuelita[7] Ольвидо очень мудрая женщина, — объясняет Фелиситас. — По крайней мере, так она утверждает, а лицо у нее сморщенное, как чернослив. Автобус пришел. Мне пора.
Фелиситас ставит грязную посуду в раковину, целует мать в щеку и выбегает из квартиры, оставив дверь широко открытой. Обычно Ангустиас кричит дочери вслед, чтобы та закрыла дверь, и желает хорошего дня, но сегодня что-то не так, что-то, чему Ангустиас не находит объяснения. Внутри прорастает маленькое семя беспокойства. Листочки прижимаются к ее нутру, ей кажется, что ее вот-вот стошнит. Она нюхает остатки молока в миске с хлопьями. Обычный запах. Это точно не отравление.
Ангустиас сидит на кухне и смотрит, как Фелиситас бежит к школьному автобусу, остановившемуся на противоположной стороне улицы. Она не меняет позы даже после того, как улица пустеет и ей остается лишь наблюдать, как сосед поливает растения. Он машет Ангустиас. Она безучастно смотрит в ответ.
Звук хлопнувшей двери возвращает Ангустиас к реальности, но лишь на мгновение. Она относит пустую тарелку в раковину и моет посуду, не переставая задаваться вопросом, откуда Фелиситас может знать, как выглядит ее бабушка. Последний раз Фелиситас видела Ольвидо, когда ей был месяц. Единственный образ бабушки, который может храниться в памяти девочки, — это старая фотография, сделанная в первый день рождения Ангустиас. Ольвидо тогда было тридцать шесть. Ни одной морщинки на лице.
Возможно, она неверно истолковала оттенок над головой Фелиситас и приняла жемчужно-белое безразличие за бледно-желтый предвестник радости. Значит, теперь Фелиситас относится к своей бабушке с безразличием? Что ж, безразличие — это хорошо, гораздо лучше, чем обида. А что еще там было, по краям облака? Переход цвета настолько плавный, что Ангустиас не может быть уверена, но, кажется, она заметила озорные красно-оранжевые всполохи, когда Фелиситас упомянула внешность Ольвидо. Вероятно, это была шутка. Фелиситас не может знать, как выглядит бабушка, поэтому забавно, что она представляет ее лицо “сморщенным, как чернослив”.
В мысли Ангустиас вновь врезается посторонний звук, на этот раз пронзительный звонок мобильного телефона. Она благодарна за возможность отвлечься и с радостью отвечает, даже не проверив, кто звонит. Достаточно всего нескольких слов, чтобы от радости не осталось и следа.
— Ох, — выдыхает она, и рука ее взметается к дрожащим губам. — Да, да, я здесь. Я... я поняла.
С каждой жгучей слезой, катящейся по щекам, Ангустиас желает одного: чтобы этого момента не было. Она мечтает повернуть время вспять. Приказать себе не отвечать на звонок, не просыпаться, притвориться, что ничего не слышит. Но Ангустиас взяла трубку и услышала ужасную новость, от которой упала на колени и рыдает от боли. Она рыдает, пока рядом с ней не образуется целая лужа. Лужа превращается в пруд, пруд — в озеро. Просто чудо, что она вдруг перестает рыдать. Еще три слезинки — и она затопила бы всю округу.
Ангустиас остается на полу еще пятнадцать минут, хотя ей кажется, что пятнадцать часов. Как только одежда впитывает все ее горе до последней капли и слезы перестают течь, она встает, идет в спальню, делает несколько звонков, отправляет несколько электронных писем и собирает все свои вещи и вещи Фелиситас. Потом проходит по кухне и гостиной, пакует оставшееся и относит шесть коробок, два чемодана и увядающее растение к своей старой, но надежной зеленой машине.
Она уезжает и по пути останавливается лишь дважды: чтобы отдать ключи от квартиры взбешенному и одновременно растерянному хозяину и забрать Фелиситас из школы. К тому моменту, когда Ангустиас оказывается на площадке, где стоит Фелиситас с черным рюкзаком и стопкой библиотечных книг, слезы, пропитавшие ее одежду, высыхают. А печаль, поселившаяся в сердце, остается.
— Что происходит? — спрашивает Фелиситас, пристегивая ремень.
Ангустиас ободряюще ей улыбается и, прежде чем тронуться с места, устремляет взгляд в зеркало заднего вида. За ее спиной скрывается опасность. На заднем сиденье нетерпеливо ерзает угроза ее душевному спокойствию, причина ее сердечной боли, но она невидима для глаз Ангустиас. С притворной невозмутимостью Ангустиас посылает прощальный воздушный поцелуй и жмет на газ.
[3] Китайские шашки, вариант логической игры “уголки”.
[2] Calamidades — беды, несчастья (исп.).
[5] Ты же не хочешь, чтобы твоя дочь была похожа на огурец, правда? (исп.)
[4] Angustias — тревоги, страдания (исп.).
[1] Justa — испанский вариант латинского имени Justine (Юстина), означающего “справедливая”. — Здесь и далее примеч. перев.
[7] Бабушка (исп.).
[6] Felicitas — удача, счастье, радость (лат.).
Глава 2
Фелиситас
“А ты не могла подождать, пока закончится урок? — возмущается Фелиситас, сердито глядя на Ангустиас. В отличие от мамы, которую так раздражает ее хмурость, сама она считает, что у кислой физиономии есть как минимум три преимущества. Во-первых, риск, что ее похитят, гораздо ниже. Похитители предпочитают милых наивных детишек, а этими словами уж точно не опишешь девочку с таким нахмуренным лбом, как у нее. Мне хорошо известно, что не так с этим миром. Опасность я чую за милю, сообщает всем выражение лица Фелиситас. Во-вторых, она легко выиграет конкурс по поеданию кислых конфет. Никто не заметит, как тебе неприятно, если у тебя и без того недовольный вид. Ну и в-третьих, ей не составляет труда демонстрировать маме серьезность своих намерений. Когда другие дети надувают губы — очаровательная гримаса, которая никого не впечатляет, — Фелиситас хмурится, причем делает это по-настоящему, по-взрослому.
— Тебе же не нравится в школе, — небрежно говорит Ангустиас.
— Нравится, когда мы смотрим фильмы по моим любимым книгам. — Фелиситас хмурится еще сильнее.
— Ну да, — Ангустиас бросает взгляд на дочь, — точно. Сегодня был день “Вечного Тука”[8]. (Фелиситас кивает.) Я понимаю, прости. (Выражение лица Фелиситас смягчается.) Знаешь что? Когда это путешествие закончится, мы устроим киновечер. Экран будет поменьше, но, по крайней мере, тебе не придется сидеть за партой на жестком стуле.
— Путешествие? — Фелиситас разворачивается, забирается коленками на сиденье и смотрит поверх подголовника. Сзади лежит большой синий чемодан с дыркой, заклеенной серым скотчем, а на нем черный чемодан поменьше с болтающимся сбоку брелоком в виде летучей мыши. Зубцы молний крепко прижимаются друг к другу, изо всех сил стараясь не уступить одежде, готовой вот-вот вырваться наружу. Сверху водружен Пепе, их увядающий дьявольский плющ, ремень безопасности обмотан вокруг керамического горшка. Ну а за водительским сиденьем еще и эта надоедливая незваная гостья.
Фелиситас садится обратно и поправляет ремень безопасности. Она вновь хмурит брови.
— Многовато вещей для выходных.
— Мы уезжаем не на выходные, — говорит Ангустиас и подмигивает ей. Фелиситас вскидывает голову. Незваная гостья пожимает плечами.
— А на сколько? — Фелиситас едва слышит свой вопрос, заглушаемый колотящимся сердцем.
— Навсегда, — отвечает мама.
Фелиситас непроизвольно улыбается. Ангустиас замечает это редкое явление, и на ее губах тоже появляется улыбка, однако быстро исчезает. Фелиситас снова хмурится.
Ничто не может обрадовать ее больше, чем возможность навсегда покинуть Оук-Хилл, штат Арканзас, но она же не вчера родилась. Она прекрасно знает, что есть масса вещей, о которых стоит позаботиться, прежде чем обычным пятничным утром срываться с места и отправляться неизвестно куда, чтобы начать новую жизнь. И об этих вещах ее мать, скорее всего, даже не подумала.
— А как же работа? — подает голос незваная гостья. — Спроси-ка ее.
Фелиситас чувствует раздражение. Спасибо, конечно, но она вполне способна образумить свою мать.
— А как же твоя работа? — спрашивает Фелиситас.
— Я отправила им электронное письмо, в котором вежливо сообщила, что увольняюсь.
— Ты не можешь так поступить! — восклицает Фелиситас.
Ангустиас пожимает плечами:
— Однако я это сделала. Все в порядке. Зарплату мне выдали в понедельник.
— А что с квартирой? — интересуется незваная гостья.
Фелиситас бросает на нее косой взгляд.
— А что с квартирой?
— Я вернула ключи и отдала деньги за этот месяц, — отвечает Ангустиас. — Слава богу, я не подписала договор аренды. Но задаток мне не вернули. Глупо было рассчитывать.
— Что насчет школы?
— В школу ты непременно продолжишь ходить.
— Но где?
— Там, куда мы приедем.
— А куда мы едем?
— Сейчас? В Грейс.
— Останови, ма...
Фелиситас выпрыгивает из припаркованной машины, и ее рвет прямо под плакатом “Возвращайтесь скорее!”, обозначающим границу Оук-Хилла. Она поднимает голову, читает надпись и в ответ на призыв выплевывает остатки ланча.
Плакат прав. Им скоро придется вернуться, если мама все-таки одумается и поймет, что лучше не бросать работу с приличной зарплатой. Интересно, есть ли секретарские вакансии в Грейс? Сможет ли Ангустиас претендовать на какую-нибудь из них? Позволят ли ее коллеги оставлять Фелиситас в комнате отдыха или сажать за рабочий стол, когда школа закрыта на каникулы или из-за плохой погоды? Разрешит ли новый мамин босс приходить попозже, когда Фелиситас будет опаздывать на школьный автобус?
Скорее всего, нет, ведь доверие еще надо заслужить. Они в очередной раз станут приезжими чужаками.
А школа? Поднимет ли новая школа шум, узнав о ее прошлых прогулах? И где они будут жить? Смогут ли позволить себе хорошую квартиру, без вони и ржавых труб?
Вернувшись в машину, Фелиситас задает матери все эти вопросы. И ее снова начинает тошнить, когда на каждый Ангустиас отвечает “не знаю”.
— Не смотри на меня так! — говорит Ангустиас, выпрямляя спину и приподнимая подбородок. — Я не знаю, потому что это не имеет значения. Мы едем в Грейс, но это временная остановка, пока я не пойму, где мы действительно останемся.
— Почему Грейс? — спрашивает Фелиситас, хотя догадывается об ответе.
— Там живет Abuelita Ольвидо... жила. — Голос Ангустиас срывается на последнем слоге, и на долю секунды Фелиситас чувствует, как в горле зарождается смешок, но такая реакция будет чересчур жестокой и подозрительной. Фелиситас крепко сжимает губы и надеется, что мама примет это за попытку не заплакать. Но в этом нет необходимости. Ангустиас слишком занята — сама изо всех сил старается сдержать слезы и не отрывает глаз от потолка машины. — Abuelita Ольвидо ушла из жизни сегодня утром, — произносит она, собираясь с духом. — Ты понимаешь, что это значит?
— Конечно. Мне десять, а не пять.
Ангустиас кивает. Кивок сводит на нет ее старания сдержать слезы. Она мгновенно превращается в гору скорби, по которой текут соленые жгучие реки.
Фелиситас очень редко видела маму плачущей. И почти всегда слезы так или иначе были связаны с Ольвидо. Разговор по телефону, письмо, старый предмет, пробуждающий воспоминания. Все, что напоминало об Ольвидо, и вести от нее самой неизменно нарушали беззаботное существование Ангустиас. Потому Фелиситас и поняла, что Ангустиас любила Ольвидо. Конечно, это казалось странным и бессмысленным. Но Ангустиас плакала, когда ей было не все равно. Она не плакала, когда их выселили из дома в Теннесси, когда ее уволили в Луизиане, когда она узнала, что ее парень в Нью-Мексико ей изменяет. Ангустиас уверяла, что ее это нисколько не волнует.
“Все это абсолютно неважно, пока мы вместе, здоровы и счастливы”, — всегда повторяла Ангустиас после особенно неприятных событий. Фелиситас полагает, что когда дело касается Ольвидо, это правило не работает. Особенно теперь, когда Ольвидо ушла из жизни.
Фелиситас прекрасно знает, что значит “уйти из жизни”. Мистер Кэмпбелл, их ближайший сосед в Редпойнте, штат Оклахома, все ей рассказал, когда она спросила, почему так много людей, одетых в черное, заходят в его дом. “Они пришли на мои похороны”, — спокойно объяснил он.
Миссис Рид, миссис Томпсон и другие покойники, с которыми Фелиситас уже успела столкнуться, настойчиво пытались объяснить ей, что значит умереть, даже после того, как она сообщала, что хорошо разбирается в этом вопросе. Старики любят объяснять, она это рано поняла, а мертвые старики особенно настойчиво добиваются, чтобы их объяснения были услышаны, — вероятно, потому что это почти невыполнимая задача. Они могут говорить и подавать какие угодно знаки, но близкие их не услышат. Даже не повернутся в их сторону. Они просто будут шептать имена своих дорогих усопших и проводить пальцами по их лицам, увековеченным на фотографиях, оставляя разочарованных мертвых в полном одиночестве. А Фелиситас, испытывая жалость к покойникам, вежливо предоставляла в их распоряжение свои уши, глаза и понимающее сердце.
Со временем Фелиситас научилась давать смерти самые разные объяснения — прямые и косвенные, научные и религиозные. Однако ее мама не может этого знать. Фелиситас никогда не обсуждает с ней свою способность видеть духов. Она боится, что Ангустиас начнет беспокоиться о ней или, что еще хуже, вообще не придаст этому значения.
И уж точно ни при каких обстоятельствах нельзя рассказывать Ангустиас о том, что — а точнее, кого — она видела в то утро. Случившемуся нет никакого подходящего объяснения: ни прямого, ни косвенного, ни научного, ни религиозного.
Фелиситас, как обычно, проснулась рано, чтобы сварить маме кофе, причем Ангустиас считает, что дочь делает это из любви. Она права, но лишь отчасти. Готовя ей кофе каждое утро, Фелиситас крадет немного для себя. Без сливок и сахара. Она не любит заглушать горчинку, которая ощущается в горле и вызывает приятное покалывание в кончиках пальцев.
— Почему бы просто не сварить себе чашечку?
Фелиситас резко обернулась, ища источник голоса. Горячий кофе выплеснулся на черное платье и обжег кожу над пупком.
— Тебе разве не больно?
Приоткрыв рот, Фелиситас помотала головой. Она ожидала увидеть совершенно незнакомого человека, духа, случайно забредшего в дом. Однако сидевшая перед ней женщина была лишь наполовину незнакомкой, с чьим сердцем Фелиситас никогда не доводилось соприкасаться, но чьи глаза нередко проникали в ее сны. Даже в обрамлении морщин эти карие глаза были безошибочно узнаваемы. Сотни часов, проведенных за разглядыванием одной-единственной фотографии, не прошли даром.
Фелиситас прижала руки к животу. Кофейное пятно расползлось под ладонями. Не смей, приказала она, чувствуя подступающую тошноту. Желудок заурчал в знак протеста. Ему требовалось выплеснуть ее беспокойство.
Как? — вопрошал организм Фелиситас. Как ты скажешь об этом маме? До сегодняшнего дня все ее встречи с духами были случайными. Духи не искали ее, не нуждались в ее помощи и не просили сообщить близким о своей смерти, за что Фелиситас чрезвычайно благодарна. Очевидно, что быть вестником плохих новостей — трудная задача, особенно если нельзя объяснить, откуда у тебя информация.
— Эй! — позвала Ольвидо. — Ты не слышишь меня?
Фелиситас сделала глубокий прерывистый вдох, все больше осознавая, что если она расскажет маме об Ольвидо, то ей придется рассказать и о своей способности видеть умерших людей, а это еще один разговор, к которому она не готова. Внезапно Фелиситас поняла, почему герои прочитанных ею книг нередко держали свои дневники в местах, намеренно доступных для любопытных глаз. Некоторые секреты слишком велики, чтобы хранить их в сердце, но слишком сложны, чтобы делиться ими с матерью.
После краткого представления с обеих сторон — имя, родство и ответная реплика “я знаю” — Фелиситас сообщила Ольвидо, что не может долго разговаривать, потому что не хочет опаздывать в школу. Ольвидо заверила, что все понимает, у нее только одна просьба.
— Dime[9], — сказала Фелиситас.
— ¡Dígame! Háblame de usted[10].
Претензия была вполне ожидаема. Когда им случалось, крайне редко, общаться по телефону, бабушка тоже настаивала на обращении на “вы”, но этим утром Фелиситас отказалась подчиняться. Бабушкам положено быть ласковыми и добрыми, кормить тебя не переставая и давать мелочь на конфеты, пусть ты ничего уже не купишь на эти несколько монет. Они точно не должны быть злыми, доводить твою маму до слез и заставлять тебя им “выкать”. Если Фелиситас собиралась оказать Ольвидо услугу, то и Ольвидо, хотя бы после смерти, стоило учесть представления внучки о нормальности. Бабушка не стала настаивать, и они продолжили разговор.
— Сделай так, чтобы твоя мама похоронила мое тело в Мексике, — озвучила свою просьбу Ольвидо. Она не добавила “пожалуйста”. Не улыбнулась. Морщины между ее бровями остались на месте. Не перестала хмуриться и Фелиситас.
— Зачем?
— Как видишь, — Ольвидо вытянула руки и провела ими вверх-вниз перед собой, — я не попала в рай, и, думаю, это потому, что тело мое все еще не там, где ему положено быть. — Ольвидо вздернула подбородок и выпятила грудь. — Я мексиканка по рождению и воспитанию, ею остаюсь и после смерти. В Мексике я должна обрести покой.
Фелиситас отхлебнула сваренный для Ангустиас кофе и поморщилась. Ее любимый напиток был очень горьким, но горечь уже не казалась приятной и возбуждающей.
— А мама когда-нибудь играла тебе “México lindo y querido”?[11] — продолжила Ольвидо, уязвленная отсутствием должного внимания со стороны внучки.
— Угу, — ответила Фелиситас, уставившись на свои ноги.
— Ты знаешь слова? México lindo y querido... — Ольвидо начала петь.
— Знаю, знаю. Я поняла, о чем ты[12], — перебила ее Фелиситас.
— Тебе не кажется, что это разумно?
— Это все? — спросила Фелиситас. — Это все, что ты хочешь, чтобы я сделала? Отвезла тебя в Мексику, будто спящую, как в песне поется?
Ольвидо хмыкнула.
— Да. Именно так. Но тебе необязательно следовать всему, что поется в песне, слово в слово. И невежливо перебивать, когда кто-то...
— Ладно, мне пора собираться в школу. Я поговорю с мамой, и... увидимся на твоих похоронах, если мы поедем.
Ольвидо открыла рот от удивления.
— Если?! Что ж, теперь я точно никуда не денусь. — Она издала смешок, в котором не было ни капли веселья. — Я должна убедиться, что вы туда доберетесь.
— Делай как хочешь, — буркнула Фелиситас и как ни в чем не бывало вернулась к своим утренним делам, упомянув Ольвидо лишь однажды. Ее позабавило, как просветлело лицо бабушки, когда она назвала ее мудрой, а при упоминании морщин мгновенно помрачнело.
Но чувство вины, пронзившее грудь острым ножом, быстро убило ее веселье. Несколько часов Фелиситас то и дело потирала место над сердцем, где чувствовалась боль. Она знала, что заслужила это. Но какой бы ни была ее боль, она меркла по сравнению с той, что вскоре предстояло испытать Ангустиас. Ей вот-вот позвонят, сообщат об Ольвидо, и скорбь накроет ее до конца дня, а может, и на несколько дней. В отличие от Фелиситас, Ангустиас будет плакать.
И Ангустиас плачет. Фелиситас отстегивает ремень безопасности, тянется к матери и обнимает ее. Она гладит маму по спине, как это делает Ангустиас, когда Фелиситас приходит из школы с мокрыми глазами. Ее руки то рисуют круги, то похлопывают, то легонько сжимают плечи.
— Можешь сама выбрать плейлист, — шепчет Фелиситас на ухо матери.
Ангустиас улыбается сквозь слезы.
— Я знаю, что нам нужно, — шепчет она в ответ, уже набирая в телефоне название.
Настроение немного улучшается, и под выбранную музыку девочки Оливарес отправляются на юг. Фелиситас показывает язык плакату “Возвращайтесь скорее!”, и вскоре он скрывается из виду. На мгновение ее взгляд останавливается на незваной гостье. Пора перестать ее так называть. Скоро они окажутся в ее городе, будут планировать ее похороны, окруженные миром, в который она никогда не впускала внучку. Вот тогда незваной гостьей станет Фелиситас, и, возможно, Ангустиас тоже будет воспринимать ее подобным образом.
[9] Слушаю, говори (исп.). Форма употребляется в неформальном общении, при обращении на “ты”.
[8] “Вечный Тук” (Tuck Everlasting) — фантастический роман для подростков, написанный Натали Бэббит и изданный в 1975 году. Дважды экранизирован, последний раз в 2002 году студией Disney.
[10] Слушаю, рассказывайте (исп.). Форма предполагает обращение на “вы”.
[12] Имеется в виду куплет “Прекрасная и любимая Мексика! Если я умру вдали от тебя, пусть скажут, что я сплю, и привезут меня сюда”.
[11] “Мексика, прекрасная и любимая” (исп.) — традиционная мексиканская песня.
Глава 3
Ольвидо
Осознав, что она мертва, Ольвидо первым делом вспомнила о постиранном белье. И тут же смутилась. Можно подумать, в ее жизни не было ничего более запоминающегося, чем домашние хлопоты. Конечно, было! Было...
Было...
— Талия! — воскликнула Ольвидо, увидев, что ее подруга заглядывает в кухонное окно. Рука метнулась вверх, чтобы прикрыть рот, будто Талия могла ее услышать. А вдруг могла?
— Ау? — позвала Талия, глядя в сторону Ольвидо. — Ты там, Ольвидо? Я не вовремя? Могу зайти попозже, если хочешь.
Еще как не вовремя. Двадцать минут назад Ольвидо очнулась ото сна и поняла, что проспала четырнадцать часов. По крайней мере, головная боль прошла, но и слюны во рту не было.
Как и дыхания.
И пульса.
— Вообще-то я хотела воспользоваться твоим туалетом, можно? — крикнула Талия. — Ты была права насчет возраста и мочевого пузыря.
Ольвидо закатила глаза: Талии было всего сорок девять.
— Расскажи мне об этом, когда тебе будет за шестьдесят, — крикнула она в ответ.
— Слушай, я все равно зайду, потому что мне нужен твой туалет, хорошо?
Ольвидо сделала шаг назад. Ее сердце учащенно забилось, хотя это была лишь иллюзия. Абсолютно напрасная.
— Надеюсь, я тебя не разбудила, — сказала Талия, кладя на кухонный стол ключ от дома, который Ольвидо всегда прятала под самым маленьким цветочным горшком на крыльце. — Кстати, твоя лужайка выглядит какой-то засохшей, — добавила она, поморщившись.
Талия тяжело воспринимала все безжизненное. При виде погибших животных на обочине она плакала. Мертвая тишина в толпе так ее нервировала, что она начинала икать. Она считала, что нет ничего хуже, чем скучная вечеринка, и больше всего на свете боялась обнаружить севшие батарейки, когда отключали электричество. Конечно, она окажется в шоке или упадет в обморок, если найдет тело Ольвидо. А кто потом найдет ее?
— Еще я хочу одолжить немного стирального порошка, — сообщила Талия, выходя из туалета. — Ну, не одолжить... — Она остановилась посреди коридора, сделала шаг назад и вытянула шею, чтобы заглянуть в спальню. — Я так и знала, что ты здесь! А почему ты еще...
Ольвидо скорчила гримасу и выбежала из дома. Боже, воскликнула она, но не в порыве отчаяния, а напрямую обращаясь к Небесам. Боже... Вопросов и замечаний было множество, и большинство начинались со слова “почему”.
Почему ты решил забрать меня в такой прекрасный день? Неужели не мог предложить что-нибудь более подходящее? Грозу? Легкий моросящий дождь? Хотя бы одну несчастную тучку?
Талия медленно открыла дверь, вышла на крыльцо и икнула.
Какое облегчение — умереть во сне. Хотя с этой ужасной головной болью ты, конечно, перегнул палку.
— Эй! Талия! — позвала с противоположной стороны улицы Самара, соседка Ольвидо.
Почему я здесь? Разве это нормально? Где мой ангел, где свет, где туннель?
— Все в порядке?
Талия икнула в ответ.
Где Тельма? И Сесилия? Где моя мать?
— Ольвидо, — прохрипела Талия. — Э-э-э. Она...
Я не вытащила полотенца из стиральной машины. Они будут вонять. А в сушилке осталось нижнее белье, такое старое. Кто его найдет?
Ангустиас.
Ольвидо понятия не имеет, почему в тот момент она оказалась перед Фелиситас. Возможно, так захотел Бог. Он знал о способностях девочки. Возможно, это произошло потому, что когда Ольвидо представила свою дочь, то увидела прижавшуюся к ней заплаканную внучку.
Ольвидо не беспокоилась. Она решила, что стоит ей подумать о доме, она тут же отсюда исчезнет, но через долю секунды поняла, что не знает, где находится ее родной дом. Там, где она жила, ее никто не ждал. Свет выключен. Двери закрыты, занавески задернуты. Все, что осталось, — это мертвая тишина, если не считать икающей Талии.
Квартира Ангустиас точно не была ее домом, хотя здесь и жила ее семья. Ольвидо понятия не имела, где стоит посуда, как работает душ, где спрятан запасной ключ. У входной двери ее не ждали домашние тапочки, не было там и любимого пледа, под которым так приятно вздремнуть в гостиной.
Дом должен находиться дальше — как по времени, так и по расстоянию. Мексика. Именно там она сделала первый вдох, первые шаги, произнесла первое слово. Именно там научилась писать свое имя и не воспринимать всерьез его значение, там в последний раз видела свою мать, там осознала, что у нее хватит смелости отправиться в самое долгое и трудное путешествие. В Мексике ей не приходилось переживать ночные ссоры, чувствовать себя бесконечно одинокой по утрам и смотреть, как Ангустиас уезжает.
Теперь Ольвидо может без труда наблюдать, как дочь возвращается. К сожалению, в поле зрения попадает и хмурое лицо Фелиситас.
Вернее сказать, к счастью. Гнев побуждает к действию, а что бы ни чувствовала ее внучка, это не тот гнев, когда отказываешься от матери, уж Ольвидо-то знает. У Фелиситас нет никаких причин испытывать к ней подобное. Ангустиас не могла рассказать дочери о прошлом, Ольвидо просила ее об этом. Если бы рассказала, разве смогла бы Фелиситас смотреть Ольвидо в глаза? Она машинально теребит лист оказавшегося рядом плюща.
Ненавидит.
Не ненавидит.
Глава 4
Ангустиас
Ангустиас не была в Техасе чуть больше девяти лет. Неприятно это признавать, но она скучала. Она не могла предположить, что станет одной из тех, кто скучает по штату. Штат — это всего лишь линии на карте. Земля, люди, здания везде одинаковые. Она где только не бывала и заметила бы разницу. Однако при виде плаката “Добро пожаловать в Техас” сердце ее буквально замирает.
Ангустиас молчит, не в состоянии понять, хорошо это или плохо. С того момента, когда она узнала, что беременна, она стала чаще испытывать беспокойство. Ребенок толкается, потому что ему весело или наоборот? Что означает кровь в моче? Это нормально или ребенок умер? Почему у нее так часто идет кровь из носа? Она умирает? Она не может умереть, ведь ребенок тогда тоже умрет.
Ангустиас решает, что сердце замерло по хорошему поводу, и не может сдержать радостного визга, когда они останавливаются поужинать. Глупо отрицать, она действительно скучала по этим местам.
— Вроде съедобный, — недоверчиво говорит Фелиситас, кладя бургер на оберточную бумагу, которая служит ей тарелкой.
— Фелиситас Грасиэла Оливарес, я отрекусь от тебя и оставлю прямо в этом “Ватабургере”[13], если ты еще раз такое скажешь. Мы теперь в Техасе, и будь добра уважать его национальное достояние. — Ангустиас подтягивает к себе желтую обертку с недоеденной Фелиситас картошкой фри. Взамен двигает через стол свой молочный коктейль.
— Это не национальное достояние, поскольку не принадлежит всему народу. И ты не можешь оставить меня здесь, потому что кто-нибудь позвонит в службу опеки и ты окажешься в тюрьме, а у меня нет денег, чтобы внести за тебя залог.
— Ого, какие умные слова — “служба опеки”, “залог”! — Ангустиас иронизирует, но в душе гордится словарным запасом дочери. Гордость, однако, тут же сменяется тревогой. Это чуждое ей, неприятное чувство не отпускает ее весь вечер.
Ангустиас нехотя жует очередной ломтик картошки фри и ощущает отвратительный привкус холодного масла. Любимая картошка тут, конечно, ни при чем, просто у нее пропал аппетит. Она уже наелась. Умяла весь свой заказ и почти весь заказ дочери, но ее руки продолжают запихивать в рот остатки еды. Руки знают, что делают. Стоит им остановиться, и ей уже не избежать вопросов Фелиситас, ни самых безобидных, ни тех, что касаются Ольвидо. Фелиситас вовсе не хочет расстраивать Ангустиас. Просто ее невинное любопытство очевидно — ярко-оранжевое облако тому подтверждение. Тот самый цвет, который появлялся, когда она впервые спросила, почему небо голубое или почему в слове “сердце” не произносится буква “д”.
Если у Ангустиас все-таки есть своя аура и она могла бы сейчас ее увидеть, цвет был бы темно-коричневым, на тон светлее ее волос. В этом она уверена. Вероятно, когда они зашли в кафе, все началось с цвета кофе с четырьмя столовыми ложками сливок, но каждый вопрос высасывал сливки ложка за ложкой. А спросить Фелиситас к тому моменту успела следующее:
1. Какой была Ольвидо? Строгой. Это я знаю, а какой еще? Ворчливой.
2. Чем она занималась в свободное время? Ну, ей нравились китайские шашки, но мне эта игра казалась скучной, так что играли мы нечасто. А еще чем? Гм... Вспомнила! Она любила ухаживать за своими растениями.
3. Почему она переехала из Долины?[14] Она никогда мне не рассказывала. А ты спрашивала? Да, но она всегда меняла тему.
4. Что тебе в ней нравилось? Она была моей мамой, это и так понятно. Но что еще? Ты будешь это доедать?
5. А Грейс находится в Долине?
Ангустиас вздыхает с облегчением. В последнем вопросе нет и намека на Ольвидо.
— Нет, — отвечает она. — Даже не рядом. Это относительно недалеко от границы, но дальше на север, вдоль реки. Видишь?
Ангустиас открывает карту на экране мобильного телефона и увеличивает изображение до тех пор, пока название пункта назначения не занимает половину экрана. Фелиситас водит пальцем по карте. Грейс находится на пересечении двух синих линий. На одной линии написано “река Рио-Гранде”, а на другой...
— Река Дьяволов! Круто!
Смутившись, Ангустиас забирает телефон и рассматривает карту.
— Странно. Я даже не знала, что такая существует. А ты, разумеется, считаешь, что это круто, — говорит она, закатывая глаза.
— Ну конечно, ты не знала. Ты вообще когда-нибудь выясняла, где жила твоя мать?
— Хм, это довольно иронично, что твоя бабушка решила поселиться у реки с таким названием, — продолжает Ангустиас, игнорируя замечание дочери. Она отрывает взгляд от телефона и приподнимает бровь. — Ты знаешь, что такое “иронично”?
На этот раз глаза закатывает Фелиситас.
— Да мама. Я прекрасно слышала песню Аланис Моррисон, пока ты пять раз громко пела ее в машине. Между прочим, фальшиво. И почему это иронично?
— Мориссетт[15], — поправляет Ангустиас. — Твоя бабушка была очень религиозной, истовой католичкой. Каждый раз, когда ей что-то не нравилось, она говорила: “¡Esas son cosas del diablo!” Это все проделки дьявола.
Фелиситас ерзает на стуле.
— Совершенно не обязательно повторять для меня на английском. Я понимаю и говорю по-испански так же хорошо, как и ты.
— Ладно-ладно, — соглашается Ангустиас и поднимает руки в знак капитуляции, хотя Фелиситас и не права. Ее испанский довольно неплох, язык она понимает и говорит на нем, может читать и писать простые предложения, но все это она делает далеко не идеально. Она путает род некоторых существительных, ставит ударение не на те слоги и иногда использует похожие по звучанию английские и испанские слова с совершенно разными значениями.
Ангустиас вполне довольна тем, как ее дочь владеет испанским. Ее уровень можно даже считать превосходным, учитывая, что Ангустиас не говорит с ней по-испански постоянно. “Ошибаться — это нормально, — сказала она однажды Фелиситас, когда та предложила пропылесосить ковер, и Ангустиас объяснила ей, что слово carpeta хоть и похоже на английское carpet, но означает “папка”, а ковер по-испански — alfombra. — Ты учишься, и это главное”.
В тот момент по краям бордового облака Фелиситас появилась багровая кайма, означающая, что дочь не только расстроена, но и злится. Фелиситас не любит, когда она чего-то не знает. Поэтому, вместо того чтобы постоянно поправлять ее, Ангустиас теперь повторяет фразы на английском и испанском. Если верить интернету, мозг естественным образом улавливает закономерности и Фелиситас запоминает правильные варианты перевода.
По отношению к Ангустиас Ольвидо такой метод обучения не применяла. Ей нравилось указывать на ошибки. “Что ты имеешь в виду под te quiero bien mucho? — спросила она, когда Ангустиас пыталась сказать, что очень любит ее. — Te quiero mucho. Вот как правильно. Bien mucho говорят только местные мексиканцы”. Произнося мексиканцы, она изобразила жестом кавычки.
Ангустиас хотела заметить, что она и есть “местная мексиканка”, а значит, ей можно говорить bien mucho, но передумала. Ведь когда Ольвидо произносила te quiero mucho, она лишь поправляла ее, а вовсе не признавалась в любви в ответ.
В конце концов Ольвидо сказала ей te quiero muchísimo, и Ангустиас поняла, что слово muchísimo означает “очень”, но почему-то фраза “Я очень благодарен” переводилась как muchísimas gracias, а вовсе не gracias muchísimo. Все-таки испанский язык, как и саму Ольвидо, было трудно понять.
— Фелиситас, — говорит Ангустиас и показывает на свой лоб, напоминая дочери, что надо бы перестать хмуриться.
Фелиситас не обращает внимания на намек и замолкает. Когда она вновь начинает говорить, то не смотрит матери в глаза.
— Значит, я тоже была una cosa del diablo?
Ангустиас подскакивает на стуле.
— Что? Конечно, нет!
— Тогда почему она никогда не навещала нас и не приглашала к себе? И всегда, когда звонила, не хотела со мной разговаривать. Если она больше не сердилась на тебя за то, что ты меня родила, почему же она до сих пор меня ненавидела?
— Она тебя не ненавидела, — уверяет дочь Ангустиас. — И она все еще сердилась на меня, но ты здесь ни при чем. А звонила она время от времени, потому что полностью отказаться от ребенка — это...
— Cosas del diablo, — заканчивает фразу Фелиситас.
Ангустиас машинально тянется к лежащей перед ней обертке. Она отворачивается к окну, чтобы не смотреть на синевато-серое пятно над головой Фелиситас, но в отражении видит свой самый глубокий страх. Она крепко зажмуривается. Кончики пальцев не ощущают ничего, кроме промасленной бумаги. Ангустиас в панике опускает глаза и обнаруживает, что у нее не осталось картошки фри, которая могла бы спасти от дальнейших вопросов, заданных не только дочерью, но и ею самой. Была ли Ангустиас una cosa del diablo? Она уже не может спросить об этом свою мать, но если бы могла, очевидно, Ольвидо ответила бы “да”.
Для нее это неважно. Она умеет жить с таким восприятием себя собственной матерью. Холодность сходит с нее, как снег, тающий с приходом весны, но Фелиситас уже живет в состоянии вечной зимы. Пренебрежение Ольвидо, ее обида, которую она таила до самой смерти, заморозят сердце Фелиситас. Сейчас она что-то подозревает, но если получит подтверждение, сможет ли это пережить? Ведь она всего лишь ребенок.
Хотя раз Ольвидо мертва, Фелиситас не грозит узнать правду. Да и Ангустиас тоже ничего не грозит, поскольку дочь явно не собирается продолжать допрос. Ангустиас шлепает Фелиситас по руке и радостно сообщает, что пора снова отправляться в путь.
Фелиситас молчит всю дорогу до машины. Тишину заполняет потрескивание неисправной неоновой вывески над рестораном. Молчание — обычное дело для Фелиситас, но сейчас явно что-то не так, Ангустиас это видит. На лице дочери нет привычной хмурости, хотя в нем чувствуется напряжение, словно она старается не закричать или не выдать секрет. Но она точно не злится. В ее ауре нет багрового оттенка.
— Эй. — Ангустиас пытается отвлечь Фелиситас от того, что ее беспокоит. — Раз Грейс приграничный городок, значит, большинство там говорит по-испански, так что мы не сможем использовать язык, чтобы обсуждать людей за их спинами, но...
— Другие дети не будут называть меня Фелисити? — спрашивает Фелиситас, вяло открывая дверцу машины и залезая внутрь.
— Именно! — Ангустиас энергично включает зажигание и выезжает с парковки. — А меня не будут называть Энджи.
— Или Ангус.
— Ага, говядина Ангус[16]. — Ангустиас мычит, но это не вызывает у дочери ни тени улыбки.
Фелиситас, похоже, обдумывает слова матери и глубже вжимается в сиденье. Ее аура становится чуть голубее, чем была в ресторане, но цвет все еще ближе к серому.
— Это не имеет значения. Они найдут другой повод посмеяться надо мной. Так всегда бывает. Но мы же все равно там не останемся, правда?
— Правда. Возможно, потом мы поедем в Долину. Поселимся там. Может быть, на-все-гдааа! — Ангустиас раскидывает руки в воздухе, словно рисует радугу. Фелиситас, не впечатленная этим представлением, отворачивается и смотрит в окно, а “навсегда” так и повисает в воздухе.
[14] Здесь и далее имеется в виду Долина Рио-Гранде — регион на границе США и Мексики, расположенный в пойме реки Рио-Гранде.
[13] Whataburger — американская частная сеть ресторанов быстрого питания в штате Техас.
[16] Сорт мраморной говядины из бычков абердин-ангусской породы.
[15] Аланис Мориссетт — канадская и американская певица, композитор, актриса и продюсер. Здесь упоминается ее песня Ironic.
Глава 5
Фелиситас
Фелиситас знает, что “навсегда” невозможно измерить, а то, что невозможно измерить, не существует.
Несмотря на искренность и надежду в голосе мамы, нет никаких оснований верить ее обещанию. За десять лет жизни Фелиситас они переезжали девять раз, причем дважды без предупреждения. Заставить маму осесть на одном месте может разве что божественное вмешательство, но, учитывая, насколько ужасными были предыдущие девять мест, она не уверена в его необходимости. Фелиситас умоляла Ангустиас не переезжать в то лето перед школой, когда они жили в Нью-Мексико и она поняла, что не умеет заводить друзей, хотя, похоже, все дети справлялись с этим без труда.
— Хорошо, мы можем переехать в другой штат, — заявила Фелиситас через две недели сидения в одиночестве во время обеда и на переменах.
— Я разве говорила, что мы переезжаем? — удивилась Ангустиас.
— Нет, но скоро скажешь.
Месяц спустя они собрали чемоданы и отправились в Вайоминг, где Фелиситас проводила обеденные перерывы и перемены, прячась за стеллажами в школьной библиотеке.
Ангустиас всегда удается легко вписаться в новую среду. Уже через несколько дней после переезда она получает приглашения на всякие вечеринки и даже пару свиданий, вступает в книжные, кулинарные и вязальные клубы, организованные соседями, хотя ни одно из этих занятий ее не интересует. Фелиситас, напротив, никогда не заводит друзей, даже таких, с кем не общаешься после школы, но каждый день сидишь рядом за обедом. В ней всегда находится что-то, над чем одноклассники готовы посмеяться: имя, одежда, привычка использовать некоторые испанские слова, непереводимые на английский.
— Я... Я... Me empalagué[17], — пробормотала она, когда миссис Кокс велела Фелиситас доесть кусок торта, розданного им в честь окончания учебного года.
— Мама Минди купила этот торт для всего класса, — сообщила миссис Кокс. — Невежливо выбрасывать еду, на которую другие потратили деньги.
— Но ¡me empalagué! — повторила Фелиситас, не зная, как сказать, что ее вкусовые рецепторы пресытились и умоляют перестать покрывать их сахаром.
— Я не понимаю, что это значит. Говори по-английски.
— Он... слишком сладкий, — произнесла наконец Фелиситас. Судя по недовольному выражению лица миссис Кокс, ей не удалось передать свои ощущения. Она не хотела критиковать торт. Она собиралась покритиковать себя и свою нелюбовь к сладкому.
— В следующий раз покупай себе торт сама, — прошипела Минди. — Хотя нет, ты не сможешь. Вы же нищие.
Фелиситас молча доела свой кусок, пока ее одноклассники хихикали и скандировали me empalagué, нарочито коверкая произношение.
Ангустиас уверяет, что насмешки — это признак зависти, но Фелиситас убеждена, что в ее случае завидовать нечему. Им просто нравится объединяться в ненависти к кому-то. Даже если в школе есть другие такие дети, как Фелиситас, — по ее мнению, даже более странные, — им просто везет, что с ее появлением они лишаются статуса “новеньких”.
Если кто и завидует, так это сама Фелиситас. Она завидует способности своей мамы никогда ни о чем не волноваться, завидует тому, как все необъяснимым образом у нее складывается и как она мгновенно всем начинает нравиться. А больше всего она завидует тому, что Ангустиас уже взрослая и не обязана слушаться свою мать.
Фелиситас клянется себе, что никогда не будет поступать так, как до сих пор поступала Ангустиас. Она не станет сбегать. Не станет поддаваться чувствам, особенно сиюминутным.
Остаться.
Уехать.
Остаться.
Это всего лишь чувства. Фелиситас знает, что они утихнут, как гроза, переходящая в мелкий дождик. По крайней мере, она думает, что так и будет. Фелиситас никогда не задерживалась на одном месте достаточно долго, чтобы проверить, приходит ли конец бурлящим эмоциям. Но очевидно, что приходит, иначе все либо несчастливо жили бы в одном и том же месте, либо снова и снова переезжали. А Фелиситас еще не встречала никого, кто выглядел бы таким же несчастным и боящимся перемен, как она, или таким же довольным и стремящимся к переменам, как ее мама.
— Как думаешь, какой из этих городов больше подходит для нашего следующего дома? Мак-Аллен? Браунсвилл? Уэслако?
Фелиситас никак не реагирует и вместо этого затыкает уши, напялив на голову подушку для путешествий. Если она закроет глаза, мама не поведется и не поверит, что она спит, но это послужит сигналом, что стоит прекратить разговор. Ангустиас прислушивается к таким сигналам в восьмидесяти пяти процентах случаев.
А вот Ольвидо, до этого момента тихо сидевшая на заднем сиденье, намека не понимает. Не подозревая о правилах общения, сложившихся в ее отсутствие между дочерью и внучкой, она высовывает голову из-за сиденья Фелиситас и сыплет вопросами:
— Что она собирается делать в Долине? У нее вообще есть деньги, чтобы туда добраться? Сколько платят за эту секретарскую работу? А сейчас у нее есть деньги? Спроси ее!
Фелиситас прижимает подушку к ушам и изо всех сил зажмуривается.
— Давай, — настаивает Ольвидо, — спрашивай! Нельзя позволять твоей матери беззаботно разъезжать туда-сюда. Что, если у вас не окажется денег на еду или кончится бензин? Тебе надо убедиться, что вы хотя бы доберетесь до Грейс. Спрашивай!
Фелиситас слегка мотает головой, чтобы мама не заметила. Но, похоже, этого не замечает и бабушка. Может, она слепая, рассуждает про себя Фелиситас, решая проявить великодушие и как-то оправдать бабушкино поведение. Может, перед смертью ей уже нужны были очки.
Внезапно сумочка Ангустиас соскальзывает с центральной консоли, и ее содержимое высыпается на колени Фелиситас. Среди ручек, блокнотов, тампонов и немыслимого количества квитанций — плоский кошелек с небольшой суммой наличных и двумя кредитными картами. Фелиситас хмуро смотрит на бабушку. Ольвидо хмурится в ответ и показывает на предметы у внучки на коленях.
— Спрашивай, — приказывает она одними губами. — Сейчас же.
— Сколько у нас осталось денег? — Фелиситас вздыхает и берет кошелек.
— Об этом не беспокойся. — Ангустиас пытается выхватить кошелек, но дочь не выпускает его.
Ольвидо усмехается:
— Pues alguien tiene que preocuparse.
— Ну, кто-то же должен об этом беспокоиться, — повторяет за ней Фелиситас, засовывая обратно все, что выпало из сумочки.
Ангустиас смеется безрадостным смехом:
— Ты говоришь, как моя мама.
— Может, тебе стоило ее послушать, потому что мне это надоело! — огрызается Фелиситас. Она отстегивает ремень безопасности и перелезает на заднее сиденье, пропуская Ольвидо вперед. Отодвинув в сторону два тяжелых чемодана, освобождает себе место и плюхается рядом с Пепе.
— Что тебе надоело? — спрашивает Ангустиас у отражения дочери в зеркале заднего вида. — Эй? Фелиситас? Что тебе надоело?
Фелиситас лишь хмурится в ответ и натягивает на голову одеяло, как вампир, набрасывающий плащ, чтобы исчезнуть в ночи. Проходит время, но она все еще чувствует беспокойство мамы и бабушки. Ей жарко и душно, будто теплым летним днем она стоит у плиты рядом с кастрюлей кипящего бульона. То, что должно быть признаком любви и заботы, ее только раздражает.
Не имея возможности кричать от отчаяния, Фелиситас находит лучшую альтернативу. Она тихонько плачет над увядающим дьявольским плющом, пока не засыпает. К тому времени, когда они приезжают в Грейс и Фелиситас просыпается, растение подрастает на три дюйма.
[17] Мне слишком сладко (исп.).
