автордың кітабын онлайн тегін оқу Одинокая ласточка
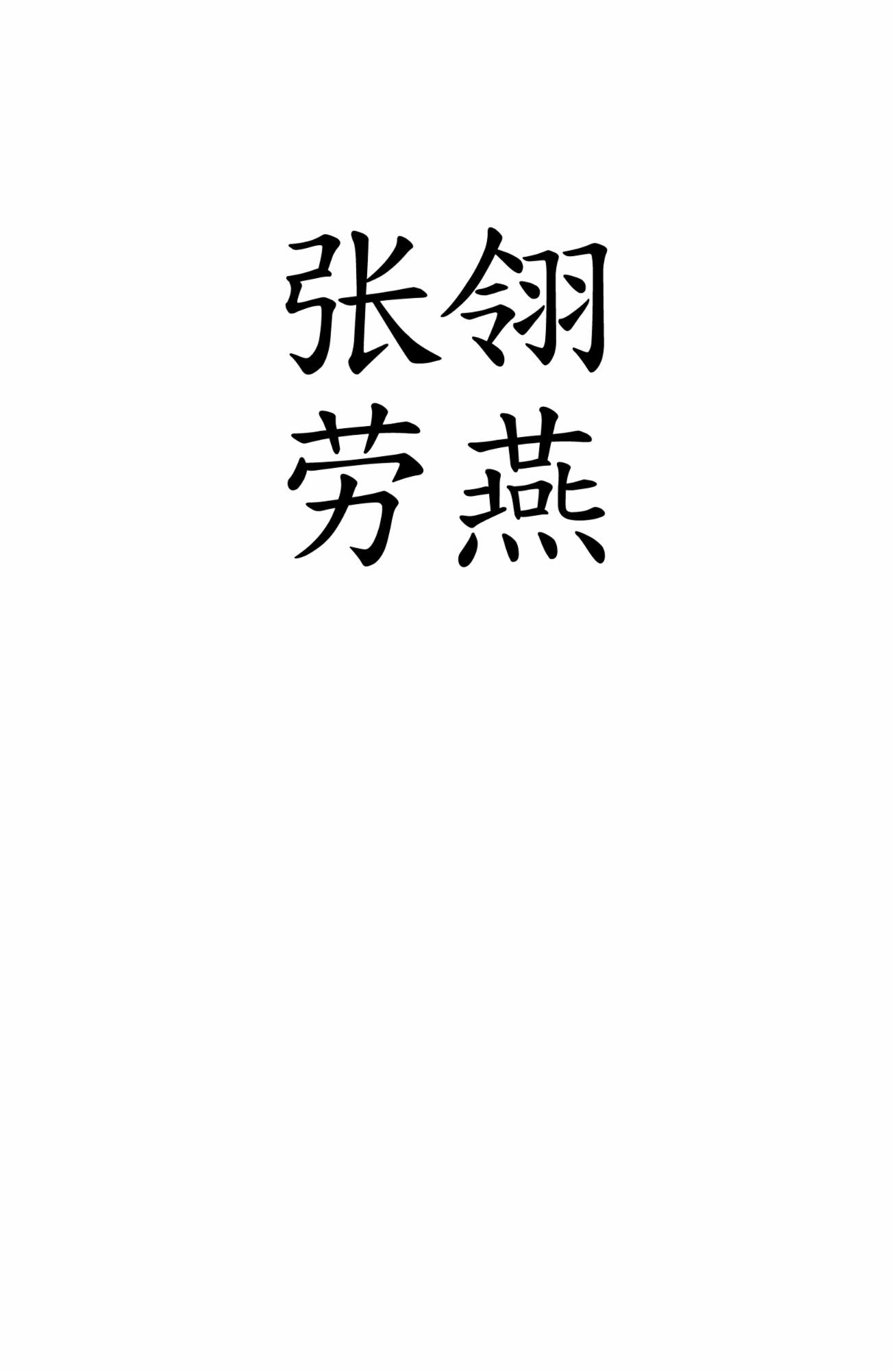

Посвящается именам,
которые не встретишь
на монументах
уильям де руайе-макмиллан, он же май вэйли, он же билли — также известный под другими именами
У меня бессчетное множество имен и прозвищ. Едва ли не каждый раз, когда я оказывался в новой компании, меня называли как-то иначе.
В свидетельстве о рождении, выданном больницей “Добрый самаритянин” в Цинциннати, написано, что меня зовут Уильям Эдвард Себастьян де Руайе-Макмиллан. Вы, верно, уже заметили, что у меня два средних имени. Эдвардом меня нарекли в честь отца, а Себастьяном — в честь деда. Фамилия у меня составная, двойная, де Руайе — по матери, Макмиллан — по отцу. Мать происходила из знатного французского рода: Людовик “После меня хоть потоп” XV пожаловал ее предкам титул, правда, какой именно, мать и сама толком не могла объяснить. Ее семья уже подзабыла свои европейские корни, и, в сущности, китайским языком мать владела куда лучше, чем французским.
Полное имя послужило мне всего три раза: оно значится в свидетельстве о рождении, заявлении, с которым я поступил в медицинскую школу Бостонского университета, и в свидетельстве о браке. Во всех остальных случаях люди обходились обращениями покороче. Когда мне было восемь, я стащил в лавке на углу пачку тростникового сахара, лавочник нажаловался моим родителям, после чего отец вызвал меня к своему письменному столу (я часто выслушивал нотации, стоя у стола), но даже тогда он крикнул всего лишь: “Уильям де Руайе-Макмиллан!” — и это уже говорило о том, что отец вне себя от злости. Я проверял: чтобы произнести мое имя целиком и не проглотить при этом ни единого слога, нужно хотя бы пару раз перевести в серединке дух.
Домочадцы, американские друзья и сокурсники звали меня Билли, одна только мать сокращала это имя до первой буквы — Би. Мне всегда казалось, что у матери, вынужденной ухаживать за больным мужем и растить пятерых детей, был талант математика, она ловко упрощала до корня множество житейских мелочей, запутанных и каверзных, как математические задачки.
Периодически к имени Билли добавлялись “приставки” или “уточнения”. Например, в средней школе я был Костлявым Билли. К тому времени я уже вымахал до пяти футов восьми дюймов и считался высоким ребенком, при этом весил я всего сто двадцать восемь фунтов. Мне страшно хотелось поправиться до ста пятидесяти фунтов, потому что это был минимальный вес, с которым брали в школьную баскетбольную команду, но в итоге я так и просидел до выпускного на скамье болельщиков, размахивая флажками и скандируя кричалки. Теперь, думаю, вы понимаете, почему я не пропустил почти ни одного матча на той худо-бедно выровненной баскетбольной площадке в Юэху. А вы прозвали меня Баскетбольным Билли, чтобы не путать с моим тезкой, американским инструктором. Моя тогдашняя страсть к этому спорту объяснялась всего-навсего тем, что я исполнял свою юношескую мечту.
Когда мне было двадцать пять и я готовился отправиться в Китай, родители придумали мне китайское имя — Май Вэйли (производное от Макмиллан Уильям). Я стал миссионером, “пастором Маем”, как говорили мои прихожане. В окрестных деревнях, правда, никто передо мной не расшаркивался. Те, кто подходил по средам за бесплатной кашей, называли меня “кашевым стариком”, хотя по американским меркам я был еще совсем молод. Те, кого я лечил, кому выдавал лекарства, в глаза величали меня господином Маем, а за глаза — “заморским лекарем”. Каша и лекарства интересовали местных куда больше, чем воскресные службы, но я не унывал и верил: познав Божью милость, они рано или поздно задумаются и о Божьем Слове. Я быстро понял, что в Китае Благой вести мало просто звучать, ей нужно ходить на двух ногах: одна нога — каша, а другая — лекарства. Да, школы тоже важны, но если каша и лекарства — это ноги, то школа — в лучшем случае костыль. Именно поэтому мне пришлось нанять шестерых носильщиков, чтобы управиться со всем своим багажом, когда я сошел с парохода в Шанхае. Одежда и книги занимали в нем меньше половины места, в основном чемоданы и корзины были набиты медицинскими инструментами и препаратами, которые я купил на пожертвования американцев.
Моих родителей, миссионеров-методистов, отправили в Китай на служение, они проповедовали в Чжэцзяне. Собственной церкви у них не имелось, они были “вольными певцами” Господа. Отец с матерью исходили почти всю провинцию — от востока до запада, от юга до севера. Проведенные на одном месте полгода в их понимании равнялись чуть ли не вечности. Скитальческий образ жизни привел к тому, что все четверо их детей умерли в младенчестве. Когда матери исполнилось тридцать лет, ее вдруг охватил неведомый прежде страх. Родители покорно терпели кровати с клопами и блохами, рисовую кашицу, в которой плавали толстые жучки, дырявые крыши, заделанные кусками клеенки, отхожее место в виде выгребной ямы с двумя бамбуковыми жердями, но мысль о том, что они могут остаться бездетными, оказалась для них невыносимой. В том же году, после бессчетных терзаний и сомнений, они наконец подали прошение о возвращении на родину.
На второй год их жизни в Америке на свет появился я. В последующие семь лет мать родила еще двух сыновей и дочерей-близняшек. Преисполненные благодарности, к которой, быть может, примешивалась капелька вины, родители отдали меня, старшего сына, церкви, подобно тому, как Авраам возложил на жертвенник Исаака. По правде говоря, мой миссионерский удел был предрешен еще в ту пору, когда я был в материнской утробе, — уже тогда я слышал зов Господень.
Но я не спешил. Я окончил медицинский, поработал стационарным врачом и лишь затем отправился в Китай. Все, что случилось позже, свидетельствует о мудрости принятого решения — или же его жестокости.
Родители провели в Китае двенадцать лет, и, даже вернувшись домой, они все равно каждый день говорили о своей китайской жизни. Мы, дети, выросли на их рассказах о том, как цзяннаньские [1] крестьяне замачивают золу, чтобы удобрять чай; как в прибрежных деревнях выходят на рыбалку с ручными цаплями; что едят китаянки, когда восстанавливаются после родов; из чего в деревне варят кашу в неурожайный год... Поэтому, когда я, следуя родительскому примеру, прибыл в провинцию Чжэцзян — спустя двадцать шесть лет после того, как отец с матерью ее покинули — и увидел дорожку из каменных плит на воде, снующие по реке лодчонки-сампаны, оседлавших буйвола ребятишек, поросшие белой камелией склоны, услышал резкий, похожий с непривычки на ругань цзяннаньский говор, я не испытал ни малейшего удивления. Я будто смотрел сон, который знал как свои пять пальцев, потому что он снился мне уже много-много лет. Казалось, я вдруг очутился не в нынешней, а в прошлой своей жизни.
Сегодня 15 августа 2015 года, с того дня, как мы условились о встрече, прошло ровно семьдесят лет. Что такое семьдесят лет? Для рабочей пчелы, которая собирает нектар, — пятьсот шестьдесят с лишним жизней; для буйвола, который тянет плуг, пожалуй, три жизни, если животное не забьют раньше срока; для человека — почти вся жизнь; для учебника по истории — пара-тройка абзацев.
Но для Божьего замысла семьдесят лет — всего лишь мгновение.
Я до сих пор отчетливо, вплоть до мельчайших подробностей, помню все, что произошло в этот день семьдесят лет назад. Новости пришли к нам из вашего лагеря. Радисты, отправлявшие в Чунцин гидрологические данные, первыми услышали по радио “трансляцию драгоценного голоса” японского императора. “Драгоценный голос” звучал хрипло и сбивчиво, речевые обороты, тон — все было архаичным и таким пышным, как будто смысл пробирался окольными путями. “Однако в сложившихся условиях Мы должны стерпеть нестерпимое, вынести невыносимое, дабы для грядущих поколений воцарился великий мир...” Вы даже не поняли толком, что это значит. Но за трансляцией последовало разъяснение, и оказалось, что эта речь — “Высочайший указ о прекращении войны”. Проще говоря, то был акт о капитуляции, пусть в нем и не нашлось самого слова “капитуляция”.
Безумство, как грипп, вспыхнуло в вашем лагере, и вы заразили им всю деревню Юэху. Вы порвали одеяла и зимнюю одежду на полосы, намотали их на палки, обмакнули палки в тунговое масло, подожгли, и среди деревьев тут и там замерцали факелы — издали казалось, что в горных лесах пылают пожары. Господь сжалился над вами: безумный день случился в разгар лета, и вы могли дурачиться вволю, не боясь, что ночью похолодает. Немного погодя деревенские дружно высыпали из домов и прибежали на пустырь, где у вас проводились учения. Обычно это место строго охраняли и не подпускали к нему посторонних. Но в тот день никто никого не гнал, в тот день не было посторонних — все были свои.
Вы запускали петарды, пили до дна, надрывали глотку, носились как сумасшедшие, каждого встречного ребенка сажали на плечо, каждому мужчине вручали американские сигареты. Будь ваша воля, вы бы целовали женщин. Вы, пожалуй, уже истосковались по запаху женской кожи и женских волос, но этот Майлз, ваш начальник из чунцинского генштаба, держал вас в узде, и хоть вы порой давали себе поблажку, ослушаться приказа в открытую никто не решался. Наутро, когда рассвело, жители Юэху обнаружили, что деревенские петухи и собаки манкируют своей обязанностью — возвещать рассвет: у всех накануне сел голос.
Тут я прервусь и скажу пару слов о Майлзе. Американец по имени Милтон Майлз был самым что ни на есть неудачником. Он мог войти в широкие врата сухопутных войск и вместо Стилуэлла вписать славную страницу в историю войны на Дальнем Востоке, навеки связав свое имя с печальной судьбой доблестной экспедиционной армии и великой дорогой, названной в его честь. Но этого не произошло. Или он мог войти в широкие врата военно-воздушных сил и вместо Шеннолта возглавить и поднять в небо “Летающих тигров” [2], быть тем, на кого равнялся каждый парень и о ком мечтала во сне каждая женщина в Куньмине и Чунцине. Увы, этого тоже не произошло. Он выбрал тесные врата военно-морских сил и на длинном китайском берегу, вдали от кораблей и подводных лодок, прямо за спиной у японцев, раскинул безмолвную сеть разведки.
Майлз и его подчиненные, то есть вы, смешались со здешними жителями, втайне изучая гидрометеорологическую обстановку, собирая разведданные о побережье, тренируя пиратов и партизан и готовясь, совершенно напрасно, к намеченному морскому десанту американской армии. Время от времени майлзовские партизаны, отшагав сто с лишним ли [3] по горной тропе, подрывали рельсы, сжигали военный склад, нападали на японский отряд, застигая его врасплох. Но по сравнению с тем, что делали Стилуэлл и Шеннолт, партизанские вылазки были мелочью, все равно что досадная, но не смертельная заноза в спину, из-за которой японец пару ночей промается без сна. Дело в том, что в тот год в Вашингтоне начальник Майлза — за закрытыми дверями, понизив голос — отдал ему устный приказ, настолько секретный, что о нем не осталось ни единой записи. Поэтому Майлз провалился в щель истории, откуда его так никто и не вытащил. Прошло семьдесят лет, а он все наблюдает, как одно поколение почитателей Стилуэлла и Шеннолта сменяет другое, в то время как его собственное имя даже не упоминается в газетах. Упокой, Господи, его душу.
Но вернемся на семьдесят лет назад. В тот день веселье длилось до полуночи, а когда все разошлись, вам двоим — тебе, Иэну Фергюсону, технику по вооружению первого класса группы ВМС США в Китае, и тебе, Лю Чжаоху, китайскому подопечному тренировочного лагеря SACO [4] — показалось мало, вы тайком отправились ко мне домой. Иэн принес две бутылки шотландского виски, которые раздобыл несколькими днями ранее, когда отмахал семьдесят ли до интендантского управления, где выдавали почту. Мы втроем устроились на моей неказистой кухонке и напились в стельку. В тот день нам было не до дисциплины, в тот день сам Бог закрывал на многое глаза, в тот день прощалась любая провинность. Ты, Лю Чжаоху, заявил, что виски — худшее пойло в мире, что оно воняет, как ссаные тараканы. Вонь, однако, не мешала тебе осушать один стакан за другим. И вот, уже изрядно набравшись, ты кое-что предложил.
Ты сказал: кто первый из нас умрет, после смерти пусть возвращается каждый год 15 августа в Юэху и ждет остальных. Когда все соберутся, мы снова хорошенько напьемся.
Мы тогда подумали, что это полная чушь — назначать встречу не “в будущем”, а “в будущей жизни”. Мы не знаем, когда настанет чужой смертный час, не знаем, когда придет наш собственный, для тех, кто жив, мир мертвых — непостижимая тайна. Теперь-то мы поняли, что ты был мудрее нас обоих. Ты уже догадывался, что вскоре после “трансляции драгоценного голоса” мы разойдемся в разные стороны и наши дороги, быть может, никогда больше не пересекутся. Живым не под силу подчинить жизнь своей воле, но у мертвых все совсем иначе. Душе неведомы оковы времени, пространства, непредвиденных обстоятельств, мир души не имеет границ. Путь через тысячи гор и рек, сквозь десятки, сотни лет займет у нее лишь одно мгновение.
Той ночью, пьянствуя, хлопая друг друга по ладоням, пожимая друг другу руки, мы со смехом приняли предложение Лю Чжаоху. Мы верили, что до нашей встречи еще далеко, мы дурачились. Война кончилась, мир вернул смерть на положенное ей место, отодвинул ее на приличное расстояние. Ведь даже мне, старшему из нас троих, было тогда всего тридцать девять лет.
Я понимал, что буду, вероятно, первым, кто исполнит обещание и явится в Юэху, но не представлял, что это случится так скоро — я умру через каких-то три месяца после нашего разговора.
Ко времени нашего знакомства я жил в Китае уже больше десяти лет. Я не хуже любого китайца умел выуживать палочками из супа лущеный арахис, ловко застегивал и расстегивал затейливые пуговицы из узелка и петельки на халате и почти без труда, пружинистым шагом, проходил несколько ли по горной тропе, неся на коромысле наполовину полные ведра с водой. Я практически в совершенстве овладел здешним диалектом и даже мог в общих чертах переводить крестьянам, что чжэцзянские власти пишут в приказах. Я молился у постели пациентов, умиравших от холеры; болел сыпным тифом, которым меня наградила блоха, укусившая тифозную крысу; чуть не задохнулся дымом при пожаре; однажды трое суток сидел без еды; а когда приехал в Ханчжоу, город атаковали с воздуха и я едва успел спрятаться в укрытии. Ближе всего к смерти я оказался той ночью в дороге, когда напали бандиты. Хотя мы (я и моя жена Дженни) одевались совсем как китайцы, грабители углядели наши лица и поняли, что мы “чужеземцы”. Разумеется, они решили, что кошельки у иностранцев набиты потуже, чем у местных. Пригрозив ножом, они обыскали нас с головы до ног, но оказалось, что у нас нет ни гроша. Вскоре после той страшной ночи у Дженни случился выкидыш, и она умерла.
Но что бы со мной ни приключалось, Господь каждый раз находил для меня спасительную лазейку. Меня не убили ни война, ни голод, ни эпидемия, я погубил себя сам. Знания, которые я получил в Бостонском университете, помогли мне сохранить много жизней, пусть я и не смог сберечь жену. Только потом я осознал, что у тех жизней, которые мне удалось отвоевать, была своя цена, и эта цена — моя собственная жизнь: в конце концов, искусство врачевания и нанесло мне в спину смертельный удар.
Вскоре после нашей попойки вы двинулись в путь, в Шанхай и города провинции Цзянсу, чтобы помочь Национальному правительству сохранить порядок и принять японскую капитуляцию. Ну а я осенью поднялся на борт парохода “Джефферсон” и отправился домой, в Америку. Мать прислала письмо: отец тяжело болен и мечтает хоть на пороге смерти увидеть спустя долгие годы старшего сына, своего Исаака, которого он возложил на алтарь. В отличие от Иэна, мне, гражданскому, не нужно было дожидаться, пока меня включат в приказ о демобилизации и возвращении на родину. Я без особого труда купил билет на океанский лайнер. И все равно я так и не смог повидаться с отцом — правда, умер не он, а я.
В Шанхае, до дня отплытия, я жил в доме одного миссионера, методиста, как и я сам. Его повар мучился от опасного фурункула на спине. Строго говоря, я мог ничего и не делать, огромный Шанхай — это не захолустная Юэху, вокруг сколько угодно больниц и клиник, всего-то и требуется, что заплатить за прием несколько медяков. Но мой скальпель протестовал и возмущенно позвякивал в чемодане, так что я в конце концов взялся за операцию. В тот день ланцет малость закапризничал, мы повздорили в первый и последний раз — он порезал мне сквозь перчатку указательный палец. Операция прошла успешно, повару сразу полегчало. Моя микроскопическая ранка почти не кровила и казалась вполне безобидной. Я наскоро ее обработал и на следующий день в положенное время сел на пароход.
Вечером ранка начала гноиться, палец распух до размеров китайской редьки. Я принял сульфаниламидные лекарства из своей аптечки, но они не подействовали. Я тогда не подозревал, что у меня аллергия на сульфаниламиды и что на Западе в ходу более эффективные антибиотики, — как-никак, те знания, которые я получил в университете, много лет не обновлялись. Мне становилось все хуже, гноя накопилось так много, что пришлось сцеживать его в кружку. Пароход шел в открытом море, до ближайшей гавани было несколько дней пути, и корабельный врач посоветовал мне немедленно отсечь палец. Я сомневался, не осознавая, насколько все плохо. Причина моих сомнений была проста: в будущем я никак не мог обойтись без указательного пальца. Перед тем как плыть в Америку, я уже придумал, чем займусь после возвращения в Китай — открою в одной деревне клинику с нехитрым операционным столом и больничной палатой, чтобы окрестные жители не бегали по сотне с лишним ли через горы до уездного центра всякий раз, как воспалилась рана или жене пришло время рожать. Я принял это решение не только из сочувствия к незавидному положению местных бедняков. На самом деле к благородным побуждениям примешивалась толика заботы о личных мелких интересах. Я старался и ради одного человека, ради китаянки, девушки, занявшей важное место в моем сердце.
Как оказалось потом, колебания стоили мне жизни. Через тридцать пять часов я умер от сепсиса. Моя смерть удостоилась всего двух записей, двух коротеньких строчек, одна — в судовом журнале “Джефферсона”, другая — в архивах Методистской церкви. Я слышал, что до меня канадец Норман Бетьюн точно так же скончался от заражения, поранив палец во время операции, правда, после смерти нас с ним ждали абсолютно разные участи. Он умер в подходящее время в подходящем месте, прославился как “отдавший жизнь во имя долга” герой, и с тех пор его имя не сходит со страниц китайских учебников. А моя смерть затерялась на фоне громких новостей: Нюрнбергского процесса, Токийского процесса, гражданской войны в Китае, стала пустячком, ничтожно мелким, как соринка, событием.
Так миссионер, возлагавший радужные надежды на мирную жизнь, превратился в призрака, который скитается между двумя материками. Но я вовсе не забыл о нашем обещании — каждый год 15 августа я возвращался в Юэху и спокойно, терпеливо поджидал вас.
Сегодня я вернулся в семидесятый раз.
За эти годы деревня Юэху не единожды меняла название, переходила от одного административного района к другому, ее границы, как рубежи некоторых стран Европы в период войны, то и дело сдвигались. Но для мертвого время застыло в одной точке, перемены его не касаются, Юэху для него вечна.
В нынешней Юэху уже трудно отыскать следы прошлого. Достроенная при мне церковь стала сперва штабом производственной бригады, затем амбаром, еще позже — начальной школой. Каждый раз, как менялось ее назначение, стены покрывали новой росписью, а ворота перекрашивали. Баскетбольную площадку и учебный плац, которые вы когда-то выравнивали, густо застроили жилыми домами. Общежития американских инструкторов сровняли с землей, дважды снесли сменившие их здания, и теперь на том месте рынок сухофруктов и магазины со всякой мелочевкой. Сохранилось лишь общежитие китайских курсантов, перед которым состоялся тот самый вошедший в историю бой Лю Чжаоху. Впрочем, только фасад остался почти таким, как раньше, внутри дом поделен на множество комнат-клетушек и выглядит совершенно иначе.
К счастью, еще не перевелись люди, которых интересуют дела прошлого, — несколько лет назад кто-то поставил перед входом во двор каменную стелу. Ее как только ни используют: на ней сушат детские пеленки, раскладывают связки свежесобранных побегов бамбука, расклеивают листки с рекламой лечения триппера и сифилиса. Как бы то ни было, хорошо, что она есть, без нее я, наверно, заплутал бы в этом мозаичном лабиринте многоэтажек.
Здесь я одиноко ждал вас, ждал год за годом. Вы все не появлялись, и это означало, что вы еще живете в каких-то уголках земного шара. Я не допускал и мысли о том, что вы нарушите слово, ведь вы люди военные, а военный человек знает, что такое обещание.
Я прождал впустую семнадцать лет, а когда я шагнул на эту землю в восемнадцатый раз, то встретил Лю Чжаоху. Если я ничего не путаю, в тот год тебе, Лю Чжаоху, исполнилось тридцать восемь, я же навечно остался тридцатидевятилетним. Мир призраков перевернул законы мира живых: в том мире я был старше тебя на девятнадцать лет, а тут ты младше меня всего на год. Смерть сократила расстояние между нами.
Ты узнал меня сразу — смерть навсегда оставила меня в том облике, в котором я был при нашем расставании, — а вот я никак не мог сообразить, кто передо мной, пока ты не выкрикнул мое имя. Ты заметно съежился и отощал. Конечно, ты был худым еще тогда, когда присоединился к тренировочному лагерю. Все до одного китайские курсанты гремели костями, американским инструкторам даже не верилось, что вы способны воевать с оружием наперевес. Вскоре они поняли, что поторопились с выводами... но об этом позже. В то время ты был ничуть не тщедушнее других.
Но когда мы вновь встретились, я подумал, что назвать тебя “худым” значило бы сильно приукрасить действительность. Ты не просто исхудал, ты стал ходячим скелетом, кожа обтягивала кости так плотно, что я почти разглядел их цвет и текстуру. Ты практически облысел, остались лишь редкие волоски, которые не прикрывали голову. Твоя кожа нездорово посерела, но ты выглядел опрятно, словно тот, кто провожал тебя в последний путь, тщательно тебя обмыл. В общем-то самая разительная перемена заключалась не в росте, не в весе и даже не в волосах, а во взгляде. Огонь, который сверкал в нем, когда я впервые тебя увидел, потух, и глаза-ямы зияли пустотой.
Я до сих пор отчетливо помню, каким ты был, когда проходил вступительные испытания. Тренировочный лагерь SACO в Юэху только-только открылся. Несколько местных построек из дерева и кирпича, тех, что попрочнее, приспособили под общежития для инструкторов и курсантов, земельные участки разровняли и сделали из них учебный плац, стрельбище и спортивную площадку — вот, собственно, и все “открытие”. Юэху выбрали потому, что она пряталась среди гор, вдали от японцев и морского берега, и вероятность вражеской атаки с воздуха или суши была сравнительно мала. К тому же деревня, хоть и находилась в глуши, была все-таки не слишком далеко. От оккупированных территорий и выхода к морю Юэху отделяла сотня-другая километров — расстояние, которое можно преодолеть на своих двоих.
Американские инструкторы вскоре обнаружили, что у китайских курсантов, при всей их чахлости, крепкие, сильные ноги. О том, что на самом деле означает китайское слово бусин — “ходьба”, американцам поведали не словари, а здешние марш-броски. При необходимости можно было, проделав путь от Юэху пешком, вогнать в спину японцам пару-тройку колючек, таких, что не вытащишь, а затем скрыться без потерь. В конце концов, главной задачей тренировочного лагеря было не участие в боях: его создали, чтобы собирать разведданные, подрывать моральный дух противника, заставлять японцев ежеминутно дрожать от страха.
В лагере уже был свой переводчик-китаец. Майлз в далеком Чунцине еще не уяснил: хотя огромный Китай признает лишь один официальный язык, в стране три тысячи девятьсот девяносто девять диалектов, и особенно это заметно на юге, где даже крестьяне из соседних деревень подчас не понимают друг друга. Курсантов для удобства общения набирали из жителей окрестных поселений. А переводчик, которого прислал Чунцин, оказался гуандунцем, и единственным человеком, способным разобрать его речь, был он сам. От безысходности американские инструкторы попросили меня о помощи — я был известным на всю округу китаеведом. Так мы с вами в тот день и познакомились.
Тебе, Лю Чжаоху, пришлось, видимо, долго бежать: рубашка на спине покрылась соляными разводами, капли пота одна за другой скатывались на брови. Тяжело дыша, ты сжимал в руке сорванное объявление о наборе в лагерь. Китаец, который проводил вступительные испытания, заметил, мол, объявление не для тебя одного вешали, зачем ты его оторвал? Ты хотел улыбнуться, но твое лицо сковало напряжение, ни одна улыбка не смогла бы пробить такую броню, поэтому ты лишь прочистил горло и выдохнул: “Торопился”. В тот день ты был немногословен, да и потом помалкивал, твой рот все равно что шлюз, чьи створы чаще закрыты, чем открыты.
Тебе дали бланк регистрации, чтобы ты внес свое имя. Ты написал иероглиф “Яо”, тут же его зачеркнул и исправил на “Лю Чжаоху”. Это имя показалось мне смутно знакомым, но тогда я так и не вспомнил, где его видел. Экзаменатор спросил тебя про семью. Ты помедлил, словно производя в уме мучительный подсчет, и наконец ответил, что у тебя одна только старая мать. Экзаменатор поинтересовался, умеешь ли ты читать и писать. Ты сказал, что почти окончил среднюю школу, полгода не доучился. Экзаменатор велел показать, как ты пишешь иероглифы. Ты обмакнул кисть в тушь, склонился над столом и на плохонькой рисовой бумаге в два счета написал по памяти “Завет отца нации” [5].
К этому времени уже никто особо не сомневался, что ты годишься для приема в лагерь, хотя впереди у тебя был еще простой медосмотр. Но и с первого взгляда становилось ясно, что ты более-менее здоров. Подстричь бы тебя, а затем подкормить, и тогда ты, пожалуй, сможешь выдержать тренировки.
Однако набор проводился строго по утвержденному генштабом порядку. У экзаменаторов еще остались к тебе вопросы.
— Что ты умеешь? — спросили тебя.
Ты закрыл глаза и чуть задумался.
— Я говорю по-английски.
Когда я перевел твой ответ Иэну Фергюсону, экзаменатору от американской стороны, он живо тобой заинтересовался. Если в лагере будет курсант со знанием английского, вести занятия станет намного проще. Он попросил тебя что-нибудь сказать.
Ты впопыхах выудил из памяти несколько английских слов и выстроил их в ряд. У тебя был ужасный акцент, ты пропустил глагол и поменял местами подлежащее и дополнение. Наверно, у того, кто учил тебя английскому, родным языком был суахили. Ты хотел сказать: “Рад с вами познакомиться” (I am very glad to meet you), а вместо этого получилось: “Вы рады со мной познакомиться” (You very glad meet me). Иэн не выдержал и расхохотался.
— Лучше чем ничего, — вступился я за тебя.
Впоследствии нам все же пригодился твой английский, в тот день ты просто перенервничал и от волнения все напутал.
Ты густо покраснел от стыда. Чтобы реабилитироваться, ты вытащил из-за пояса какую-то штуковину с резинкой. Это оказалась рогатка. Ты поднял ее кверху и задрал голову, высматривая в небе подходящую цель. И вот ты заметил птицу. Ты втянул живот, затаил дыхание и запустил в нее камнем. Птица рухнула на землю.
Это был сбитый в полете воробей — ты не только отлично целился, но и понимал принципы упреждения при стрельбе.
Мысленно экзаменаторы уже приняли тебя в тренировочный лагерь, но по правилам они должны были задать тебе последний вопрос.
— Почему ты решил поступить к нам?
Ты ничего не сказал, только полоснул экзаменатора взглядом. Тогда-то я и разглядел пылавший в твоих глазах огонь.
Мне и раньше встречались люди с горящими глазами, огонь светился во взгляде каждого, кто шел в лагерь, но твое пламя было совсем иного рода. Оно не согревало, оно было ледяным, холодным, как нож. Это пламя и стало твоим ответом.
Иэн попросил меня внести твое имя в список курсантов-рядовых. Я потянул его за рукав и шепнул, мол, жаль растрачивать такой талант. Курсантов делили на две группы, одних зачисляли в “кадровые”, других — в “рядовые”; первые учились на младших офицеров специального подразделения, а вторым, хоть они и проходили особую подготовку, предстояло стать простыми солдатами. Иэн засомневался, ведь ты никогда не служил в армии. Я возразил: опыт — дело наживное, а способности либо есть, либо их нет. Иэн ничего не ответил, только черканул перьевой ручкой, перенес твое имя в соседнюю колонку. Лишь позже я осознал собственную наглость — я не был полноправным членом тренировочного лагеря, но при этом вел себя совершенно по-свойски. К счастью, никого не смущало, что я совал нос куда не следовало.
Ты прошел медосмотр и стал кадровым курсантом. Тебе выдали серую форму и матерчатые туфли, на груди у тебя появилась нашивка: иероглифы “Морской дракон” (кодовое название вашего подразделения) и под ними цифры “635” (твой личный номер). С тех пор тебя звали не Лю Чжаоху, а 635. Американскую программу обучения хранили в секрете, подопечным лагеря запрещалось разглашать свои имена, а еще нельзя было поддерживать связь с близкими, чтобы не выдать тайну и не навлечь беду на родных. Карту регистрации — единственный документ, где были указаны фамилия с именем, — американский инструктор запер в ящичке письменного стола. Увы, когда пришло время покинуть Юэху, суматоха так вскружила американцам голову, что они забыли взять карту с собой. Лишь много лет спустя я узнал, сколько бед ты потом претерпел из-за этой бумажки.
Тогда никто из нас не подозревал, что скоро ветер подует совсем в другую сторону.
Через двадцать лет после того, как ты сдавал экзамен в тренировочном лагере, мы с тобой снова встретились в Юэху. Это было 15 августа 1963 года. Узнав тебя, я изумленно сжал твою руку, тонкую, будто нож, и спросил: Лю Чжаоху, что с тобой стало? Что произошло? Ты вздохнул, сказал: это долгий разговор. Чтобы описать все, что со мной случилось в прошлой жизни, понадобится еще одна жизнь. Давай лучше подождем Иэна, я расскажу вам обоим, у меня сил не хватит повторять.
Я не настаивал. Мы побрели по тропинке, той, что так сильно изменилась и еще сильнее изменится в будущем, побрели медленно, невесомо. Мы шли, делая каждый раз не шаг, а полшажочка, мы боялись потревожить скрытые под этими переменами следы былого.
На внешней стене вокруг курсантского общежития кто-то написал известковой краской лозунг. Написал недавно, потому что в прошлом году на этом месте были другие слова. Аккуратные, ровные, с заостренными чертами иероглифы гласили: “Учитесь у товарища Лэй Фэна!” [6]
Я спросил, кто такой Лэй Фэн. Ты подумал и ответил: один хороший человек. Я уточнил: а что он такого хорошего сделал? Лечил болезни? Отдал все свои деньги беднякам? Ты невольно фыркнул, покачал головой и сказал: отстал ты от жизни, пастор Билли. Я напомнил тебе, что уже восемнадцать лет пылюсь в мире призраков. Ты задумался и проговорил: верно, тот мир ты знаешь лучше, чем я.
Мне уже доводилось видеть лозунги. Иероглифы про Лэй Фэна нанесли поверх множества предыдущих, закрашенных. Эта стена — самая длинная в Юэху, своего рода “лицо” деревни, и каждые несколько лет на ней появляется очередное изречение в духе времени. Когда-то тут была надпись “Да здравствуют народные коммуны!”, до этого — “Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ”, еще раньше — “Мы обязательно освободим Тайвань!”. А под “тайваньским” слоем находилось правило тренировочного лагеря.
А, нет, я перескочил через слой. Между “Тайванем” и правилом был еще один призыв: “Дадим отпор Америке, поможем Корее, защитим Родину”.
— Помнишь его? Ваше правило? — спросил я тебя.
— От и до, — ответил ты.
В последних лучах заката мы повторили от начала до конца правило лагеря. Ты говорил уверенно, без единой запинки и не пропустил ни слова. Как и я. Наши голоса звучали в унисон.
Ты, разумеется, не мог не знать правило наизусть, вы выкрикивали его каждый день, перед занятиями и после них, стоя навытяжку перед вашим китайским командиром. А вот то, что я знал его наизусть, должно показаться необычным — я проповедовал, а не воевал, я не был ни инструктором, ни курсантом. Просто я тогда подружился со своими соотечественниками и делал для них то, что миссионеру, пожалуй, делать не следует. В те годы я каждый день сновал по дороге от церкви до тренировочного лагеря, туда и обратно, туда и обратно, так и запомнил ваш девиз.
То, что командир не увидел, не понял, не услышал, не сделал,
Мы увидим, поймем, услышим и сделаем за командира.
Замолчав, мы переглянулись и оба прыснули со смеху. Странная штука — время, оно с чего угодно сорвет строгую торжественную оболочку, обнажив абсурдную сущность. Когда-то это правило представлялось вам непреложным законом, ведь, как известно, священный долг военного — подчиняться приказу. Но твое терпение, хоть и казалось резиновым, однажды лопнуло. Годы спустя я по-прежнему помню твой тихий и вместе с тем оглушающе громкий бунт перед общежитием.
Ты провел пальцами по стене и пробормотал: раньше она была выше. Я сказал: осела под лозунгами, их вон сколько накопилось за эти годы.
Не говоря больше ни слова, мы вновь двинулись по тропке.
Так мы дошли до моей старой церкви. Это здание до сих пор самое прочное и нарядное в Юэху, поэтому ни у кого не поднялась рука его снести. Только с каменной таблички над воротами давно соскоблили иероглифы “Дом молитвы”. Табличку закрыли деревянной доской, пропитанной тунговым маслом, посередине нарисовали красную звездочку, а ниже написали: “Начальная школа «Алая звезда»”. Еще не кончились летние каникулы, в классах было пусто, изнутри не доносилось ни звука. Ребята постарше, скорее всего, помогали родным по хозяйству, лишь несколько девчушек шести-семи лет играли перед школой в резиночку, считая вслух:
Девять, восемь, семь и шесть,
В двадцать первом цветок есть.
Раз, два, три, четыре, пять,
Цветок малань расцвел опять.
Это любимая считалка китайских девочек, смысл ее так и остался для меня тайной. Но мне нравилось слушать их голоса. Голоса, не тронутые невзгодами, гладкие, без отметин, звонкие, как ветряные колокольчики.
Дети раз за разом повторяли свой стишок, резинка в их руках поднималась все выше и выше — от колен до талии, от талии до плеч, от плеч до макушки, и каждая новая высота испытывала пределы их гибкости.
В конце концов одна из школьниц, пониже ростом, выбыла из игры. Когда резинку задрали до макушки, девочка не смогла ее перепрыгнуть. Бедняжка не рассчитала силу, потеряла равновесие и шлепнулась на землю. Вместо того чтобы помочь ей встать, ее подруги так и покатились со смеху. Школьница ужасно смутилась и скривила рот, как будто собиралась заплакать.
В эту минуту подошла ее старшая сестра, подросток лет тринадцати или четырнадцати на вид. Судя по всему, она направлялась к реке, чтобы постирать одежду: в бамбуковой корзине у нее за спиной лежал ворох грязных вещей, сбоку к корзине был привязан соломенным жгутом валёк. Она помогла сестренке подняться и отряхнуть штаны.
— Чего реветь по пустякам? Успеешь еще в жизни нареветься, — сказала старшая.
Казалось, это не сестра говорит, а мать. Или даже бабушка.
Ты вдруг замер, твой взгляд устремился к девочке с корзиной. Застыв на одном месте, ты долго не сводил с нее глаз.
Я знаю, кого она тебе напомнила, но это имя нельзя произносить вслух. Небо на него отзывается дождем, а земля — болью.
С тех пор Лю Чжаоху каждый год составлял мне в деревне компанию. Мы с ним все ждали и ждали тебя, Иэн Фергюсон.
Кто бы мог подумать, что ты такой живучий — заставил нас ждать пятьдесят два года.
Первые тридцать лет мы держали себя в руках. Мы думали: ты, наверно, по-прежнему работаешь, выплачиваешь остатки по ипотеке; может быть, ты вышел на пенсию и укатил с женой в круиз, чтобы возместить ей все то, что в прошлом недодал, и вы уплыли в новые края, о которых ты прежде только слышал; может, твои внуки и внучки еще совсем маленькие и ты хочешь, чтобы они как следует запомнили дедушку... Одним словом, мы и так и этак оправдывали твое отсутствие.
К сороковому году терпение пошло на убыль. Старик за восемьдесят не тянет ипотеку и не растит детей. Даже если он при смерти, его супруге (при условии, что она вообще жива) незачем чересчур убиваться. Это время, когда листва увядает, плод падает на землю, а человек умирает. А ты, неужели ты и впрямь настолько любишь мир живых, что забыл про наш уговор?
Ты все никак не появлялся.
К пятидесятому году мы не просто потеряли всякое терпение, в нас мало-помалу закипал гнев.
Мы тоже прошли войну, но нас жизнь не баловала. Мы умерли молодыми, а тебе, значит, можно вечно коптить небо, попирая все законы природы? На каком таком основании? Ну, на каком? Тебе уже за девяносто, от тебя несет гнилью, тухлый ты старикашка, хватит занимать место на земле, уступи его молодым, им встать некуда! Пора уже тебе помереть, давно пора!
Ты, вероятно, услышал, как мы с Лю Чжаоху тебя браним. Сегодня, на пятьдесят второй год нашего ожидания, ты наконец объявился.
[5] Сунь Ятсен (1866—1925) — китайский революционер, основатель партии Гоминьдан, после смерти был назван “отцом нации”. В своем предсмертном завещании (завете) Сунь Ятсен призывает к борьбе за свободу и равенство и говорит, что “революция еще не завершена”.
[6] Юный сирота, прославленный как образец альтруизма и верности коммунистическим идеалам, пример для подражания. Впервые лозунг “Учитесь у товарища Лэй Фэна!” прозвучал в 1963 г.
[2] Американское военно-воздушное подразделение, воевавшее на стороне Китая в 1941—1942 гг.
[1] Цзяннань — историческая область в Китае к югу от реки Янцзы. — Здесь и далее примеч. перев.
[4] “Организация американо-китайского специального технического сотрудничества” (англ. Sino-American Special Technical Cooperative Organization).
[3] Мера длины, около 0,5 км.
иэн фергюсон: боевые товарищи, хаки, нежданная гостья и так далее
Я пришел почти сразу. Если бы вы сейчас стояли на кладбище в пригороде Детройта, вы бы сами увидели, что цветы на моем надгробии еще не поблекли и не увяли.
Вы, может быть, заметили, что на мне та самая форма цвета серого хаки, которую мы носили в лагере. Вообще-то у меня в чемодане припрятана форма ВМС, сшитая в Шанхае на заказ, в отличном состоянии — единственное обмундирование, которое я надевал в Китае. Шанхайским портным, наверно, и не снилось, что победа принесет им неиссякаемый источник дохода. С самого прибытия в Китай мы ни разу не примерили военную форму. Когда нас распределили по тренировочным лагерям, Майлз отдал приказ: мы могли носить только хаки, без фуражки и каких-либо знаков различия. Так мы избегали лишних церемоний вроде стойки смирно и отдания чести при виде командира, а главное, попади мы в руки японцев, они бы ни за что не поняли, кто мы такие.
Осенью сорок пятого, когда мы наконец распрощались с захолустной Юэху и приехали в Шанхай, наши сердца трепетали от нетерпения. Военные тогда говорили: “Шанхай — это Шанхай. Шанхай — это не Китай”. Шанхай вобрал в себя чудеса со всего света, одному только Китаю не нашлось в нем места. Шанхай заставляет с собой считаться, в Шанхае ты надеваешь нарядный, новый с иголочки костюм и глядишь в оба. Первым делом мы узнали в гостинице адрес одного из старейших ателье и дали срочный заказ на синюю флотскую форму с платком-галстуком, белыми обшлагами, модными брюками клеш и нарукавной нашивкой: сверху восседает могучий орел, под его лапами — три алых шеврона. Это знак различия техника по вооружению первого класса. Пришло наконец и наше время показать себя, не все же одним летчикам и пехотинцам притягивать на набережной Вайтань взгляды красавиц в рикшах.
Форма ВМС из шанхайского ателье неизменно лежала у меня в чемодане и кочевала со мной из города в город. Она сохранила свой чистый синий цвет, лишь слегка полиняла, ткань на ощупь прочная, как медный лист. Даже спустя семьдесят лет аккуратные стежки и качество пошива делают Китаю честь.
Но этот мир я покинул, облаченный в серую униформу — соцработник узнал мою волю из завещания. Человек живет и сменяет сотню, тысячу костюмов, а умирая, забирает с собой лишь один из них. Я сделал эту невзрачную серую одежку своим саваном, потому что она напоминает мне о равенстве и достоинстве.
Знаю, вы заждались, но я ведь все-таки пришел, я первым делом к вам. Не смотрите на меня хмуро, мои сослуживцы, мои боевые товарищи.
Я умер, дожив до девяноста четырех лет. За свою долгую жизнь я, конечно, обзавелся приятелями. С одними я когда-то учился, с другими много лет работал, с кем-то сблизился благодаря общим интересам. Мы ходили друг к другу на свадьбы, в том числе серебряные и золотые, церемонии наречения имени, собирались по самым разным поводам, дети друзей становились нашими крестниками и крестницами. Я вверял друзьям свои будни, свои радости и тревоги — но не жизнь. Поэтому они всего лишь друзья, а не боевые товарищи.
Я берегу эти слова — боевые товарищи, как восточная девушка бережет целомудрие, я не дарю их первому встречному.
До войны мы с вами не были знакомы, после войны связь прервалась. Как-то раз я написал пастору Билли по американскому адресу, который он мне оставил. Письмо месяцами переходило из рук в руки и наконец вернулось обратно, теперь-то понятно почему. Через пять лет после того, как мы расстались, я побывал на встрече инструкторов, где ребята заговорили о деревне Юэху, о прошлом, вспомнили Буйвола, Сопливчика и Лю Чжаоху. Я расчувствовался и, возвратясь ночью в гостиницу, не утерпел и написал Лю Чжаоху письмо. Я и так знал, что оно, скорее всего, пропадет, ведь в этой стране происходили тогда эпохальные перемены. С тех пор я уже не пытался с вами связаться и никогда больше о вас не слышал.
Пусть наши жизни переплелись совсем ненадолго, вы все равно остаетесь моими боевыми товарищами.
В то время я служил инструктором от американской стороны, а ты, Лю Чжаоху, был моим курсантом. Принятая в Китае культура почитания наставника проложила между нами пропасть. Но когда нас посылали на задание, вся эта иерархия переставала что-либо значить, потому что наши жизни висели на тонкой веревке, один конец веревки держал ты, второй — я, твой промах был моим промахом, а мой — твоим. Мы могли вместе выжить или же в один миг вместе погибнуть. Поэтому мы оберегали друг друга.
Помню тот ночной марш, когда мы продвигались по горной тропе в кромешной темени. Мы боялись угодить в засаду, и нам нельзя было ни курить, ни выдавать себя звуком. Ты легонько похлопал меня по плечу, и я понял, что иду по самому краю. Это была твоя страна, твоя земля, твои горы, ты знал их пароли и шифры, а я — нет. Твой сигнал спас меня, еще шаг — и я бы, наверно, рухнул в бездну ущелья и разбился вдребезги. Я доверил тебе свою жизнь, а это самое большое доверие в мире. Поэтому ты стал моим боевым товарищем, а они не стали.
Или вот, например: мы однажды узнали из надежных источников, что через два дня, ночью, в девяноста с чем-то километрах от нас проедет поезд с важным для японской армии снаряжением. Мы заранее прибыли пешком на место и затаились неподалеку от железной дороги. Ежедневные нападения на японские грузовые составы кое-чему научили противника. Снаряжение везли во всех вагонах, кроме первого, его теперь оставляли пустым — на случай подрыва. Японцы так растянули линию фронта, что не успевали с поставками, снабжение превратилось в тяжелый камень, который давил им на нервы.
Вообще-то удача отвернулась и от нас: ряд наших атак провалился, мы даже потеряли нескольких курсантов. С тех пор мы не рвались напролом. Вместо этого мы прибегли к новому устройству для индукционной детонации. Оно срабатывало только при определенном весе вагона, так что уловки японцев с “пустышками” больше не могли нас одурачить. В тот день мы впервые применили наше “оружие нового поколения”, а управлял этой штуковиной не кто иной, как ты, Лю Чжаоху. Ты сжимал в руке детонатор и ждал моего взгляда, чтобы понять, в какую секунду и на каком расстоянии привести устройство в действие. Этот взгляд все решал, от него зависело и поражение объекта, и то, останется ли цел и невредим подрывник. Такая вот у меня, американского техника по вооружению первого класса, была суперсила.
Когда я только начинал вас учить, вы и слышать не хотели про дистанционное управление и взрывчатки замедленного действия. То ли дело оружие ближнего боя вроде ручной гранаты — мгновенный эффект, прямо на твоих глазах тела рвутся в клочья. Вам казалось, что военную победу, которую вы не видели сами, и победой-то назвать нельзя, — подобно тому, как жизнь, которой человек не готов рискнуть, и не жизнь вовсе. Я терпеливо, точно буром, пробивал мало-помалу ваше упрямство. Я твердил: потеря солдата, который прошел спецподготовку, это чудовищная растрата ресурсов, человеческих и материальных; лишь оставаясь в живых, можно успешно ликвидировать противника; план, который не предусматривает, что курсанты вернутся с операции, не стоит даже принимать в расчет. Вы это презирали и между собой называли меня трусом, говорили, что я боюсь смерти. Понемногу, со временем, я вас убедил, вы наконец вкусили радость от обладания той огромной разрушительной силой, которую дают особые технологии.
В тот день ты, Лю Чжаоху, сидел возле меня на корточках и ждал моего взгляда. Ты безоговорочно вверил мне свою жизнь, потому что я был твоим боевым товарищем.
Или взять тебя, пастор Билли. Ты не носил нашу серую униформу, твое имя не значилось в наших списках, ни в каких вылазках ты с нами не участвовал, и все равно ты для меня боевой товарищ.
Мы звали тебя Баскетбольным Билли, пастором Билли, но ты не знаешь, что у тебя было еще одно, тайное прозвище — Чокнутый Билли. Ты был совсем не похож на типичных американских священников, чинных педантов, которые только и делают, что пугают всех Божьим гневом. Ты надевал длинный халат, такой же, как у здешних крестьян, и гонял в нем на допотопном велосипеде от своей церкви до нашего лагеря и обратно. Чтобы полы халата не запутались в велосипедных спицах, ты поднимал их и заправлял в штаны, твои волосы, уже начинавшие редеть, раздувались на ветру, как одуванчик. У велосипеда не было тормозов, ты крутил педали назад, когда хотел остановиться. Так, вращая педали то в одну, то в другую сторону, ты разъезжал по горной тропе.
Ты был не только пастором, но и врачом, поэтому в церкви собирался самый разный люд: школьные учителя, мясники, крестьяне-чаеводы, ткачихи и даже бродяги-попрошайки. И среди твоих знакомцев непременно находился кто-нибудь, у кого шурин работал поваром в одном из кабаков уездного центра, а в этот кабак заглядывали и бандиты из тайных группировок “Цинбан” и “Хунбан”, и местная шпана, и сбытчики опиума; или чья-то тетушка служила кухаркой у японского офицера, и когда она подавала на стол закуску чатан, то невольно слышала обрывки разговоров, которые ей слышать не полагалось; или же чей-то сын учился в городской школе и сидел рядом с кровинушкой какого-нибудь чиновника из марионеточного правительства, и этот юный отпрыск был как нарочно отъявленным болтуном. Чутким, как у собаки, носом, проворным, как у змеи, языком ты вынюхивал и выманивал информацию, а затем садился на велосипед и спешил — педали вперед, педали назад — в тренировочный лагерь к разведчикам. Благодаря тебе наши взрывчатки замедленного действия срабатывали в нужном месте и в нужное время.
Старикан Майлз (хотя вообще-то ему шел всего пятый десяток) не уставал повторять, мол, наша безопасность зависит от того, какие у нас отношения с народом. “Почти каждый, кто завоюет доверие местных и заручится их помощью, сможет свободно передвигаться по их земле или, по крайней мере, всегда найдет обходной путь”, — резюмировал он впоследствии. А ты, американский миссионер, проживший в этих краях больше десяти лет, предупреждал нас: американцы должны не просто избегать конфликтов с китайцами, а еще и научиться искусно выдавать себя за коренных жителей.
По твоей подсказке мы стали носить китайскую рубаху, затягивать внизу ремешком штанины, надевать поверх носков соломенные сандалии (мы тогда еще не привыкли разгуливать босиком). Ты напоминал, что в среднем мы намного выше китайцев, поэтому, чтобы не привлекать к себе внимание, нам нужно освоить новую походку. Первое, что нас выдавало, — то, как мы двигались и как сидели. Ты раз за разом увещевал нас опускать плечи и переносить центр тяжести тела как можно ниже, а ноги всегда держать полусогнутыми. Ты говорил, что мы должны ходить с корзинами на коромысле, как это делают деревенские, но ни в коем случае не набивать их для вида рисом, бататом или машем. Это груз тяжелый, полную корзину нам не поднять, а полупустая вызовет подозрение. Нас выручал коровий горох. После сушки он становился совсем легким, мы заполняли корзину доверху, а в зазорах надежно прятали небольшое оружие — при необходимости его нетрудно было вытащить. Для пущего сходства с местными ты даже прописал нам акрихин — средство, которое лечит малярию и заодно окрашивает кожу в желтоватый цвет. Наш штатный медик был уже готов разозлиться, но ты знал, как его умилостивить — после нескольких кружек рисового вина он согласился, что идея хорошая.
Ты понимал, что мы тоскуем по дому. Однажды мы при тебе проклинали рис со свининой и люффой, бессменную нашу кормежку, так ты заявился на кухню, взял рубанок, которым остругивают дерево, перевернул его и показал повару, как строгать на нем картошку, а потом нажарил нам на здешнем сурепном масле картофельных чипсов, почти таких же вкусных, как дома у мамы.
На раме твоего велосипеда неизменно висел деревянный ящичек, который мы прозвали “сундуком с сокровищами”, потому что оттуда в любую минуту могла появиться какая-нибудь немыслимая диковина. Толстый молитвенник был там, наверно, единственной подобающей миссионеру вещью. Кроме него и нескольких лекарств на экстренный случай, внутри могли оказаться пачка-другая сигарет “Кэмел”, журнал “Тайм”, затертый и без обложки, банка шоколадных ирисок, бренди “Корбел” и молотый колумбийский кофе. Твои разношерстные приятели, которых ты бесплатно лечил, всегда находили способ отблагодарить тебя, добывая на черном рынке дефицитные товары из Америки, все то, что наши ребята с риском для жизни переправляли через “Горб” [7]. Но ты никогда не был спекулянтом: стоило левой руке взять подарок, правая уже несла его в общежитие инструкторов.
Бывало, среди “сокровищ” находились и пачки презервативов. Ты видел, как порой из нашего общежития выходят “улыбчивые девушки”. Ты боялся, что одиночество и глушь станут нам невмоготу, кто-нибудь нарушит приказ, уйдет в самоволку в город, где его и прикончат — японцы как раз назначили награду за каждого американского солдата, который участвует в секретной миссии. Ты рассудил, что лучше нам затаиться в норке и позволить себе маленький грешок, который сам Бог простит, чем помирать ни за что. По воскресеньям, когда мы одевались поприличнее и шли к тебе в церковь на службу, ты улыбался, точно большой ребенок. А если кто ленился и пропускал молитву, ты лишь качал головой и цокал языком — то ли с упреком, то ли с пониманием.
Ты день за днем заботился о наших жизнях и душах, поэтому, пусть мы не воевали бок о бок, ты все-таки мой боевой товарищ, а они — нет.
Знаю, вы прождали пятьдесят два года. Хотя нет, ты, пастор Билли, ждал меня семьдесят лет. Я понимаю ваше нетерпение и даже злость. Но не мне вам объяснять, что жизнь и смерть человеку неподвластны. Подобно тому, как пастор Билли горячо умолял небеса дать ему пожить, я вновь и вновь просил Господа послать мне скорую смерть. Мне было семьдесят два, когда жена покинула этот мир и забрала с собой мой вкус к жизни. В восемьдесят четыре я упал в ванной, и меня отправили в детройтский госпиталь для ветеранов. Инсульт, паралич, потеря речи — но не памяти. Я оставался в госпитале до самого конца. Лежа в палате, я все спрашивал Бога: зачем Ты тело приговорил к смерти и заточил в тюрьму, а разум отпустил на волю? Но не я сжимал пульт управления жизнью, не мне было решать, когда случится взрыв. Вас судьба наказала ранней смертью, а надо мной она посмеялась, обрекла на жалкое существование, заставив ровно десять лет пролежать на больничной койке.
А ведь я мог бы пожить еще. После того как в теле практически не осталось мышц, подчинявшихся указам мозга, расход жизненной энергии сократился до минимума — так масляная лампа, у которой низко прикрутили фитиль, почти не дает света, но горит долго.
Но ко мне пришла нежданная гостья.
В тот день, спустя десять лет, которые я провел в палате для хронических больных, сиделка сообщила мне, что в приемной ждет некая Кэтрин Яо, хочет меня навестить. Я перебрал в уме всех родных и друзей, кого мог вспомнить, человека с таким именем среди них не нашлось. Сыновья умерли раньше меня, а дочка уже пятнадцать лет как перебралась с мужем в Рио-де-Жанейро. Когда ты прожил без малого век, главное твое везение заключается в том, что ты был на похоронах чуть ли не всех своих знакомых; главное несчастье — эти люди не отплатят тебе любезностью за любезность, не придут, то есть не смогут прийти на твои собственные похороны. Да и не только на похороны, а даже просто в больницу. В последние годы ко мне в палату не заглядывал почти никто, кроме соцработника.
Долгая реабилитация отчасти вернула мне речь, только разговаривать было, считай, не с кем. Мне так хотелось, чтобы язык мог уступить новообретенную свободу рукам и ногам. В девяносто четыре года язык не больно-то и нужен, в отличие от конечностей. В общем, я без малейших колебаний согласился принять эту женщину по имени Кэтрин. Мне было одиноко, я мечтал поговорить с кем-нибудь из внешнего мира, пусть даже с незнакомкой.
Стоял конец июля, было сыро, не по-летнему холодно и хмуро, нити затяжного дождя рисовали на оконных стеклах дорожки из слез, за окном виднелись размытые, как на картинах Моне, георгины. Женщина вошла и встала рядом с койкой, молча рассматривая мое исхудалое, утонувшее в подушке лицо — обтянутый кожей череп. На ней были элегантная шляпка не по сезону и столь же элегантный, не по сезону, плащ. По ее чертам я не мог с уверенностью определить ее этническое происхождение или возраст, лишь седой завиток, который выскользнул из-под шляпки, да чуть сгорбленная спина под плащом указывали на то, что гостья уже вступила в “переходную зону” между зрелостью и старостью.
Неважно, насколько она изменилась, я все равно узнал ее с первого взгляда, хотя с той зимы, когда я прогнал ее с порога, минуло двадцать три года. Тогда ее звали не Кэтрин — видимо, она взяла себе английское имя для удобства. За все эти двадцать три года не было и дня, чтобы я не раскаивался в своем поступке, я даже думаю, что смерть жены и моя болезнь — это долгая, медленная расплата, которую мне назначил Господь, Божья кара. Все двадцать три года я не переставал ее искать. Я давал объявления в газеты, обращался на радио, пытался найти ее через боевых товарищей, с которыми служил в Китае, даже связывался с китайскими ведомствами, и все впустую, она словно исчезла с лица земли.
Кто мог подумать, что, когда я почти сдамся, она явится ко мне сама.
— Уинд... ты так похожа... на Уинд, — невнятно прошептал я.
К моему изумлению, палец на правой руке, которым я не мог шевельнуть десять лет, внезапно дрогнул.
Она расслышала мои слова. Я видел, как глаза у нее постепенно наполняются влагой. Она не стала брать в руки платок или салфетку, потому что не желала признавать свои слезы. Вместо этого она притворилась, будто поправляет шляпку, и слегка откинула голову назад, давая слезам неторопливо затечь обратно. Потом она прочистила горло и отчеканила:
— Не знаю я никакой Уинд.
Она извлекла из кармана элегантного плаща не менее элегантную визитную карточку и положила ее рядом с подушкой. Она сказала, что работает корреспондентом в какой-то известной вашингтонской газете, которая выходит на китайском языке. Их журналисты берут интервью у американских ветеранов, воевавших в Китае, чтобы выпустить памятный сборник в честь семидесятилетия победы над Японией. Она нашла мое имя в библиотеке Конгресса, в старых списках группы ВМС.
Английским она владела гораздо, гораздо лучше, чем двадцать три года назад. Только одну фразу она произнесла немного врастяжку, а больше не к чему было бы придраться, хотя thank you (“спасибо”) у нее по-прежнему превращалось в sank you. Она говорила деловито, как опытный корреспондент, ровным уверенным голосом, который, казалось, не допускал и намека на эмоции. Ее взгляд крепко, точно булавкой, пришпилил меня к месту, и даже когда она молчала, я понимал, кто из нас хозяин положения.
Я вдруг догадался, зачем она пришла. Она спешила показать мне, пока я не умер, что она знает, где я, и куда бы я ни отправился, она никогда не даст мне спрятаться от стыда. Она с головы до ног облачилась в доспехи, отгородилась от меня вежливостью, присущей лишь незнакомцам, чтобы я понял: она уже стерла меня из памяти. Она ненавидела меня, и это была не та ненависть, которую можно выразить словами. Ненависть выразимая — еще не ненависть. Настоящая ненависть не забудется, пока не исчерпает себя до конца, до самого донышка.
Спорить, доказывать что-то было бессмысленно, я совладал с собой и предложил ей сесть напротив. Сиделку я попросил побыть переводчицей — только она и разбирала мою странную послеинсультную речь. Я сказал Кэтрин, что моих сил хватит всего на одну историю. Язык подчинялся мне с трудом, поэтому говорил я медленно. Кэтрин включила диктофон и в то же время стала усердно записывать мой рассказ в блокнот. Пару раз она прерывала меня и переспрашивала то или иное слово, которое даже сиделка не сумела уловить. В основном же она слушала, опустив голову, отчего я не видел ее лица, и лишь когда ее дыхание становилось тяжелее, я смутно догадывался о том, что творится у нее на душе. Но эти потаенные чувства так и не всплыли на поверхность, она ни на секунду не утратила самообладания.
К тому времени, как история подошла к концу, я был измучен и слаб и лежал, как рыба, в которую втерли слишком много соли.
— Эта девушка, Уинд... больше вы о ней ничего не слышали?
Кэтрин долго молчала, прежде чем задать этот вопрос.
Я покачал головой.
— Память — такая хрупкая штука, — сказал я.
Я говорил правду.
В Шанхае, когда я сидел в своей новенькой синей форме в клубе для американских военных, расслабленно потягивая пиво (впервые после нашей с ним долгой разлуки), Юэху уже казалась мне далеким прошлым. Какие там три месяца, мне даже тридцати дней не понадобилось.
Пока я летел на самолете из Калькутты в США, мне тоже вспоминалась Уинд. А впрочем, даже не она сама, а то, как пастор Билли остерегал меня напоследок, хотя тогда меня задели его слова. Как ни крути, пастор Билли был старше на пятнадцать лет, отчетливее, чем я, слышал голос Бога, и понимал, что человеческая натура полна изъянов. Война — это одна вселенная, мир — другая, две вселенные — две разные дверцы, но прохода между ними нет.
На самом деле она тоже меня забыла. Спустя столько лет я до сих пор спрашиваю себя: а может ли быть, что Уинд забыла меня еще раньше, чем я ее? Иначе почему она так и не ответила на мое письмо? Огорчаться мне из-за ее молчания или радоваться ему?
Вернувшись в Америку, я иногда вспоминал Уинд — например, когда мчал в одиночестве по ночному шоссе или когда не мог уснуть. В эти странные минуты Уинд без всякого предупреждения вдруг врывалась в мои мысли. Но даже когда я думал о ней, я на самом-то деле вспоминал не ее, а себя в молодости.
Сиделка поднялась, чтобы измерить мне давление.
— Мистер Фергюсон уже давно столько не разговаривал, — заметила она.
Ее голос был тусклым, глухим, как будто что-то застряло у нее в горле — так полоснул по ней мой рассказ.
Кэтрин поняла намек, встала, собираясь уйти.
— Прощайте, мистер Фергюсон. Спасибо за вашу... незабываемую историю.
От моего внимания не укрылось то, что она с трудом подобрала нужное слово.
Как и то, что она сказала “прощайте”, а не “до свидания”.
Мы оба знали, что, как только она шагнет за порог, мы расстанемся навсегда.
Она уже повернулась ко мне спиной, когда я окликнул ее.
— Назови еще раз свое имя, то, с которым ты родилась, — медленно попросил я.
Она не ответила, хотя застыла на месте.
— Ты простишь глубокого старика?.. — прошелестел я. — Примешь извинение, может быть, последнее в моей жизни?
Я зажмурился, спрашивая, потому что боялся того, как она на меня посмотрит, когда обернется. Я боялся, как на меня посмотрит все в этой палате: стакан на столе, наполовину пустой, паук в углу, который уставил на меня глазища, многолетняя пыль в щелях жалюзи.
Она по-прежнему молчала, но я слышал, как дрожит, сталкиваясь с ней со всех сторон, воздух.
Наконец она заговорила:
— Ничто в мире не происходит без причины.
Она ушла, и воздух затих.
Следующие две ночи я пролежал без сна. В третью ночь я не сводил глаз с черных жалюзи, глядел на них до тех пор, пока они не стали светло-серыми. Лишь когда с дерева за окном донеслась первая песня зарянки, я наконец сомкнул веки.
На этот раз навсегда.
Я знаю, что мы с вами постепенно подбираемся к сути. Я уже давно, как только заблестели ваши глаза, понял, о ком вам не терпится поговорить, — о женщине, которую я зову Уинд. Точнее, о девушке. Мы и собрались-то здесь прежде всего из-за нее. Если представить, что жизнь каждого из нас — это окружность, тогда она — точка пересечения трех окружностей. Вам хочется заговорить о ней, но вы не решаетесь, у вас не хватает духу. Но я уже разбил лед, так что давай начнем с тебя, Лю Чжаоху. Ты знал ее гораздо дольше, чем я или пастор Билли. Ее жизнь до тренировочного лагеря остается для меня загадкой. Помоги нам разгадать эту загадку, расскажи о ее прошлом.
А может, и о том, что было с ней после.
[7] “Горбом” (the Hump) пилоты называли авиатрассу через Гималаи.
лю чжаоху: деревня сышиибу
Иэн, в твоей истории ее зовут Уинд, а в моей — А-янь.
К тому времени, как вы познакомились, она уже почти год жила у пастора Билли в Юэху, но родом она из другой деревни. Она выросла в Сышиибу, в сорока-пятидесяти ли от Юэху. По нынешним меркам это совсем рядом, но в ту пору люди, которых разделяло сорок-пятьдесят ли, могли за всю жизнь и словом друг с другом не перекинуться, поэтому А-янь и поселилась в Юэху, ей хотелось сбежать от своих земляков.
Деревня А-янь — это и моя деревня, мы оба из Сышиибу, и когда я сам был еще ребенком, я нянчил А-янь и кормил ее рисовой кашицей.
Свое название, Сышиибу, то есть “сорок один шаг”, наша деревня получила из-за реки. Река течет в глубокой низине, чтобы попасть к ней, нужно спуститься по длинной каменной лестнице. Вниз — сорок одна ступень, обратно — тридцать девять: одолев подъем на треть, добираешься до ямки, где когда-то лежал камень, и тому, кто знает дорогу, достаточно легонько оттолкнуться ногой от ямки, чтобы перескочить сразу две ступени.
Говоря “сорок одна” и “тридцать девять”, я имею в виду те месяцы, когда река в хорошем настроении. В сезон дождей или во время тайфунов, которые приходят, когда осень сменяет лето, река начинает безобразничать и может одним махом проглотить десяток с лишним ступеней. Дедушка Ян, самый старый житель деревни, рассказывал, что на двадцать первый год правления Гуансюя, осенью, Небо послало на землю дождь, который длился сорок девять дней. Когда дождь стих, дедушка Ян выпустил со двора уток, посмотрел вниз, и ему показалось, что он заплутал: лестница исчезла, верхняя плита еле выглядывала из воды.
Даже дедушка Ян при всей его древности не знал, когда проложили каменные ступени, сам он полагал, что сначала была река, были ступени и только потом появилась деревня, потому что деревня названа в честь ступеней.
Жители деревни носят одну из двух фамилий — не Ян, так Яо, у семьи А-янь фамилия Яо. Кто не Ян и не Яо, тот, значит, пришлый человек. Думаю, вы уже поняли, что моя семья родом из других мест.
Сышиибу с трех сторон окружают горы, вход и выход один, по воде. Река — ничем не примечательная, неширокая, но чтобы пересечь ее на сампане, все равно понадобится несколько сильных гребков кормовым веслом. Как сошел на берег, начинаешь подниматься по лестнице, чтобы попасть в деревню. Сорок одна каменная плита — в общем-то не так уж и высоко, но с того, кто не привык лазать по горам, семь потов сойдет, пока он поднимется наверх. Деревню с таким расположением трудно атаковать и легко оборонять, поэтому, хотя японские войска заняли порты по всему побережью от столицы до Гуандуна, в Сышиибу ни одного японца в глаза не видели. Захолустье вроде нашего не стоило того, чтобы тратить на него снаряды и солдат.
А-янь не сама до этого додумалась. Она не бывала нигде дальше уездного центра, откуда она могла знать, что происходит в столице, Гуандуне, Японии? Ее источником был дядя А-цюань, папин побратим. Дядя А-цюань и сам ничего не понимал в военных делах, его источником был сын Тигренок, который учился в уездной средней школе. Раз в месяц Тигренок возвращался домой, он уходил из деревни с рисом и соленьями, а приходил с новостями. Прислушиваясь иногда к чужим разговорам, А-янь поняла, что где-то там бесчинствуют японцы.
Тигренок — это я [8]. Впоследствии окажется, что все мои теории насчет “расположения” и боевой обстановки были не чем иным, как пустым лепетом школяра-недоучки.
Слушать-то А-янь слушала, но всерьез мои новости не воспринимала. Она понятия не имела, что это, собственно, значит — “бесчинствуют японцы”. Папа рассказывал ей, что лет тридцать назад жители Сышиибу поругались с крестьянами из соседнего Люпулина из-за куска каменной плиты на границе двух деревень. Мужики, мальчишки и псы Сышиибу и Люпулина все как один бросились в бой, драка продолжалась с восхода и до заката, до тех пор, пока не стало так темно, что невозможно было различить, где свои, где чужие. На следующее утро увидели, что повсюду валяются выбитые зубы, а псы и свиньи, которые рыли землю, еще долго потом разгуливали с красноватой грязью на носах и пятачках. Как бы японцы ни “бесчинствовали”, куда им до той потасовки? Деревни много лет не желали мириться, и наконец старики взялись за дело, накрыли столы, выставили водку — и вот, пожалуйста, разве мы теперь не ладим, разве наших девушек не сватают за их парней? Так что А-янь не придавала слухам особого значения.
История А-янь длинная, мне придется перескочить через детство и начать с ее четырнадцати лет, то есть с того года, когда меня под надзором выслали из школы домой.
На следующий день после того, как меня препроводили в деревню, А-янь с бамбуковой корзиной за спиной отправилась спозаранку к реке, чтобы постирать одежду. К тому часу, когда она шагнула за порог, туман еще не рассеялся, карнизы, серая брусчатая дорога, ветви деревьев, кошки и собаки, шмыгавшие по улицам в поисках еды, — все это было видно, но не четко. В такую погоду можно хватануть рукой и прямо из воздуха набрать пригоршню воды.
— Давай-давай, прижимай. Еще чуть-чуть прижмет, и в этом году будет славный урожай.
Так приговаривал мой папа — тот, кого А-янь звала дядей А-цюанем, — попивая с ее отцом вино. “Прижимай” — это про утренний туман. А-янь засмеялась над тем, с каким видом он это сказал, как будто у тумана и правда есть вес.
