автордың кітабын онлайн тегін оқу Бешеный
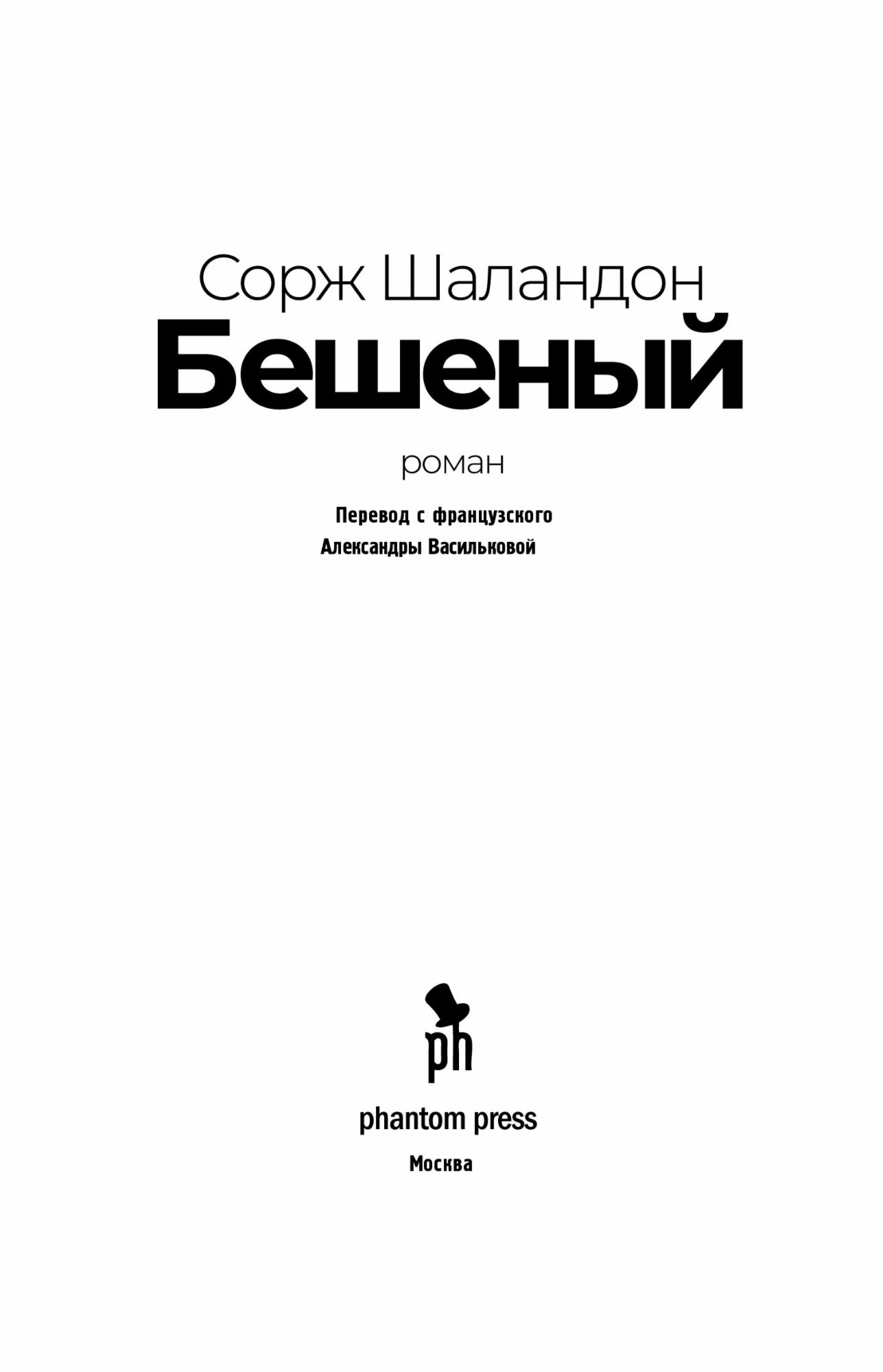
Всем тем,
Кто смертельно скучал в школе
или
Кого дома доводили до слез,
Кого в детстве тиранили учителя
или
Лупили родители,
Я посвящаю эту книгу.
Жюль Валлес, “Дитя”
1
ЗЛЫДЕНЬ
11 октября 1932 года
Все жадно и беззвучно жрут, согнувшись над своими собачьими мисками, лакают похлебку, подбирают хлебом остатки. Шуметь за едой запрещено. В столовой должна стоять тишина.
— Тишина, понятно? — рявкает Шота´н, запугивая новеньких.
Разговаривать можно только во дворе, в других местах за каждое словечко наказывают.
Наш тюремный комендант и переглядываться не дает.
— Все по глазам вижу, бандюги.
Этот бывший унтер-офицер в тесном синем мундире расхаживает между столами.
— Все подлянки вижу, какие вы замышляете.
Его фуражка охранника среди наших бритых макушек. Все — Муаза´н, Труссело´, Каррье´, Пчела, Малыш Мало´ и даже Суда´р, который у нас верховодит, — вжимают головы в плечи. Наша шайка негодяев выглядит побежденным войском.
— Все вы дефективные!
Шотан подходит ко мне, хлопает по столу форменной фуражкой.
— Злыдень, смотри в тарелку!
Я смотрю ему в глаза.
Знаю, сейчас он мне влепит.
Он прочищает горло — признак подступающего гнева.
— Злыдень!
Никто и никогда не имеет права называть меня так. Это мое боевое прозвище, и я немало зубов повыбивал, завоевывая его. Только я произношу его вслух. Я его отстаиваю, а оно держит в страхе других. Ни один заключенный, ни один надзиратель, даже сам начальник Кольмо´н, не должен его употреблять. “Злыдень” — это я сам и моя ярость. Мое поле брани.
Шотан приближается. Я сижу на краю скамьи, пятый в своем ряду. Вижу перед собой только согнутые спины. Даже в тюрьме люди в столовке разговаривают, сидя друг к другу лицом, как в ресторане. Но здесь, в исправительной колонии для несовершеннолетних правонарушителей От-Булонь, нас разместили рядами друг другу в затылок, и оборачиваться запрещено.
— Смотри в свою тарелку!
Жестяная миска. У нас в Майенне свиньи жрали из жестяной кормушки.
Гляжу на него в упор. Злобно ухмыляюсь:
— Ты хотел сказать — в свое корыто.
Надзиратель молча хватает стоящий передо мной помятый кувшин. Металлическая оплеуха. Кувшин ударяется в скулу. Вода выплескивается, я весь мокрый. И теперь этот дуболом Шотан нависает надо мной, не зная, что делать дальше.
Когда он велел мне опустить глаза, я схватил свою вилку — один зубец обломан, три заточены. Кому-то не поздоровится. Надзиратель заметил, что я сделал.
— Смотри в тарелку!
Я бросаюсь на него. Он, гад, высокий, ростом с меня, и весит столько же, только мне восемнадцать лет, а ему пятьдесят с лишком. Питомец нападает на хозяина, сбивает с ног. Он, зашатавшись и взмахнув руками, валится на спину, голова ударяется об пол. И вот я уже сижу на нем верхом, вцепившись в воротник его мундира, и ору, глядя ему в глаза. Надавливаю ему на горло. Высовываю язык, кручу им. Лакающий пес.
— Что, начальник, дефективный я?
Стукаемся лбами, его страх против моей радости.
— Отвечай, начальник, дефективный — это вот такой?
С другого конца столовой с ревом бегут охранники, подковки скребут по цементному полу. Не выпуская добычи, подбираю фуражку Шотана, нахлобучиваю до самых глаз.
Он — каторжник, я — охранник.
— Злыдень, не валяй дурака! Отпусти меня!
Голос у него сдавленный. Глаза безумные. Лицо посинело.
Охранники втроем кидаются на меня, а я кусаю свою жертву. Вгрызаюсь в глотку. Волчье пиршество. Но гнилыми зубами человечьей шкуры не прокусить. Она прочная, упругая, не рвется. Не могу добраться до мяса. Вкус крови — и больше ничего. Меня лупят дубинками, и под градом ударов челюсти разжимаются. Они всей толпой против меня. Вздергивают на ноги, защелкивают наручники. Один из надзирателей, огрев меня плеткой по затылку, плюет мне в лицо:
— Вот сволочь!
Меня трясет. Всех трясет. Два свистка.
Гудящую как улей столовую призывают к порядку.
Все кончено. Меня запрут в штрафном изоляторе, посадят на хлеб и воду. Или отдадут под трибунал, а потом отправят в Эйс.
— Если это повторится — отправишься в Эйс!
Исправительное заведение для бешеных. Самая страшная угроза.
Судар-каид [1] провел там три года. Он не распространялся насчет того, как там все было, но хвастался своим сроком. Это был знак отличия крутого парня. Оказавшийся пустышкой. Судар был слишком нежным для жесткого заведения в Вильнёве-сюр-Ло, и тюремное начальство за хорошее поведение перевело его на Бель-Иль.
Тюремный комендант с трудом садится, обхватив руками колени. Очухивается. Никогда еще его не укладывали на лопатки. Он, родственник премьер-министра Камиля Шотана (по его словам), сейчас похож на мальчишку, сверзившегося с велосипеда. Смотрит растерянно. Шея кровоточит. Его фуражка все еще у меня на голове.
Один из охранников ее с меня срывает.
■ ■ ■
Верзила Амбруа´з Шотан остановился рядом со мной, скрестив руки на груди. Прочистил горло. Нахмурившись, поглядел на меня свысока.
— Смотри в тарелку!
Тюремный комендант знал про мои припадки. Про мои бредни — так он их называл. Я рассказал про них врачу, а он, конечно, передал Шотану. Я бредил убийствами, чтобы не пришлось убивать. Я вдохновенно представлял себе, как перехожу к делу, луплю, горстями выдираю волосы. Крики, изумленные взгляды, страх. Ухо, расплющенное ударом кулака. Во рту привкус крови — соленый, металлический, тошнотворный. И даже чужих слез. После таких яростных вспышек меня знобило, трясло, мне самому было страшно. Только что, не вставая со скамьи, не поднимаясь с постели, глядя в свою миску, я ранил заключенного, убил охранника, разнес столовую, сбежал.
На этот раз я загрыз Шотана.
Я тяжело дышал, рука, сжатая в кулак на столе, дрожала. Другую руку я засунул глубоко в карман и перебирал, будто четки, мамину ленточку.
Лишь через несколько минут я пришел в себя. Понял, что ничего не произошло. Успокоился. Сказал себе, что это было не взаправду. Стояла тишина. Надзиратель видел, как я на него смотрел. Безумными глазами. Разинув рот. Я только что перегрыз ему горло, и он это знал. Он чувствовал, что, стоит ему отвернуться, я всаживаю вилку ему в затылок. Дырявлю его свайкой, стыренной в канатной мастерской. Смеясь, разбиваю ему лоб о край стола. Он угадывал мои мысли. Глядя на меня, он видел свою смерть.
Он наклонился ко мне:
— Опусти глаза, Бонно´!
Я опустил глаза.
Труссело, Каррье, Судар, Пчела и все остальные — тоже.
— Тихо, Мало!
Я сидел с краю. На своем обычном месте. Шотан двигался дальше между рядами колонистов. Так нас называли в городе. А он обзывал “дефективными”. Насупленные, мы представляли собой угрозу. Улыбающиеся — опасность еще большую. Он думал, что мы усыпляем его бдительность, а сами замышляем какое-то темное дело. И был прав. Мы никогда не успокаивались. Даже уставившись в свою миску, я что-то затевал. Я давал ему отпор, я пускал ему кровь. Я задирал и других тюремщиков. Я наказывал придурков, тупо, как бараны, выполнявших приказы. Я лупил всех Сударов, всех крутых, драчунов, крикунов, тех, кто лапал малышей в душевой, кто нарывался, кто мне грубил.
Я взял свою грязную ложку и стал выскребать остатки еды. От меня остались только затылок и спина. Негодяя укротили, он покорно ткнулся лбом в бортик миски.
■ ■ ■
За два дня до того сбежали семеро наших, и я хотел урвать свою долю ярости — хотя бы так, не выходя из столовой. Наших товарищей вывели погулять, они, воспользовавшись этим, удрали, и теперь за ними гнались по пятам охранники, крестьяне и рыбаки.
Начальник цеха говорил об этом с воспитателем, а Труссело тогда дежурил и подслушал разговор, навострив уши и водя по полу шваброй как можно медленнее.
Два дня проскитавшись в ландах, воспитанники взломали дверь бывшего замка Николя Фуке´, когда-то купившего Бель-Иль за бесценок. Одно время у колонии в этом здании был карцер.
Теперь маленький форт принадлежал парижскому зубному врачу, который в нем не жил. Семеро беглецов под предводительством колониста Делива´ захватили пустующее здание. Они украли пистолет, две рапиры и саблю. Кроме того, они разграбили винный погреб и хлестали из горла дорогие вина. Соседи сообщили жандармам, те примчались, стали палить в воздух, выкурили колонистов из замка, и они, прихватив хлеб и брус масла, сбежали в леса. Нашли их шесть дней спустя — они прятались в пещере на берегу. Вышли с саблей наголо и сказали, что скорее умрут, чем вернутся в колонию. Военные пообещали препроводить их, как заведено было в цитадели, в тюрьму в Лорьяне. И тогда главарь, Делива, и все остальные сдались под градом камней, комьев земли и плевков.
— Зачинщиков будут судить, а их сообщников отправят в Эйс, — прибавил начальник. И повернулся к Труссело, задумчиво шлепавшему тряпкой по плиткам пола: — А ты что здесь делаешь? Пошевеливайся, бездельник!
Вот так мы узнали о побеге.
■ ■ ■
В тот вечер тюремные сторожа лютовали. Выстроили нас вдоль стен, а было холодно, лил дождь.
— Поднимайтесь один за другим, расходитесь по камерам! — проорал Шотан.
Первыми, хватаясь за перила крутой наружной лестницы, стали подниматься младшие. Пятнадцать мокрых, скользких деревянных ступенек.
— Следующий! — выкликал Шотан, как только один из заключенных добирался до верха.
Дети поднимались медленно, стуча деревянными подошвами.
— Нам тут из-за вашей дурости до завтра торчать? — проворчал кто-то в очереди.
Шотан кинулся к нам, выхватил плетку:
— Кто это сказал?
Я узнал бас Марка Озене´. Все опустили головы.
Надзиратель скрипнул зубами.
— Наказать первого попавшегося или оставить вас всех на улице?
Молчание.
— Луазо´, это был ты?
Мальчик распахнул огромные глаза. Крутые вроде Озене называли его Мадмуазель. Белокожий, синеглазый, роба на нем болталась. Он никогда ни на что не жаловался. Головы не поднимал, ходил, прижимаясь к стенам, соглашался на любую тяжелую и грязную работу, и единственной его радостью в жизни было дудеть в кларнет в духовом оркестре. Камиль Луазо был сиротой. В чем состояло его преступление? Родители бросили его, двенадцати дней от роду, ночью подкинули младенца в пеленках к дверям собора Сен-Корантен в Кемпере. Вот за это его и заперли здесь в двенадцать лет — до совершеннолетия. Потому он и жил, не поднимая глаз.
Шотан прицепился к самому слабому.
Приподнял ему подбородок рукоятью плетки:
— Ну что, ангелочек? Шкодим, прячась за спинами старших?
Луазо опустил голову.
— Хочешь заночевать на улице?
Тот мотнул головой. Дождь барабанил по его бритой макушке.
Надзиратель оглядел нас. Прочистил горло.
— Пусть вместо вас накажут эту жалкую девчонку, так, да?
Я опустил голову.
— Это устроило бы того подонка, который не желает признаваться?
Шотан прошелся вдоль ряда. С козырька у него текла вода. Я знал, что он всматривается в каждого из нас. Меня знобило.
— Вот только этого вы не дождетесь.
Я поднял глаза. Надзиратель положил руку на тощее плечо маленького колониста:
— Не дождетесь, потому что Луазо сейчас по-хорошему назовет нам имя того, кто валял дурака, и все пойдут спать. — Он навалился на мальчика так, что не вздохнуть. Наклонился к его опущенной голове: — Назовешь, Луазо?
Молчание.
— Не слышу, Луазо.
Вздох.
— Луаааааааазо? — пропел надзиратель.
И влепил ему пощечину. Неожиданно. Подло.
Мальчик заслонился руками. Он всегда так делал.
Мышиный писк:
— Это Озене, начальник.
Шотан отпустил его. Оглядел свой отряд. Улыбнулся, почесал за ухом.
— Я не расслышал.
— Это Озене, начальник, — дрожащим голосом повторил Луазо.
Озене повернулся к мальчику, дернувшись, как при звуке выстрела. Хотел было шагнуть к нему, но я схватил его за руку.
— Сволочь, ябеда! — заорал Озене.
А потом заложил руки за голову и встал на колени. Мятежник сдался.
На второй лестнице никого не было. Все уже легли спать. Шотан трижды свистнул, вызывая подмогу. Прибежали два надзирателя из второго блока. “Воспитателя”, как сказали бы некоторые подлизы, отмеченные за примерное поведение, именно так называлась эта должность после реформы. Исправительную колонию переименовали в дом надзираемого воспитания, а охранников — в воспитателей. “Надзиратель” слишком отдавало тюрьмой. А “воспитатель” навевает мысли о летнем лагере. Они даже сменили полицейские кепи на фуражки. Подбежав, оба встали навытяжку. Один был пьян. Его шатало, глаза блуждали. Шотан указал на Озене:
— Вот этот ночует под открытым небом.
Охранники схватили Озене, подняли. Он не отбивался.
Потом Шотан велел нам гуськом идти наверх, молча.
Самые младшие спали на чердаке, по восемь человек в спальне. Железные кровати, комоды, постель по утрам складывали и убирали. Старшим полагалась зарешеченная камера. Кроличья клетка, запиравшаяся снаружи. Я был один в своем крольчатнике, и меня это устраивало.
Озене прикуют наручниками к перилам, в грозу. На несколько часов или на всю ночь. Он только что неделю провел в карцере. Теперь новое наказание.
Пока не выключили свет и пока нас не заперли, я потащил Муазана и Каррье к общим спальням. Начальник, оставшийся внизу с наказанным Озене, вот-вот поднимется туда. Надо действовать быстро. Я напялил берет, замотался шарфом. Луазо раздевался, стараясь укрыться за дверью шкафа. Остальные при виде нас повернулись к стене.
— Эй, стукач!
Это сказал я.
Кларнетист дернулся. Он стоял в одних трусах. Кожа да кости. На спине царапины, на ногах синяки. Он лег на глинобитный пол, свернулся клубком. Знал, что его ждет. Я всего один раз пнул его ногой. Не в голову и не в живот. Другого я мог бы убить. Донести на товарища и оставить его на ночь под дождем — за такое полагается расплата. Но когда Луазо сжался на полу, я увидел выпавшего из гнезда воробышка, насквозь просвечивающего птенца — нежная кожа с голубыми жилками, короткие, реденькие перышки волос. Я увидел израненное и изношенное тело, покрытое синяками. Больной, истощенный мелкий предатель. Наподдать ему по заднице — и хватит с него.
— Легко отделался, — проворчал Муазан, когда мы возвращались в свои камеры.
Андре Муазан был барабанщиком в оркестре колонии. Он лупил свой инструмент так же яростно, как и всякого, кто попадался ему на пути.
— И больше он ничего не схлопочет? — спросил Каррье.
— Ничего, — ответил я.
Камилю Луазо было тринадцать лет.
Озене простоял прикованным до двух часов ночи и рухнул на ступеньки. Позвали начальника, тот испугался. В прежние времена От-Булонь хоронила немало колонистов, но нынче начальство уверяет, что бережет воспитанников.
Вернувшись во второй блок, Озене спросил, отплатил ли я за него стукачу по справедливости, и я сказал — да. Но уже назавтра Луазо снова появился в швейной мастерской, куда крутые приходят выбирать себе “подружек”. Он не хромал, не было ни следов на лице, ни руки на перевязи. Озене больше вопросов мне не задавал. А Луазо меня не выдал.
■ ■ ■
Мы целую неделю надеялись на возвращение беглецов из форта Фуке, но они не вернулись, и больше никто о них не упоминал. Один раз мы все же увидели их призраки — на ведущей к цитадели каменистой извилистой дороге, за папоротником и ежевикой. Я вместе с другими был в наряде по ту сторону стены — мы выносили параши за ворота. Озене заметил их и толкнул меня локтем.
Белая процессия, шествие кающихся грешников. Сгорбленные, за спинами тяжелые мешки на лямках. У некоторых на головах береты, у других островерхие соломенные шляпы. Один с непокрытой головой. Все шаркали деревянными подошвами.
— Раз-два! Раз-два! — долетали до нас крики охранников.
Призраки брели в ногу.
— Виньи, хочешь отведать моей дубинки?
Озене взглянул на меня и незаметно подмигнул. Клеман Виньи был одним из семерки мятежников.
Для начала — тяжелые работы, потом отправят в тюрьму или переведут в колонию с более строгим режимом. От рассвета до заката они добывали песок в бухте, расположенной в двух сотнях метров от цитадели, и перетаскивали мешки по крутым тропам вдоль ее стен. Бесплатная рабочая сила, чтобы содержать в порядке железнодорожный балласт. Другие таскали в заплечных корзинах морскую гальку, чтобы мостить дороги Франции.
— Знаешь, по мне, лучше выносить за друзьями парашу и разбрасывать дерьмо по полям, — улыбнулся Озене.
Через несколько дней после перевода на Бель-Иль его тоже приговорили к этой “пытке камнями”, так у нас это называлось. Целую неделю наполнять мешки песком и перетаскивать их. Это было в июле. Ломтем серого хлеба не наешься. Некоторые, не выдержав тяжелой работы, теряли сознание от голода и усталости. И все успевали задолго до конца дня выхлебать свою четверть литра колодезной воды. Кое-кто пробовал пить морскую воду, но от нее становилось плохо. На третий день Озене и еще трое, чтобы продержаться, стали пить свою мочу. Они поклялись сохранить это в тайне, но охранник застукал одного из них, когда тот писал в стакан.
— Ты свинья! — заорал он и замахнулся дубинкой.
Наутро стаканы у них отобрали.
■ ■ ■
Я только раз попытался выбраться за ограду. Колонию окружает шестиметровая стена, скрывающая от нас океан. Мы были втроем. Мне тогда было тринадцать, и меня только что привезли в От-Булонь. Мы решили, воспользовавшись тем, что ведутся работы, забраться в кузов со строительным мусором и старыми досками. Мои друзья так и сделали, а я не решился. Бежать? Но куда? Мы на острове. За нами погнались бы жандармы, и наш побег завершился бы на пляже Пор-Гана или на скалах. Украсть лодку? А дальше что? Перевернуться, высматривая огни Киброна? Или даже так: мы в лодке, гребем к берегу. И что? Нам все удалось? Направляемся к Оре? К Ванну? С нашими каторжными рожами, в наших робах, белых рабочих куртках, в которых мы смахиваем на штукатуров? Ага, как же! Стянуть шмотки с веревки в чьем-нибудь саду, нахлобучить картуз, найти велосипед, рвануть к вокзалу, сесть в поезд без билета и спрятаться на подножке? А что потом? Добраться до Парижа, затеряться в толпе, связаться с апашами [2] и батиньольским сбродом. Круто изменить жизнь. И что? Украсть с прилавка окорок, услышать свистки жандармов и топот погони, поскользнуться, растянуться на мокрой мостовой и получить сначала утяжеленной свинцом пелериной, а после дубинкой. А затем — тебе, мальчик, сколько лет? Тринадцать? Тебя ждет морская исправительная колония, Бель-Иль. Ты только что оттуда? И немного задаешься? Тогда тебя ждет Эйс, донжон преступников. Ну и вот, я отказался от побега. А остальных в тот же вечер поймали в ландах.
Рифы, течения, штормы. С острова не сбежишь. Идешь вдоль его бесконечно тянущихся берегов, проклиная море. Хотя некоторые попытали счастья.
Я еще помню, как это было. К тому времени я провел здесь два года. Трое старших вышли в море на шлюпке, с ними был всего один моряк-надзиратель. Они избили его, связали, бросили в трюм, угнали лодку и переправились на континент. Их задержали, едва они сошли на берег. В другой раз четверо заключенных в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет подняли бунт на борту “Сарьена”, учебной лодки. Главарем у них был Гоазампи. Мелкий воришка. Они до смерти забили веслами охранника Бурлю, а потом вздернули его на мачте, на стаксель-фале. На этот раз их искали всем островом. Их окружили, и они чудом избежали самосуда. Их надежды закончились в Лорьянской тюрьме. И им еще повезло. Тюремный священник как-то сказал нам, что бухта Киброн — кладбище колонистов, которых пощадили болезни.
Шотан, Ле Гофф, Наполеон, Ле Росс, Шамо´, Чубчик, Крыса, все эти громилы в мундирах, усачи-тюремщики, проспиртованные горланы, житья нам не дают. Они говорят — это исправление. Говорят, что хотят наставить нас на путь истинный. Внушая нам, что такое честь, они колошматят нас дубинками и грязными башмаками. Они оскорбляют нас, жестоко истязают, наказывают, отправляя в карцер, — это тесная и темная каморка, могила. С утра до ночи нам кто-то угрожает. Они гнут нас, ломают, перемалывают, месят, как тесто. Хотят, чтобы мы стали мягкими и гладкими, как белая булка. В полицейский участок всех лодырей, паразитов, хулиганов. Влепить как следует выродкам, дефективным, неисправимым. В карцер гаденышей. Младших ломать, старших давить, душить мечты одних и ярость других. Превращать этих висельников в будущих солдат, потом в мужчин, потом в ничто. В призраков, которые будут скитаться по жизни, как по тюремным коридорам, — заискивающие, робкие. Поплетутся на завод пристыженные, как на исповедь. Никогда не взбунтуются. По субботам будут забываться на танцах с какой-нибудь девчонкой. И женятся на ней спьяну или по залету. Нищенская жизнь, безрадостная, беспросветная. А потом однажды утром ни с того ни с сего умрут с застывшей на лице маской бель-ильского мальчика.
Морская и сельскохозяйственная исправительная колония От-Булонь построена на земляной насыпи перед наружным рвом цитадели Вобана. Отвесная черная стена над обрывистыми бухтами должна подавлять малолетнюю шпану. Нас истязают работой, наши тела морят голодом, наши умы иссушают. Наставники говорят, что хотят сделать из нас матросов, но занятия по управлению кораблем, в парусной и канатной мастерских нас только выматывают. На ферме Брюте они хотят сделать из нас крестьян, но полевые работы — наказания, чтобы вытянуть из нас все силы, и больше ничего. После этого от нас остаются только тени, которые ночью валятся на свои подстилки. Но зачем нас изнурять, если мы — узники острова? Высокая ограда, пять унылых бараков, зарешеченные общие спальни, столовые с их тишиной — ничто на суше не сравнится со свирепостью моря. Даже наши охранники в их фуражках как у сторожа на переезде, в куцых штанах, жеваных куртках с недостающими пуговицами, с их лоснящимися от дешевого вина и порыжевшими от табака усами — всего лишь прислуга океана. Это он — наша высокая ограда. Наша настоящая тюрьма. Океан — наш самый безжалостный сторож. Тот, кто всегда за нами надзирает и решает, жить нам или умереть.
[2] Апаши — преступная субкультура в Париже, существовавшая в конце XIX — начале XX века. Получила свое название в честь индейцев апачей, так как якобы не уступала им в жестокости и “дикости”.
[1] От араб. “каид” — “вождь, предводитель”. — Здесь и далее примеч. перев.
2
АДСКОЕ ПЛАМЯ
11 июня 1933 года
Доктор Верха´г разглядывал меня. Я сидел на кровати в трусах, упираясь в пол босыми ступнями.
— Как ты это проделал, крутой парень?
Я пожал плечами:
— Никакой я не крутой.
Врач устало отмахнулся:
— Ладно, Злыдень, как ты это проделал?
Я не стал цепляться к словам. Посмотрел на него.
— Как я проделал что?
— Рвота, жар. Как ты этого добился?
В соседнем боксе, за палатой для заразных, медсестра бинтовала ногу Малыша Мало, колониста из столярной мастерской. Он повредил ее, пытаясь поднять слишком тяжелые для него доски. Медсестра была из Созона. В белой блузке с длинными рукавами, в белом переднике и с длинным покрывалом, плотно обхватывающим лоб, она напоминала монахиню. Мы не знали, как ее зовут, и называли Рыжей из-за веснушек на светлой коже и выбившихся рыжеватых прядок. Она приходила в исправительную колонию два раза в неделю и единственная разговаривала с нами как с детьми.
— Ты баловался с ядовитыми растениями?
Рыжая задала вопрос, сидя ко мне спиной и продолжая делать перевязку.
Я не ответил.
— Ты пил отвар из ядовитых ягод? — спросил Верхаг.
Некоторые воспитанники травились, чтобы заболеть. Другие натирали глаза крапивным соком. На кухне один парень отрубил себе палец. Его перевязали и на два месяца отправили в карцер. Я тайком съел сырыми и нечищеными три старые грязные картофелины. С утра у меня начался понос и болел живот.
— И все это как раз в тот день, когда тебя переводят в сельскохозяйственное отделение помогать на сенокосе. — Он улыбнулся. — Неудачно вышло, да?
Я промолчал.
— А знаешь, какая расплата ждет за умышленное членовредительство?
Да, я знал. Суд, полицейский участок, штрафной изолятор.
— Мсье, клянусь вам, я ничего такого не делал!
Он мне не верил. Четверо колонистов, которых, как и меня, отправили на ферму Брюте, взбунтовались, опрокинули кровати и отказались выходить из спальни.
— Мы моряки, а не деревенщина! — вопил один из мятежников.
Я тоже больше не был майеннским крестьянином. Не хотел возвращаться к сену и коровьим задницам. Разве что в стогу мог бы поспать.
Мы уже гордились тем, что мы — матросы, пусть и ненастоящие. Даже не юнги, а горе-мореходы, выполняющие маневры на суше, на учебном трехмачтовике. Мы повторяли действия моряков на шхуне длиной двадцать три метра, выброшенной на берег, скованной бетоном на внутреннем дворе. Они хотят придирками и битьем сделать из нас помощников кочегаров? Так пусть бросают нас в трюм, привязывают к рее, как настоящих мятежников, только не сдают напрокат землевладельцу. Даже работающему на колонию богачу. Мы — заключенные, колонисты, а не бесплатная рабочая сила. Не сезонные работники и не батраки. В семь лет я собирал яйца и кормил свиней. Но сейчас мне восемнадцать. И семья меня бросила. А колония взяла под крыло? И хочет уберечь своего воспитанника от плохого влияния улицы? Исправить с помощью труда? Так зачем стесняться? Пусть учат меня настоящему ремеслу, какого черта! Я пришел с земли и про океан не знаю ничего. Если они хотят меня натаскивать, пусть поручат это волнам, ветрам и течениям.
Некоторые колонисты-моряки на несколько недель выходили в море на малом двухмачтовом паруснике “Араок”, добывали сардину у берегов Испании. А я выходил всего два раза на бретонской учебной лодке с красным парусом — и только. Я никогда не бывал в открытом море. Никогда не видел, как чайки пикируют на полные сети. Едва успел услышать, как хлопает фок на ветру, и ни разу не отдалялся от берега. Морская колония делала из нас никудышных моряков. Мы вставали в пять утра, чтобы заступить на вахту. Изображали маневры. Марсовые лезли на мачты, мы делали вид, будто готовимся к отплытию, бросаем якорь, ложимся на другой галс, осматриваем такелаж, паруса, занимаемся починкой, попусту поддерживаем все в исправности. Полчаса на обед в молчании. Потом занятия в классах. Навигация по огням, причаливание, ограждение фарватера, рулевое управление. И возвращение на палубу, а там — другие работы. Починка рыбацких сетей, нарочно порванных неделей раньше, проверка шлюпок на шлюпбалках, затем поверка, построение в колонны по три — и в столовую.
В море юнга рискует жизнью. Его качает и мотает по палубе, он обдирает руки о мокрые канаты. Это настоящий моряк. Но здесь, во дворе, сидя верхом на рангоуте корабля-призрака, я не рискую ничем, разве что упаду и разобью коленку о бетон. В море воспитанников треплет шторм, они возвращаются на берег гордые, удалые, ходят враскачку. Но флаг нашей шхуны в большом дворе свисает вдоль бизань-мачты. Трехцветный флаг хлопает только тогда, когда морской ветер дразнит нас поверх стены. В море каждый колонист, который драит палубу, получает паек молодого матроса морского флота: 150 граммов мяса, 20 сантилитров кофе, 25 сантилитров вина по воскресеньям и 3 сантилитра рома. Нам здесь не дают ничего такого. Размоченный в супе хлеб, овощи и вода. Но я не сдаюсь. Я надеюсь, что когда-нибудь меня вызовет наш главный боцман, прежде служивший в торговом флоте:
— Бонно выходит в море!
Три года они меня держат в канатной мастерской. Я работаю не столько на нашу школу, сколько на оснащение тюремной администрации. Ну и пусть. Пока не вышел в море, лучше буду скручивать канатные пряди, чем ворочать вилами.
Никогда больше не стану работать в поле.
Рыжая медсестра помогла Малышу Мало слезть с кровати. Нога заживала, но он все еще слегка хромал. Сепсиса удалось избежать. Врач вернулся за свой стол и что-то писал на листке бумаги.
— Что вы записываете? — спросил я.
Он не взглянул на меня.
— Пищевое отравление. Два дня в лазарете. (Вот и хорошо. Он попался на удочку.) Не благодари.
Удивленное лицо:
— За что благодарить-то?
Он поигрывал ручкой, крутил ее между пальцами.
— За то, что помог тебе избежать наказания.
Я хотел заспорить, но он прижал палец к губам:
— Пожалуйста, не заставляй меня об этом пожалеть.
Я уставился на свои башмаки.
Рыжая, вытирая руки полотенцем, подошла ко мне:
— Не ты ли вчера вечером чистил картошку?
Молчание.
Доктор Верхаг посмотрел на медсестру, покачал головой и улыбнулся:
— Ну вот! Я же говорил, что это пищевое отравление.
■ ■ ■
Врач меня не выдал. Я никогда на него не нападал. Даже в фантазиях. Моей ненависти не хватит на то, чтобы калечить этого седого старика. Не хватит злости, чтобы разбить его круглые очки, разорвать его халат, покорежить его ледяной стетоскоп. Доктор Верхаг ни разу ничего плохого мне не сделал. Когда он называет меня Злыднем, слышать это почти приятно. Хотя ему и приходится сообщать о попытках самоубийства и выдавать симулянтов, между нами не будет крови.
Я провел два дня в настоящей постели. Не в деревянном крольчатнике с решеткой, а в чистой комнатке за задернутой занавеской. В первый вечер ко мне пришел доктор, а на следующее утро — медсестра. Она не позволила Шотану меня забрать. Тот хотел, чтобы я сегодня же отправился на ферму Брюте сгребать сено вместе с остальными. Рыжая показала ему предписание доктора — покой, бульон, пить много воды. И две ночи в лазарете. Для Шотана это была плохая новость. Я лежал, натянув простыню до носа и вцепившись в нее обеими руками. Полотняный щит, пахнущий чистотой и хлоркой. Шотан снял фуражку. Он всегда обнажал голову в присутствии людей более важных, чем он сам, — директора, врача, тюремного священника, главного старшины, учителя, начальников цехов. На него производили впечатление звания и белые халаты, даже форма медсестры. Для него, когда-то сына полка, после окопов Вердена ставшего надзирателем в колонии, белый халат был мундиром носителя знания. Шотан мог завидовать и даже ругаться, но благоговел перед человеком в белом халате.
Он дважды, наморщив лоб, перечитал врачебные предписания. Пытался разгадать зашифрованное сообщение. Поджал губы. Бумага его не убедила.
— Пищевое отравление чем?
Он говорил не со мной.
Медсестра развела руками:
— Поди знай. Может, в столовой что съел?
Шотан улыбнулся:
— Ну конечно, и заболел только он один.
Рыжая положила руку мне на лоб.
— Может, Бонно более нежный, чем другие?
Шотан расхохотался:
— Это Злыдень-то нежный?
Она не ответила. Не снимая руки с моего лба, прошептала мне:
— Температура у тебя спала.
Охранник снова надел фуражку. Открыл дверь.
— А я говорю, этот прохвост нарочно отравился, чтобы его не отправили в Брюте.
Медсестра обожгла его взглядом. Шотан снова ухмыльнулся.
— Мадам, он глаза бы вам выцарапал, если бы мог. — Он глянул на меня. — Вы слишком балуете этих бешеных.
И вышел за дверь. В коридоре откашлялся и потопал прочь.
Я стянул с лица простыню. Медсестра как-то странно на меня смотрела.
— Бонно, ты выцарапал бы мне глаза?
— С наслаждением, — ответил я.
Это вылетело само собой. Врезал, не удержавшись. Дал хамский отпор. Я уважал доктора и ее тоже уважал. Но Бонно не мог предать Злыдня. Я не имел права на чувства. Чувства — это океан. Расчувствуешься и потонешь. Надо быть кремнем, чтобы выжить здесь. Ни единой жалобы, ни слезинки, ни криков и ни малейших сожалений. Даже когда тебе страшно, даже когда холодно и голодно, даже на пороге ночи в карцере, когда темнота рисует в углу воспоминание о матери. Оставаться стойким и резким, не склонять головы. Не разжимать кулаков. Ну и пусть бьют, наказывают, оскорбляют. Не опускать взгляда, сбежать и победоносно топтать чужую кровь — мою красную ковровую дорожку. Волк мне всегда ближе, чем ягненок.
Рыжая улыбнулась:
— Я тебе не верю, мальчик мой.
Налила воды в стоявший на тумбочке стакан.
— Особенно тому, что это доставило бы тебе наслаждение.
И вышла из комнаты.
■ ■ ■
От уборки сена я не отвертелся, всего лишь оттянул это удовольствие на два дня. Ле Гофф явился за мной в лазарет и под конвоем провел через сад к часовне. Я был его военным трофеем. Наручники он на меня не надел, но единственной своей рукой стискивал запястья, заведя мои руки за спину. Вторую руку ему оторвала французская граната в октябре 1916-го, во время битвы за Дуомон. Вместе с глазом и куском щеки. Его друга, уже выдернувшего чеку, скосила немецкая пуля, он упал, выпустив из рук гранату. Ле Гофф попытался выкинуть ее из окопа, но не успел. Шестнадцать лет спустя этот герой конвоировал меня с таким видом, будто он взял в плен кайзера Вильгельма и ведет его к Клемансо.
Как и сержант Амбруаз Шотан, рядовой первого класса Пьер Ле Гофф вдобавок к положенной по уставу зеленой звезде на петлицах приколол над карманом орден Почетного легиона. И крест “За боевые заслуги” — его красно-зеленая лента выделялась на фоне серо-синей формы. Он никогда не показывался без своих наград. Его щека, его глаз, его рука, его медали, его Верден. Всем своим видом он давал понять “юным воспитуемым”, как он говорил, что у него была другая жизнь до того, как он начал расхаживать между камерами. Ему ли, усмирявшему фрицев, бояться каких-то сопляков. Но однажды я видел, как он во время бунта из-за тухлого мяса спрятался за шкаф. Шотан лупил заключенных плеткой. Шамо повалил меня на пол и оседлал. Крыса выкрикивал имена смутьянов, Наполеон записывал их, а этот герой шестнадцатого года затаился за шкафом. В тот день, когда тюремщики волокли меня по коридору, я увидел на его лице страх. И стыд.
И пока Ле Гофф, нелепо козырнув, передавал меня тюремному священнику, я думал об этом израненном человеке, который боялся умереть. Он лежал на колючей проволоке, его трясли на носилках, ему отпилили руку, его отправили в тыл, затолкали вместе с другими в больничную палату, потом вернули к гражданской жизни и утыкали медалями, а он так и боится смерти. И здесь, в колонии, дрожит от страха перед мальчишками-заключенными, что выше него ростом, крутыми парнями с ножами в рукавах, прирожденной шпаной.
Однорукий остался за дверью часовни. Священник велел мне преклонить колени. Я пропустил воскресную мессу из-за того, что был в лазарете. Пчела, прогулявший Пятидесятницу, тоже был тут. Тощий, кожа желтая, под глазами большие черные круги. Желтый с черным — как насекомое. Он тут надолго не задержится, ему дали всего четыре года колонии за “нарушение общественного порядка во время богослужения”. Дело было 15 августа, в Ванне. Он выпил на солнцепеке литр сидра, встал на пути у крестного хода — в зубах сигарета, руки в карманах, на голове картуз — и посоветовал аббату идти трахать ангелов.
Тюремный священник, не глядя на нас, бормотал:
— В праздник Пятидесятницы Дух Святой говорит вам, что существует выход, возможный исход, перспектива будущего, что всегда есть второй шанс.
Я улыбнулся.
Выход, исход. Я с шести лет его ищу. Какой еще второй шанс? Какая перспектива будущего? Священник обращался не к нам. Он бубнил себе под нос, глядя в пол. Не хотел встречаться глазами с заблудшими овцами.
Несомненно, отец Брику мечтал о другой церкви, другой пастве. В мечтах он видел себя на кафедре в Сен-Жеране, проповедующим о Царе-Христе самым набожным, самым славным жителям Ле-Пале. Труженики-мужья, верные жены, воспитанные дети. Или того лучше — он служит мессу в соборе Святого Петра в Ванне перед сотнями коленопреклоненных прихожан, в окружении певчих, среди свечей и ладана. Он уже не отец Брику, а его высокопреосвященство монсеньор Брику — папа Пий XI назначил его кардиналом. Постепенно он становится доверенным лицом Папы Римского, правой рукой земного наместника Христа, и ему остается только ждать благочестивой кончины и беатификации.
Мы знали о гордыне капеллана. Даже надзиратели смеялись над ним у него за спиной. Он твердил, что ему здесь не место. Что это временная должность. Что вскоре ему предстоит куда более увлекательная деятельность. Ему было пятьдесят шесть лет. Выход, возможный исход, второй шанс. Он говорил о себе.
— Может быть, и вы предавали, может быть, вы впадали в заблуждение, замыкались в себе, в своем чувстве вины, неверии в свои силы. Сегодня Христос говорит вам, что существует возможный выход, второй шанс.
Наконец он посмотрел на Пчелу, на меня. Два будущих каторжника с непокрытыми головами. Подонки, паразиты,
