автордың кітабын онлайн тегін оқу Витражи резных сердец
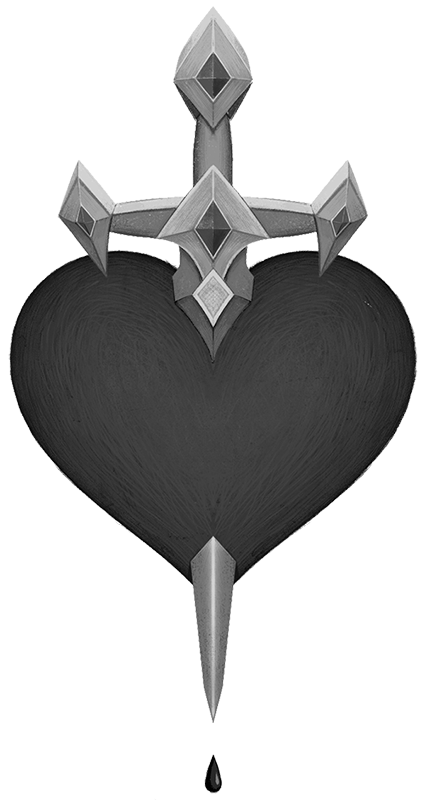
Лаэтэ
Витражи резных сердец
© Лаэтэ, текст, 2024
© Оформление. ООО Издательство «Эксмо», 2024
Плейлист
Slept So Long – Jonathan Davis (OST Queen of the Damned)
Funeral – MEG MYERS
The Orchard – Holly Henry
Necessary Evil – Motionless in White ft. Jonathan Davis
Own Worst Enemy – YONAKA
Done – MEG MYERS
Tear Me To Pieces – MEG MYERS
Coriander/Chamomile – Holly Henry
Out Of My Cage – UNSECRET, Alaina Cross
Hurt Me Harder – Zolita
Holy – Zolita
Awaken – League of Legends, Valerie Broussard, Ray Chen
Jerome – Zella Day
The Death Of Me – MEG MYERS
Sorry – MEG MYERS
Black Sea – Natasha Blume
Elisa Lam – SKYND
Not Meant For Me – Jonathan Davis (OST Queen of the Damned)
System – Jonathan Davis (OST Queen of the Damned)
DNA – DeathbyRomy
Change (In the House of Flies) – Deftones
dying on the inside – Nessa Barrett
Cold – Static-X
Old Wounds – PVRIS
Предисловие

Многие думают, что если у врага нет оружия, он наполовину побежден. Что тогда его можно сломать.
Но когда ты сломан, проще всего найти острейший свой скол. И этого оружия никто уже не сможет отнять.
От крика Майли кровь стынет в жилах. От вида грубых рук на ее запястьях словно скребется что-то внутри, и хочется кричать так, чтобы пошатнулись деревья.
Черные кудри Майли испачканы грязью; она пытается подняться, но сапог вжимает ее обратно в лужу. Она почти плачет.
– Пожалуйста, – просит она. Всхлипывает, не сопротивляется. – Пожалуйста. Мы бы отдали деньги. Не надо!
Она не понимает. Она никогда не понимала – это жестокая земля, не полное чужаков побережье. Они никогда не слушают.
Люди на этой темной земле боролись за выживание поколениями, боролись против непобедимого врага. Они привыкли брать тогда, когда подворачивается возможность.
Торн это понимала. Понимала и то, что они не послушают. Сильный берет все, что хочет. Слабый лежит лицом в грязи. Если у него нет защитника.
Торн сжимает губы, пытаясь встретиться взглядом с сестрой. Ее держит большой, тяжелый полукровка с бесстрастным лицом. Обыскивает методично, ничуть не церемонясь.
– Прошу, – Майли всхлипывает. Ее слезы всегда действовали на других так хорошо. Но они не подействуют сейчас, неужели она не видит?
Не видит. Она привыкла обходиться меньшей кровью; она и правда готова отдать им все, что они так долго собирали, все деньги, только бы избежать конфликта. «Иногда нужно немного сгибаться, – всегда говорит она. – Гнуться самую малость. Нельзя сопротивляться всему миру, иногда нужно уступить».
Но Торн всегда знала, что не может так. Что-то внутри нее сломается, прежде чем согнется.
Что-то внутри нее сломалось, когда она увидела сапог этого полукровки на горле своей сестры.
Майли встречается с ней взглядом, жалобная, тихая.
– Не надо насилия. Пожалуйста, – она просит не их. Уже нет. Она просит Торн.
Но, когда в семье именно ты – непослушный ребенок, можно игнорировать просьбы, которые считаешь глупыми.
Они такие большие, эти трое. Такие тяжелые. Так уверенно держатся против двух девчонок, одна из которых уже лежит в грязи, а другая настолько худая, что ее запястья можно держать одной рукой. Большая ошибка.
Они никогда не ждут, ни скорости, ни силы удара. Кровь брызгает фонтаном. Мелькают выбитые зубы.
Торн прыгает в сторону, уворачиваясь от запоздало отвлекшегося от их седельных сумок бандита. Ей плевать на вещи.
Она сшибает полукровку раньше, чем он успевает хоть что-то понять. Это всегда легко. Легко увернуться от третьего, легко уронить его в лужу, легко упасть, точным ударом ломая ему нос. Легко снова вернуться к полукровке, выхватить нож, оттянуть его голову за грязные черные волосы, легко…
– Торн!
Крик сестры надрывный, болезненный. Бьет прямо по сердцу, бьет по костям, резонирует в глубине. Это травмирует Майли. Она так не любит жестокость.
От необходимости прекратить и оставить все так у Торн сводит зубы. Нож втыкается в мягкую землю, ее тонкие руки хватают полукровку, дергают вверх. Он сопротивляется, сдирает с нее шапку, но Торн плевать. Она рывком поднимает его, и в следующее мгновение его окровавленное лицо скрывается под водой, и он сворачивает на себя поилку для животных.
Двое других бросаются к ней, но замирают почти синхронно, когда видят, как из светлых волос показываются резные острые уши. На их лицах, таких разных, одинаковое выражение. Отвращение. Страх. Неверие.
Они видят эти уши, эти клыки, видят, наконец, этот разрез глаз и комплекцию.
– Реликтовый выродок! – вырывается у одного, того, кто остался без половины зубов.
– Кровосос, – говорит второй в неверии. Полукровка в руках Торн, наконец, все понимает.
– Пожалуйста, – говорит уже он, наполовину лицом в грязи.
Торн улыбается во все клыки.
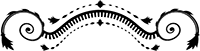
I

Вместо сердца у нее только высохший нераскрытый бутон.
Торн кривится, сжимая кулак и раздраженно засовывая руку в карман, совершенно не думая о том, что раскрошившиеся мутно-желтые лепестки оставят невычищаемую труху внутри любимой жилетки. Может, она вообще сделала это намеренно – испортила дорогую ей вещь. Сегодняшний день и так начался отвратительно, даже без того, что в ярмарочную лотерею она выиграла не сердце удачи, которое всегда хотела, не деньги или заговор, а дурацкий сухой цветок.
Ей не помешало бы сердце. Говорят, эти безделушки и правда помогают – или хотя бы дают взглянуть на мир немного по-другому.
Сегодня канун праздника. В снегу на темных улицах Города-Бастиона скрываются ряды с самыми разными мелочами со светлого континента и островов, со всех сторон звучат призывы торговцев, каждый – с каким-нибудь новым глупым акцентом. Сегодня всем весело, или, по крайней мере, должно быть весело. Через несколько часов будут фейерверки, танцы, музыка и празднование Нового Начала.
Приамх-Глеасс – День, Меняющий Жизнь. Или, по крайней мере, так говорят старые сказки.
Торн любит старые сказки, но сомневается, что хоть что-то на самом деле изменится.
– Хватит кукситься, – Вэйрик задорно дергает ее за светлую прядку, стряхивая снег. Потом и сам встряхивает головой, как собака, и взбивает припорошенные снегом черные кудри. Его волосы настолько лучше ее собственных, думает Торн всякий раз, когда он так делает. Но он – расс-а-шор, ему положено иметь самые черные и мягкие кудри на свете, и самые черные угли-глаза. Не то что у нее – длинные сухие волосы выцветшего белесого цвета. Глаза, как разведенное вино из голубики, бледные и прозрачные.
– Молчал бы, ты вытащил два билета на световое шоу, а я – сухую траву.
– Я прошу тебя, – фыркает Вэйрик, улыбаясь. – Я такое шоу могу каждый день посмотреть на репетиции твоей сестры и ее подружек.
От его улыбки будто бы и правда становится теплее. Но Торн напоминает себе, что никогда не боялась холода и никакие лишние источники тепла ей не нужны. Они здесь не для того, чтобы развлекаться. Они должны выкупить место для представления, пока еще могут, потому что караван опоздал. Циркачей никогда не хотят пускать в крупные города. Воры, говорят про них люди, воры, шарлатаны и обманщики. Никогда не доверяйте странствующему народу, говорят люди. И все же они приходят каждый раз, когда караван останавливается рядом с их поселениями. И так будет всегда.
Мы вас не любим, но возьмем то, что вы предлагаете.
Снег хрустит под ногами, когда они с Вэйриком идут мимо ярмарочных рядов. Торн прячет голову в высокий ворот кожаной жилетки, прямо в выступающий изнутри мех. Вэйрик периодически запрокидывает голову назад и ловит снежинки языком. Все остальное время он обворожительно улыбается девушкам, которым не везет встретиться с ним взглядом.
Девушки всегда, сколько Торн его помнит, любили Вэйрика. А помнит она его почти столько же, сколько и себя – они ровесники. Можно сказать, они могли быть друзьями. Наверное. Все дети в цирке – в некотором роде друзья, одинаково похожие, редко рожденные в полноценной семье, гораздо чаще – всего лишь плоды чьих-то случайных связей. На темном континенте не отказываются от детей, потому что второго шанса может не быть. Говорят, что там, за морем, молодые народы могут заводить по пять или шесть детей. Что там детская смертность никого не волнует, потому что к смерти относятся совсем иначе: ведь она так близко, а срок жизни столь мал.
Здесь же никто не бросит ребенка, даже нежеланного. Даже такого, который считается плохим предзнаменованием. Даже если его нашли в лесу, даже с длинными резными ушами и острыми клыками.
Торн сжимает губы и поправляет шапку.
Она охотно позволяет Вэйрику договариваться. Он всегда гораздо лучше управлялся со словами, и единственной причиной, почему с ним послали ее, была только неуемная склонность Вэйрика просаживать деньги на всякую дрянь. Преимущественно на девиц, чьи имена он забывает через пару часов.
Наверное, это единственный его недостаток. По крайней мере, у самой Торн недостатков многим больше. Например, она предпочитает деньги приумножать. Что делать крайне удобно, пока люди в толпе отвлечены на огоньки и сияющие игрушки из стекла.
Когда Вэйрик заканчивает переговоры, во внутреннем кармане ее жилетки чувствуется приятная тяжесть от нескольких кошельков. Они снова уходят, Вэйрик напевает себе что-то под нос, блики от украшений на деревьях и маленьких магазинчиках то и дело мелькают на его лице. Ему идет. Он улыбается, пока не замечает, что жилетка Торн полурасстегнута.
– Ты опять?!
Разумеется, он заботится не о ее здоровье. Она не подхватывает простуды. А даже если бы и могла, его волнует не это.
– Расслабься. Никто не видел.
– Нас поймают и вытурят из города! – он, кажется, думает, что громкий шепот привлекает меньше внимания. Вэйрик всегда мало что понимал в скрытности. Он предпочитал быть заметным отовсюду. Нравиться всем. И у него это прекрасно получалось.
Торн слегка ему улыбается. Уверена, что получилось не очень. В его присутствии почему-то все эмоции получались какими-то неестественными.
– Ты представляешь, сколько цирковых караванов в этом городе, помимо нас? Думаешь, никто там не ворует?
– Ворует или нет, но ты бросаешь на нас тень!
Смешно.
– Пара подрезанных кошельков – смерть каравану. А вовсе не шарлатанские фокусы и обман, которые мы привезли на праздник, да?
– Ты подвергаешь нас опасности! – повторяет он упрямо. Но в этом нет ничего удивительного. Она привыкла.
Она всегда подвергала их опасности. Плохое знамение. Невезение.
Почему она не могла вытащить сердце удачи, а не тупой старый цветок?
Торн швыряет кошельки в старый сундук, прячет под тяжелыми одеялами. Отбрасывает жилетку прочь, скидывает ненавистную шапку. Наконец распускает волосы, позволяя им упасть на спину и плечи. Ей никогда не нравились ее волосы. Слишком светлые, слишком никакие. Не белые, как у Хорры, не золотые, как у Мирры или Пэйли. Она вообще не похожа на них, со своими острыми резными ушами, острыми скулами, острым всем. Как подросток, который до сих пор не оформился, хотя она и старше большинства девушек в караване.
Проклятое полукровное наследие. Она не получила ничего от матери. Не получила ее белоснежных локонов, ее пронзительно-голубых глаз. Не могла закрывать глаза врожденным фасеточным панцирем, как все налээйне, как Хорра, ее родная тетка. Она не получила от матери ничего.
Даже воспоминаний.
Лишь гнетущее чувство, что она всегда делает что-то не так, потому что она не ее мать. Торн чувствовала это каждый раз, когда видела тех, кто знал Вэнорру. Каждый раз, когда видела Хорру. В каждом разговоре.
Со временем она стала избегать даже ее. Даже женщину, которая заменила ей семью.
Хорра входит в ее палатку бесшумно. Торн все равно знает о ее присутствии. Она всегда знает заранее, даже если не видит. Слишком хороший слух.
– Торн.
Ей никогда не нравилось, как Хорра произносит ее имя. Обрывисто, плевком. Будто говорит с огрызком, нес личностью.
Не нужно спрашивать, зачем она здесь. Вэйрик все уже разболтал. По счастью, не всем, а только тем, кто, как он думал, мог на Торн повлиять.
– Подойди ко мне, Торн.
Могла бы и сама подойти. Это она вошла в чужую палатку. Это она в гостях.
Но Хорра игнорировала правила, когда речь шла о том, что она считала своим. К Торн она относилась как к дочери тогда, когда это было удобно.
– Зачем?..
– Просто подойди.
– Не буду. Ты меня ударишь.
Хорра всегда давала ей эти легкие, едва ощутимые подзатыльники, когда Торн делала что-то не так. Всегда в детстве. Пыталась и сейчас. Сейчас это было уже глупо.
Хорра вздыхает и устало опускается на подушки, заменяющие кровать.
– Вэй сказал мне…
– Само собой, он сказал тебе. Я тоже могу много что сказать. Например, что я была очень осторожна, что меня никогда не поймают. Что у меня ловкие руки. Но ты ведь мне не поверишь, верно?
Хорра снова вздыхает. Потирает лицо, оставляя на щеках едва заметные разводы от алой краски. Только что закончила плакаты для праздника. Такие же пятна мелькают в ее белоснежных прямых волосах до пояса. Если мать Торн была такой же эффектной, как Хорра, неудивительно, что ее до сих пор помнят.
Неудивительно, что видеть Торн для многих до сих пор столь неловко.
– Воровство подвергает нас опасности.
Да они все сговорились.
– В лицо врать людям про то, что их ждет богатство, а потом сдирать с них все деньги в игре в стаканчики – это, конечно, вообще никак на караван тень не бросает, жуликами нас не выставляет.
– Хватит, Торн, – ее голос строг. – Мы уже говорили об этом. Хватит.
Они и правда говорили об этом. Не раз до этого, не раз будут говорить потом. Потому что Хорра не слушает. Они никогда не придут к компромиссу.
– Другие тоже воруют. Мне нельзя почему, потому что я какая-то неправильная?
– Прекрати.
– Да каждый второй ворует на карнавалах, нельзя, как всегда, только мне, потому что мне не повезет. Потому что я несчастливая, потому что… Почему там еще? Да, Хорра?
Хорра вскакивает, сжимая кулаки. Она моментально выходила из себя, когда Торн звала ее по имени.
– Какой свежий взгляд на вещи, – процедила она, – свежим умом придуманный. Конечно, ум у тебя свежим будет, когда ты им никогда не пользуешься.
Всегда приходило к этому. Родитель всегда обвиняет ребенка в том, что тот чего-то не понимает, если у этого самого родителя нет аргументов в споре.
Проще сказать, что собеседник дурак, чем пытаться во что-то вникнуть.
По крайней мере, сестра ее матери быстро отходила. Она говорила, это семейное.
Торн готова поспорить, потому что она никогда не забывала ссор. Хотела бы забывать, но просто не могла. Они копились, как очистки в кулинарный день.
– Почему ты не можешь выйти и развлечься, как остальные девочки? Просто прогуляться. С друзьями. Без твоих ножей и вредных привычек.
Торн не хочет «прогуливаться». Она хочет выпить и задымить всю палатку так, чтобы не было видно дурацкой бахромы на коврах. Ничего больше не имеет смысла.
– Я подумаю, – Торн могла идти на компромиссы. Могла. Если бы она сказала «мама», то все стало бы гораздо проще.
Она никогда не называла Хорру мамой.
– Хорошо, – Хорра кивает и в несколько шагов отходит назад, к выходу. Она могла бы уйти молча, но вместо этого бросает: – Вэйрик очень волнуется за тебя, знаешь ли. Что ты попадешь в неприятности.
Единственное, думает Торн, о чем он волнуется – что караван выдворят из города до того, как он перетанцует всех симпатичных девушек, которых увидит.
Теперь, когда она одна, она вновь оборачивается к зеркалу, чуть похлопав себя по щекам, будто это поможет ей прийти в себя.
Она не сердилась на Вэйрика за то, что он ее сдал. Она вообще не могла на него сердиться. Это раздражает, потому что она не понимает причин. Он даже не в ее вкусе: она предпочитает парней, которые заметно выше нее, ей никогда не нравились темные глаза и яркие губы. Она знала Вэйрика с детства, с ним почти одного роста, не считает его симпатичным, и все же…
И все же выходила из себя каждый раз, когда видела, какие взгляды он бросает на других девиц. Кажется, на всех, кроме нее.
Она снова хлопает себя по щекам и замирает, глядя в собственные бледно-голубые раскосые глаза в отражении.
– Иди спать, – говорит она себе, – он о тебе не думает.
А затем она ложится. Большинство остаются допоздна, чтобы застать Приамх-Глеасс, Новое Начало.
По опыту Торн, Начало это всегда одинаковое. И все эти Начала она уже видела.
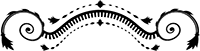
II

В цирке просыпаются рано. Всегда нужно успеть уйти с места прежде, чем у кого-то из местных возникнут идеи. А идеи всегда возникают.
Но сегодня у них чуть больше времени.
Когда Торн выходит, все еще самая светлая часть дня. На темном континенте никогда не бывает слишком светло, только отголоски двух солнц задевают побережье. Город-Бастион, как и остальные семь Нерушимых Городов, расположен на береговой линии; разделенные огромным расстоянием, эти города – единственное, что всегда неизменно. Они были здесь до того, как странные существа со светлых земель заново открыли темный континент, до того, как древние налээйне, расс-а-шор и раа бежали на острова, спасаясь от голодных хозяев этой земли. Города стояли с тех пор, как реликты правили всем миром, и этот самый мир строго делился на бессмертных кровопийц и их рабов.
Города были всегда, Города будут всегда.
Ну, вблизи один из великих Городов выглядит не то чтобы впечатляюще.
Торн видела достаточно гораздо более чистых и уникальных местечек. Здесь же полно заброшенных зданий, грязи: никто не убирает снег, и он тает под ногами тысяч жителей, превращаясь в серо-коричневое месиво. На графитно-темных черепицах крыш еще лежат пушисто-белые шапки, но улицы уже вернули себе прежний мрачный вид. Если повезет, к вечеру снова пойдет снег.
Хорра, загибая пальцы и периодически сбиваясь, перечисляет то, что нужно учесть и не забыть. Перед ней стоит Майли и мелко кивает, и ее прекрасные черные кудри подпрыгивают на плечах. Не имеет значения, насколько рано просыпался караван, Майли всегда вставала на час раньше, чтобы выглядеть хорошо.
Торн налетает на них, обнимая Хорру со спины. Сколько бы они ни ссорились без видимой надежды на взаимопонимание, фактов это не отменяет: может, Хорра и не мать Торн по крови, но именно она взяла ее себе и растила как свою. Даже если только потому, что нежеланный ребенок – все, что осталось от той, кого уже никогда не вернуть.
– Выспалась? – Хорра улыбается, пусть и устало. Она наверняка проснулась раньше всех, чтобы организовать представление. Может, она не ложилась вовсе.
– Само собой, она выспалась, – Майли окидывает Торн шутливо-неодобрительным взглядом. – Она же не ходит на репетиции с нами, она теперь слишком важная для этого.
– Если я правильно помню, это ты говорила, что я слишком длинная для вашего номера с подкидыванием карликов, – замечает Торн ехидно, игнорируя, как многозначительно Хорра закатывает глаза.
– Да тебе все карлики, вымахала вон так, скоро будешь из палатки торчать. Мы твои волосы вместо флага используем, если решим кому-нибудь бросить вызов на дуэль до смерти.
Торн показывает ей язык. Белый, конечно, цвет траура, как и большинство его оттенков, но ведь не такие уж у нее и бесцветные волосы. Она надеется, по крайней мере.
– Ладно, Торн, Майлитра, оставлю вас развлекаться, – Хорра чуть сжимает руку Торн на своих плечах, прежде чем вывернуться и отправиться по делам. У нее всегда много дел. Она всегда все успевает. В том числе быть лидером этой разношерстной группы и растить двух совсем разных девочек, и все одновременно.
Они с Майли уже давно выросли, но Хорре от этого не легче.
– Та-а-ак, – тянет Майли вкрадчиво, как только спина приемной матери отдалилась, по ее мнению, достаточно далеко. – Я слышала, Вэйрик опять наябедничал на тебя. Что значит, что ты опять воровала в городе. Украла что-нибудь ценное?..
– Корову, козу и посла со светлых земель. Не могу отличить одного от другого, поможешь?
Теперь уже Майли показывает ей язык.
– Только деньги опять, что ли? Почему ты никогда не воруешь что-нибудь красивое? Я же знаю, ты могла бы переграбить половину особняков в этом городе.
Может быть, и могла бы. Торн не сомневается в своих способностях. Только вот красивые вещи, которые подразумевает сестрица, обычно легко опознаются, если к ним нагрянут с обыском.
– Ну, знаешь, с моей удачей, скорее всего, как только я достану отмычки, дверь откроется сама собой, оттуда выглянет голова полураздетого Вэйрика и начнет причитать, что я опять делаю что-то не так.
– А делать он там что будет?
– Укреплять связи между караваном и местными жительницами, разумеется. Ты чего.
Майли смеется.
– Звучит вполне в его духе, – а потом, помедлив, добавляет будто бы смущенно, – знаешь, его отец думает, что нам следует венчаться на крови.
Разумеется. Торн поняла, что ее совершенно это не удивляет. Вэйрик и Майли принадлежат к одному виду, оба – с легким нравом и любимы всеми. И Майли действительно миленькая с этими своими мягкими чертами лица и кожей настолько смуглого оттенка, насколько позволяет жизнь на темной стороне мира. Они подходят друг другу.
И от этого еще обиднее. Торн не подходит никому. Не то чтобы ей это нужно, но есть разница между отсутствием необходимости и отсутствием возможности.
Те, кто не слишком-то уверен в себе, зачастую болезненно воспринимают, когда их чего-то лишают. Слишком легко начать сомневаться в том, что действительно нужно.
Но она не может воспринимать в штыки все, что происходит. Она должна смириться. Не все всегда будет так, как хочется, как бы эгоизм ни кричал об обратном.
– О, старик рехнулся, – Торн драматично прикладывает руку к груди. С шутками всегда проще. Не нужно говорить, что на самом деле на уме. – Ты знаешь, что я готова проливать кровь за тебя, но не в этом же смысле!..
– Я имела в виду…
– Я поняла, Майли. Главное – что ты чувствуешь. Потому что если ты не уверена, а вы поженитесь, и он начнет ходить налево и… направо… мне же придется ему морду набить, и нам всем потом будет очень неловко сидеть за семейным столом.
Майли фыркает со смеха.
– О, ты можешь, я знаю. До сих пор не могу забыть, как ты окунула в корыто для животных того мерзкого мужика в деревне. И… спасибо, что не пустила оружие в ход.
– Ну не знаю насчет «спасибо», сестренка, – подмигивает Торн, – ему не помешала бы предупредительная надпись «лапает подростков» на видном месте. На лбу, например. Ты знаешь, я очень красиво умею вырезать.
– Вот уж точно, – Майли смеется, снова. – Послушай…
Она запинается, прерванная коротким жестом. Может, Торн не унаследовала ничего от матери, но от своего неизвестного отца – достаточно, чтобы слышать, видеть и ощущать больше. И сейчас за ними смотрели чьи-то чужие глаза.
Карга́. Как и всегда. Вылезла из своей палатки и пялится.
– Давай посидим чуть позже? После твоей репетиции.
– Ты не зайдешь?.. – Майли вряд ли надеется получить утвердительный ответ, но никогда не устает спрашивать.
Торн искренне ненавидит компанию девиц, в которой теперь сестра проводит почти все время. Ненавидит взаимно, горячо. Но это не значит, что ее чувства должны портить Майли день.
– Ты же знаешь, – Торн качает головой, на тонких губах – кривая усмешка, ложный спутник уверенного притворства. – Я слишком хороша для вас. Подрастете – зовите.
– Ладно. Удачи! – Майли взмахивает рукой и убегает в направлении полуготовой сцены. Дождавшись, когда она исчезнет за переборками, Торн разворачивается и направляется к палатке Карги.
Никто не знал, что она такое, эта Карга. Не знали даже ее имени. Она гадала, трактовала и совершенно точно могла проклинать. А еще исчезать, хотя и выглядела согбенной старухой.
Торн высокая, но Карга не уступает ей в росте даже в своем скрюченном состоянии. Если бы она только выпрямилась, достигла бы двух с лишним метров в высоту, такая худая и нескладная. У нее слишком длинные кроваво-красные руки, достающие до земли, шаркающе-прыгающая походка боком и всегда босые ноги. И, разумеется, глаза. Полностью залитые кроваво-алым глаза.
Она была с караваном многие поколения. В ее присутствии любому было не по себе.
Плевала Торн на все «не по себе». От этого ощущения все внутри бунтует.
Она сама хозяйка своим чувствам.
– Эй! – кричит она, подходя, – что опять? Может, прямо скажешь хоть раз, что тебе надо?
Карга замирает. Длинные руки скребут по земле бурыми когтями, звенят костяные монеты в ожерелье на шее.
Молчит. От ее взгляда у Торн холодок бежит по спине.
– Или ты от любопытства с утра выходишь подслушивать?
Карга, помедлив, покачивается. А потом хрипит:
– Выродок.
И скрывается в палатке.
Настроение испорчено надолго. Эту гнилую старуху неспроста все так и звали Каргой – за хороший нрав таких имен не дают. И плевать на то, что она сказала; Торн слышала и похуже слова в свой адрес, хотя бы даже и от подруг Майли.
Ей всегда спокойнее, когда она знает, что может схватиться за оружие. У народа ее матери не было этой воинственности в крови, не было у расс-а-шор, не было у многих. Это она одна такая дикая, потому что полукровка и потому что не может совладать со своей бешеной кровью, которая не дает ей взрослеть. Она все это уже слышала: и в лицо, и в шепоте за спиной.
Нет, ее это не задевало. Совсем нет. Нет.
Когда она вбегает к Адану в кузницу, он все понимает по ее лицу.
– Торн, я не могу потренироваться с тобой сейчас, – он качает головой, – я занят. Нужно все проверить перед тем, как люди снова к нам придут.
Кажется, она выглядит недостаточно спокойной, потому что он позволяет фасеточному панцирю раскрыться и смотрит на нее своим единственным настоящим глазом, иссиня-ясным.
Ее мать и Хорра тоже могли закрывать глаза такими линзами, для другого режима зрения и защиты. Торн не могла.
Умела бы, если бы Адан был ее отцом. Он мог бы. У них столько общего.
– Но ты уже развесил мишени. Я думала, ты закончил.
– Нет, Торн, не сейчас, – он чешет белую бороду. – Но, знаешь… думаю, ты можешь мне помочь. Это не срочно, но если проверишь мои новые клинки и скажешь, как тебе их баланс, ты мне очень поможешь.
Торн переводит взгляд на стол. Перед ней оружие из сияюще-мертвенной стали, всегда холодное, всегда словно бы отторгающее руку. Эти клинки – искусство сами по себе – словно живые. Нужно перебороть их, чтобы удалось по-настоящему ими владеть.
Говорят, пепельная сталь принимает только тех, кто готов проливать ею и свою, и чужую кровь.
Адану-кузнецу нет дела до этих романтичных легенд. Он использует пепельную сталь для ножей, потому что никто в караване не хочет, чтобы конкурсы выигрывало много людей. Метать ножи, испытывающие к тебе будто настоящую ненависть, от прикосновения к которым тут же сводит руку, очень неудобно, не так ли?
Но какая-то сталь Торн не переборет.
Кожа будто бы умоляет выпустить ножи, от ощущения сводит зубы, но Торн только сжимает рукоять крепче, когда выходит на площадку. Она может терпеть.
У нее не получается сразу – с третьего клинка начинает зудеть даже кость. Торн не сдается: метает один за другим, и каждый из непослушных клинков находит сердце мишени. Кражи и работа с клинками – вот что она умеет лучше всего, и плевать, чье это наследие.
Торн упрямо не желает заканчивать, пока Адан не освободится, поэтому, когда он выходит, у нее словно вибрируют кости в руках. Это хуже, чем боль; боль – простой инструмент. Не иметь полного контроля над собой и чувствовать собственные конечности как что-то чужое кажется Торн куда более мерзким.
– Ну, как, готова размяться? – когда Адан окликает ее, поправляя повязку на отсутствующем глазу, она с радостью скидывает метательные ножи обратно на стол. У нее есть свои кинжалы, и, честно говоря, она любит тесный контакт с ними даже больше самого метания.
Адан – бывший наемник. Он потерял глаз на арене в Городе-Бастионе много лет назад, а до этого он сражался на настоящей войне на островах. Он видел рассвет и земли, в которых не царит вечных сумерек.
Он лучше всех, кого Торн видела, в обращении с клинками, но предпочитает создавать их, а не применять. И она этого не понимает.
Торн быстрее Адана. Она видит больше, словно наперед; она подвижнее и легче, она живет сражением. Она моложе, талантливее и коварнее.
Она никогда не могла его победить. Даже в простом спарринге.
Какую бы кровь она ни унаследовала от отца-чудовища, опыт каждый раз оказывался сильнее.
Адан выбивает ее клинки.
Она бьет его локтем, выбивая из равновесия.
Он роняет ее на землю.
Торн, падая, изворачивается и подсекает его под коленом, роняя за собой.
Они могли бы играть долго, но Адан стар. Он устает. Торн знает, что в настоящем бою ее выносливость могла бы принести ей победу, потому что даже против молодого налээйне она куда дольше способна танцевать с клинками в руках.
Она также знает, что в настоящем бою Адан перехитрил бы ее и, возможно, убил до того, как его возраст возьмет над ним верх.
Но сейчас – сейчас она способна вскочить на ноги так быстро, что кажется размытым пятном света, и когда она смотрит на Адана сверху вниз со вновь перехваченным кинжалом в руках, ее улыбка сияет.
Только когда она видит, как меняется его лицо – пусть и немного, но за спокойным самообладанием виднеется страх – Торн понимает, что позволяет ему видеть свои острые длинные клыки.
На мгновение ее охватывает паника.
Она видит свое отражение в темном глазу Адана, в фасеточном панцире, видит искаженное острое лицо, оскал, длинные резные уши за бесцветными волосами, видит сияние.
Клыкам будто бы тесно, когда Торн заставляет себя сомкнуть губы. Она почти панически поправляет волосы и протягивает Адану руку. Он поднимается на ноги без ее помощи.
Она хватает со стола шапку и натягивает ее в одно дерганое, нервное мгновение.
– Спасибо за тренировку, Адан, – бросает она, прежде чем схватить оружие и выскочить с площадки.
Это вовсе не побег, но она не решается обернуться, чтобы не увидеть на его лице выражение того страха.
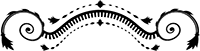
III

Фейерверки озаряют небо алым, затем – синим, а завершаются золотым. Это золото отзывается в душе Торн, успокаивает. Наверное, золотой – ее любимый цвет, хотя она никогда всерьез не задумывалась, что предпочитает. В караване никто не выбирает; берут то, что выгоднее.
Дело не в том, что золото напоминает о роскоши. Здесь оно значит так мало, когда гораздо ценнее античные монеты забытых времен. Говорят, на светлых землях золото ценят, используют его в украшениях и чтобы делать деньги. Она не знает наверняка; о светлой земле у них есть только слухи.
Всю ее жизнь караван скитается по побережью, от одного Нерушимого города к другому. Здесь не бывает утра и не бывает полноценной ночи. Только, как говорят гости из-за моря, «вечный угасающий вечер».
Настоящая ночь – она дальше. В глубине земель. Там, куда никто не решится идти, будучи в здравом уме.
– Ты никогда не думала, что это обидно? – внезапно раздается справа. Но Торн не так просто застать врасплох. Не с ее чутьем. – Что наш мир греют два солнца, но нам, здесь, не достается ни лучика?
Она оборачивается на звук. Бегло улыбается. Молли никогда не здоровается, это не в его духе; ему гораздо проще приходить и уходить легко, будто бы он всегда рядом. Как и Торн, он арлекин, жонглер, акробат. Как и Торн, он тихий, изящный.
Как и Торн, он полукровка. Но его смесь приемлема, в отличие от ее.
– Не ной, – она слегка толкает Молли плечом. – У нас есть свет. Мы не в лесу, по крайней мере.
Молли улыбается и легко приобнимает ее за плечи. Он самую малость выше, но всегда укладывает свои фиолетовые волосы высоко, чтобы получались рога или уши – Торн не уверена наверняка, что именно. Знает только, что он должен был выглядеть, как те красивые иллюстрации реликтовых принцев из леса, про которых они читали еще в детстве.
Реликты в этих старых сказках всегда прекрасны, но стоит увидеть плоды их набегов вживую, как реакция у людей почему-то резко меняется.
– Знаешь, говорят, – мечтательным тоном рассказчика начинает Молли, упираясь подбородком в ее острое плечо. Его смуглая рука так контрастно смотрится на ее светлой рубашке, рядом с белой кожей ее рук. – Говорят, что реликты сделали это намеренно. Что они изгнали свет прочь с этой половины мира, украли солнца, чтобы вершить свое зло в полной темноте.
Он косится на Торн с ехидным выражением и лучезарной улыбкой. У него такие мерцающие золотые глаза.
Она любила золото не из-за роскоши, которой у нее никогда не было. Она любила золото, потому что всегда ощущала этот цвет родным.
– Им не нужна кромешная тьма, чтобы «вершить свое зло», Молли, – говорит она осторожно, снимая его руку с себя. Она, Торн, живое тому доказательство.
Молли, кажется, понимает, что ступил на спорную территорию. Мнется, улыбается неловко. Он всегда улыбается, когда растерян.
– Слушай, это правда? Что реликты украли твою мать в Темный лес?
И вот оно. Вот оно, всегда. Это любопытство. Хорра пресекала все попытки расспрашивать, но слухи ползли всю ее жизнь, и неловкие попытки замалчивать и запрещать поднимать эту тему никак не помогали. Даже наоборот. Всю жизнь Торн только и делала, что слушала домыслы о себе, один другого отвратительнее.
– Украли, – кивает она. Это не сюрприз, такое происходит время от времени. Юноши и девушки, иногда неосторожные и всегда миловидные, привлекают внимание голодных и кровожадных хищников, жаждущих веселья. Что происходит дальше, вряд ли трудно угадать.
Молли всматривается в ее лицо очень внимательно. Он унаследовал от своей матери-раа не только яркие цвета, но и эти нежные черты лица, делающие его почти кукольным. Торн внезапно ощущает себя угловатой и некрасивой.
– Прости. Не хотел влезать. Просто мне любопытно, мы же партнеры, а все эти слухи… не хочу путаться во вранье и домыслах.
От его слов зарождавшееся раздражение слегка угасает, и Торн отвечает на его взгляд. Ей панически хочется поправить шапку.
– Да, они ее украли, когда она собирала травы. Они развлекались с ней несколько месяцев, а когда от нее не осталось ничего интересного, ее выбросили на обочину, где поисковая группа Хорры ее нашла. Ее похоронили под золотым кленом. Вот и вся история, Молли, ничего интересного.
В свете лиловых фейерверков он и сам кажется принцем со сказочных страниц, с этими витыми рогами, пусть и в дешевых, но золотых украшениях. Когда он кивает Торн в знак благодарности, маленькие колокольчики в его высокой прическе мелодично дополняют тишину между вспышками.
У него на языке вертится какой-то еще вопрос, и это ясно. И он решается.
– Это правда, что ты родилась, когда она уже была мертва?
Торн застывает, словно каменеет.
– Я имею в виду, эти слухи… говорят, ты выкопала себя из ее могилы. Что ее закопали беременной, а ты выгрызла себе путь из нее, а потом вылезла из земли, и когда Хорра пришла проведать могилу… – Молли запинается, встретившись с ней взглядом. Она видела этот страх сотни раз, но сейчас ей плевать.
Раз за разом, одно и то же. Эти слухи.
«Чудовище, – говорят они. – Выродок».
– Если ты веришь в этот бред, то ты идиот, Молли, – она рвется прочь в палатку так быстро, как может, только бы он больше ничего не успел ей сказать. Ей нужно переодеваться для представления.
Только в палатке она понимает, что сжимала кулаки так сильно, что теперь на ладонях кровь и следы от впившихся ногтей.
Она почти отходит, когда слышит знакомые шаги. Молли не оставит ее в покое так просто. Он липкий, как кисло-сладкий соус из Города-Оплота, которым от него сейчас слишком сильно пахнет.
– Эй, Торн, – он звучит обманчиво-весело, вваливаясь в ее палатку без приглашения. Иногда она жалеет, что не унаследовала от безымянного отца ничего полезного. Говорят, к кровососам-реликтам никто не войдет против их воли.
Она оборачивается и почти сразу же получает в руки горячую булочку с мясом и тем самым соусом. Она обожает его.
– Прости, не надо было в это лезть, – Молли снова беззаботно-веселый. Вдали от фейерверков она, наконец, может снова оценить, насколько красивого оттенка у него кожа. – Это личное. Просто, ну, знаешь, я не люблю, когда слишком много барьеров. Давай забудем?
Торн скептически приподнимает бровь.
– Да не будь такой шипастой и угловатой, я сейчас об тебя порежусь! – он весело хлопает ее по спине. – Давай, я тебе последнюю булку украл.
Она щурится почти угрожающе. А потом разламывает булку напополам и протягивает ему бо́льшую часть.
Кинжалы бликуют в фиолетовых огоньках представления. Сегодня в Городе-Бастионе славят Расгарексара, Бога из-за Вуали. Неважно, что нынешние жители ничего не помнят о старых богах, каждый дверной проем украшен вороньими черепами, перьями и фиолетовой краской.
Сейчас от богов остались только имена и некоторые ритуалы, хотя их культы все еще скрываются в городах. Все это знают: никогда не ходи в лес, чтобы не попасться реликту. Никогда не верь никому в Нерушимых, если не хочешь быть украденным старопоклонниками.
Говорят, когда-то старые боги смотрели из-за Врат Вуали, требовали своей дани, говорили со своими последователями. Только этими последователями были не те, кто сейчас населял города.
Старые боги требовали крови и жертв, и реликты из темных лесов охотились ради них и их невообразимого голода. Как говорят, всем миром правили те старые реликты. Населяли старые острова своими рабами, такими, как Хорра, такими, как Майли, как мать Торн: развлекались с ними, смотрели, что из этого получится, а потом пожирали, устраивали жестокие соревнования только ради кровопролития. Гости со светлых земель смеялись над этими мифами темного континента. Они говорили, это всего лишь сказки – так послушать, реликты воплощают абсолютное зло. А абсолютного зла, как говорят под солнцами, не существует…
Смешная наивность.
Зал взрывается аплодисментами, и они с Молли проходятся колесом почти синхронно, меняясь местами на сцене. Они оба высокие, худые и андрогинные, и в этих глупых арлекинских костюмах с масками нельзя понять, кто есть кто. Торн чуть худее, и ее волосы спрятаны под колпак с колокольчиками. Молли звенит украшениями на «рогах» из своих прекрасных фиолетовых волос.
Она притворно-внезапно вытаскивает из-за пояса еще два ножа. Молли жеманно изображает испуг, прижав кончики пальцев к раскрашенному рту маски. Она готовится метать. Он вытаскивает яблоко будто из воздуха. «Предлагает».
Нож Торн рассекает яблоко пополам и вбивается в мишень за спиной Молли. Он изображает обморок, чтобы тут же ловко подняться.
Какая-то девушка смеется и посылает ему воздушный поцелуй. Другая девушка посылает поцелуй Торн.
Кинжалы мелькают, когда они с Молли меняются ими, причудливо двигаясь. На сцене, на канатах, в прыжках. Когда Молли метает кинжалы в нее, Торн использует всю свою пластику, чтобы изобразить попытки увернуться от клинков в последний момент. Под конец она хватается за голову в притворном ужасе, этом невысказанном «сколько можно». Театрально-фальшиво плачет, утирая кулачками уголки глаз. Люди смеются.
После них на сцене Карга, она гадает без слов, пугает дымом и зеркалами. После нее – Майли и подружки, все безгранично красивые, так хорошо сложенные. Торн всегда считала несправедливым, что на других девушках эти дурацкие арлекинские костюмы смотрятся так хорошо. От их фигур не оторвать глаз. Она же сама напоминает плоский рисунок из книжки про злую нечисть из отражений.
Ей гораздо комфортнее, когда она избавляется от цветастого костюма в пользу привычных кожаных штанов и свободной рубашки. Ей жарко, но она никогда не выходит на люди без шапки, тем более когда волосы выглядят мокрыми и отвратительными.
Молли встречает ее на улице с лучезарной улыбкой и лихо приобнимает за плечи. Он все равно выглядит хорошо, даже без украшений. Искренне говоря, Торн не понимает, почему он не убежал искать внимания в толпу гостей, как всегда делал Вэйрик.
– Обмен! Предлагаю научить тебя подниматься с земли в одно движение, если научишь так выворачивать тело, как ты сегодня сделала.
– Я умею подниматься с земли в одно движение, Молли.
– Не так изящно, как я. Ты, кстати, не думала продавать людям с низкой самооценкой свое самомнение? Много бы заработала.
Торн отвешивает ему легкий, шутливый подзатыльник.
– Ты в курсе, что ты гад?
– Непревзойденный и неотразимый. Почему, думаешь, меня твоя тетка подобрала? Я ее очаровал, без вариантов.
– Без вариантов.
– Без вариантов!
– Молли, тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, что ты из той породы людей, которым проще сказать «да», чем объяснять, почему «нет»?
Он улыбается, обнажая белоснежные зубы. Ни одного клыка. Торн ему немного завидует.
– Это признание?
– Признание твоей невыносимости разве что.
Молли фыркает. А потом увлекает ее развлекаться.
Почти ничего на этом континенте не меняется с течением суток. Постоянный тусклый холодный свет, голубовато-мутный, сравнимый с самым началом рассветного часа на светлой стороне. Тут никто не смог бы мерцать, говорил старый сказитель из какой-то безымянной деревушки на пути каравана. Торн хорошо это запомнила – что никто не сможет мерцать.
Пожалуй, это неплохо, потому что хищные птицы слетаются на все блестящее и уносят прочь в темноту леса. В свои дикие логова.
Ее белые волосы напоминают сухие стебли, и она завидует сестре и ее подружкам, когда смотрит за их тренировками. У Майли такие красивые черные локоны. Майли вообще очень красивая. Иногда Торн ловит себя на мысли, что поняла бы любого реликта, который захотел бы ее украсть, и эти мысли ее пугают. Она не должна так думать, но, как повелось с детства, многое творит, чего не должна. Делает ли это ее плохой?
– Майли, скажи своей сестре, чтобы она на нас не смотрела, – шепчет одна из подружек Майлитре на ухо. Не в курсе, что Торн слышит ее даже отсюда. – Мне кажется, она хочет меня съесть!
Майли неловко смеется. Бросает на Торн неуверенный, зашуганный взгляд.
– Она не собирается никого есть, ну вы чего, – в голосе сестры только смех. Фальшивый. Чем старше Торн становится, тем сильнее жалеет, что может столько всего замечать.
– Ну, мать-то свою во младенчестве она сожрала, это вопрос времени, когда она сорвется снова!
Торн едва заставляет себя сохранить нейтральное лицо. Только смотрит неотрывно на Майли, растерянную Майли, которая не знает, что сказать.
Ну же, почти хочет крикнуть Торн. Ну же, заступись за меня. Скажи, что это неправда.
Майли смеется неловко, взбивает волосы и шутливо отмахивается. Будто бы говорит: «Какую чушь ты несешь».
Обида душит Торн, давит на горло болезненным комом. Почему Майли не заступилась? Почему она никогда не заступается? Семья должна стоять за своих горой, разве не в этом смысл каравана?
Может, и в этом, – шепчет что-то внутри, холодный спокойный голос. – Семья всегда защищает своих, просто ты не своя.
– Скажи ей, чтобы она ушла! – чуть более громко шипит рыжая Лесса. И Майли, помедлив, идет.
Торн хочет уйти. Одновременно с этим – отчаянно цепляется за надежду, что сейчас Майли скажет что-нибудь, что все объяснит.
Она почти может представить, как Майли подходит, смеясь, протягивает ей руку. «Они плохо говорят о тебе. Пойдем прочь от них».
Или, может: «Они опять разошлись. Не буду говорить с ними, пока они не извинятся».
Наконец, хотя бы: «Слушай, Торн, они ничего не понимают, но мне нужно с ними потренироваться. Давай погуляем вместе потом?»
Да хоть что-нибудь хорошее. Но Майли неловко замирает рядом, нервная, заламывает руки и, наконец, смеется.
– Привет! Ты занята сейчас?
– Просто смотрю, – Торн пожимает плечами. Ну же. Пожалуйста, скажи что-нибудь хорошее.
– Да? Ой, хорошо, потому что я подумала, ты не могла бы сходить за одеялами к маме, ну, я имею в виду, если они там есть, вдруг они уже высохли после стирки, и заодно, может…
Торн медленно уплывает прочь от ее слов, с каждым новым словом – как с новой волной. Она даже не собирается говорить правду. Она просто принесла ей какой-то гнилой, наспех придуманный предлог, и теперь сует его в лицо. Ложь, ложь, ложь.
«Сестра». «Семья».
Ее душат эмоции. Злость, обида, непонимание. Что она сделала не так? Она всегда была на стороне Майли, всегда заступалась за Майли, они были вместе все детство; так что и когда пошло не так?
Ничего никогда и не было нормально, – говорит тот же самый спокойный голос внутри. – Чтобы все было нормально, не нужно было рождаться.
Майли нашла себе других друзей, подходящих друзей. Нормальных.
Она должна немедленно уйти. Торн хочет улыбнуться, солгать, что так и сделает, но вместо этого сбежать. Но, в отличие от Майли, она не может лгать.
– Не. В городе прогуляюсь, – Торн соскакивает с коробок. Ей до сих пор обидно, и она позволяет себе слабость задержаться рядом с Майли, возвышаться над ней, напомнить один ненавязчивый раз, что она могла бы сделать столько всего, но никогда даже не пыталась. Почему ее добрые намерения никогда не ценят?
Она не срывалась ни разу, но от нее ждут только безумия, почему?
Майли кажется испуганной. Торн ловит себя на слабом мелочном удовлетворении и немедленно ищет в себе чувство стыда. Ей должно быть стыдно? Если ей не стыдно, она плохая?
– Сувенир тебе принесу, – улыбка у Торн кривая. Всегда. Она ведь не должна показывать зубов, не должна ничего показывать.
Говорят, Нерушимые Города такие огромные, что там может пропасть даже отряд. Но отчего-то сейчас Торн сомневается, что даже там у нее получится потеряться.
Этот город не любит гостей.
Торн неприятно здесь находиться, но она не сразу понимает, что это за ощущение; не сразу понимает, что чем глубже в город она заходит, чем дальше погружается в переулки, тем более не по себе ей становится, до тянущего ощущения под лопатками, до скованности в позвоночнике. Ее тонкие легкие туфли быстро теряют вид на выбитых улицах и в грязных лужах, а холод молочно-голубого тяжелого воздуха пробирает до костей. Она оглядывается без конца, перебегая взглядом с вечных стен самого Бастиона на старинные постройки старых жителей, тысячу раз реставрированные, а с них – на новые домишки, больше напоминающие конструкции из соломы и ласточкиной слюны. Миновала попрошаек, пьянчуг, чернеющие переулки, вышла на звук музыки. Уличные исполнители, почти неживые, настолько механические и лишенные души, наполняют темные улицы каким-то неестественно-жутким духом. Их веселые мелодии здесь неуместны. Дики.
Ей кажется, что с их игрой что-то не так. На одно короткое мгновение Торн даже списывает все на свой слух, в конце концов, росла бок о бок с музыкантами. Но, вглядываясь в их лица, внезапно понимает: дело не в этом.
Этот город, и Торн ощущает это всей своей сутью, в тысячу раз древнее, чем любой его житель, что уж говорить про любого чужака, приехавшего из-за океана. Этот город древний, и он живой. Это чудовище стояло с начала времен, и простоит еще столько же, и никто здесь не понимает, где оказался. Они думают, что просто нашли заброшенный Бастион, который можно заселить, заполонить и жить в свое удовольствие. Но он проглотит их, как проглотил всех до этого.
Когда Торн оглядывается вновь, ей кажется, что она видит не только холодные черные стены и мертвый старый камень. Шепотки и воспоминания свисают со стен, как перезрелые ягоды, чужие застарелые горести цветут, раскрываясь окровавленными лепестками. Ей кажется, что она может выбрать воспоминание и последовать за ним, и ей нестерпимо хочется это сделать. Всего пара шагов, прикосновение к окрашенным кровью лепесткам, и…
– Эй!
Тяжелая рука Молли вырывает ее из полутранса, и Торн устало потирает глаза. На кончиках пальцев остаются слезы напряжения, и она видит слабое мерцание.
– Ты светишься! – Молли выдыхает, отклоняясь чуть назад. Его фиолетовые волосы заплетены в толстую косу. Никаких украшений, ничего вычурного. Его почти не узнать. – Я думал, это что-то вроде очередных, ну, слухов. Про тебя всякое говорят.
– Молли, про тебя тоже говорят, но я что-то не озвучиваю подряд все, что слышу, – говорит она раздраженно. Только бы отвлечься от назойливого жжения за глазами. Но знает, что так просто это не проходит.
Однажды она играла с Майли в небольшой роще. Караван проезжал мимо ремесленного городка на отшибе, и им строго-настрого запретили приближаться к деревьям. В этой темной земле боялись любого леса, вплоть до абсурдных суеверий, что даже в трех кленах скрывается страшное чудовище с клыками наружу. Само собой, запрет значил, что в рощу нужно было немедленно сбежать.
Они играли в прятки: Торн, Майли, другие девочки, Фиэра и Тея. Торн поддавалась, но только сестре. Когда настал ее черед ловить и искать, она могла изловить их так, так быстро. Слышала едва сдерживаемое хихиканье Майли из-за кустов, слышала тяжелое дыхание запыхавшейся Теи, кое-как взобравшейся на дерево. Слышала, как прижимается к коре Фиэра.
Она не стала ловить их сразу. Суть игры – в процессе, не в результате. Приближалась, давала понять, что она рядом, но позволяла уходить. Ей было так весело, так хорошо, когда она могла видеть и слышать. И она думала, что им весело, что им всем весело, но, когда она выпрыгнула из-за дерева на Тею, веселая, с широкой улыбкой и сияющим взглядом, она увидела только страх. А потом Тея закричала и убежала.
«У нее страшные большие клыки, – говорила она испуганной матери, – Торн хотела меня съесть!»
Хоть кто-то заступился за нее?
Когда взрослые спросили Фиэру, правда ли это, она растерялась. «Она пыталась загнать меня в реку! – сказала она. – Она светилась, и была страшная, и хотела, чтобы я упала!»
Торн помнила, как смотрела на Майли. Майли, которую всегда защищала, Майли, о которой всегда заботилась. «Ну она и правда светится иногда», – сказала тогда Майли и стала грызть яблоко.
И тогда взрослые пошли к Хорре. У Торн не было матери, но Хорра заменяла ее во всем, отвечала за ненужную полукровку, разгребала все проблемы, которые из-за нее возникали. Они говорили о чем-то так невозможно долго, и Торн не знала, куда ей себя деть. Ей казалось, что она должна чувствовать себя виноватой, но у нее не получалось, и она не понимала, как заставить себя.
А потом Хорра выпроводила тех взрослых, холодно позвала Торн к себе и усадила на кровать. «Тея говорит, что ты хотела причинить ей вред».
Торн помнила дословно, что сказала тогда. «Это неправда, потому что, если бы я хотела, они бы от меня не убежали».
И она помнила, что Хорра сказала ей в ответ. Слово в слово, до последнего нюанса ее холодной интонации.
«Ну, а они говорят, что ты хотела им навредить».
Ни капли веры. Ни единой попытки разобраться. Она, Торн, была виновата просто «потому что», безусловно, всегда.
«А даже если это не так, – сказала Хорра, будто намеренно делала только хуже, – ты должна понимать, что они тебя боятся. Ты должна быть умнее и не давать им повода. Тогда все и будет хорошо».
Так она и жила до сих пор. Не давала повода. Только вот почему-то ничего не прошло.
Сейчас она смотрит на Молли с усталым ожиданием – что он скажет, как еще укажет на ее мерзкие черты. Но он только осматривает ее с простым интересом, а потом рассеянно пожимает плечами.
– Ну не знаю, про меня же говорят только хорошее, нет? Я могу и про тебя хорошее рассказать! Правда, если я начну всем рассказывать, что с тобой хорошо проводить ночи, потому что книжки можно читать, твоя тетка меня не поймет и, возможно, всыплет ремня.
Торн закатила глаза.
– Ты немного невыносим.
– Немного?
– Самую малость.
Ей легче. Ей легче и проще сейчас, в его присутствии, когда он разряжает обстановку и перетягивает внимание на себя. И когда она тянет его гулять, она по-настоящему надеется отдохнуть и отвлечься, перестать думать о Майли. Но злость и обида пускают корни, как проклятые деревья их темной земли, и, как деревья, за годы эти чувства проникли слишком глубоко. Их не выкорчевать одними только смуглыми руками с дешевыми золотыми украшениями.
Но хотя бы на один короткий вечер она может забыть.
Говорят, в Городе-Бастионе есть все, что только можно пожелать. А потому нужно быть осторожнее со своими желаниями.
Но когда ты сам регулярно предстаешь для других примером плохой сказки со злодеями и чудовищами, начинаешь как-то скептично относиться к таким суевериям. Кто знает, может, за историей про монстра из темных глубин скрывается всего лишь очередной брошенный ребенок, которому просто не повезло унаследовать жабры от своего морского родителя.
Говорят, в Бастионе каждая старая улица проклята по-своему. Говорят, здесь кроется по десятку древних зол в каждом черном переулке. Люди вообще много говорят, в особенности о том, чего не понимают.
Но этот город и правда не желал им добра.
Торн чувствовала себя здесь так, как не чувствовала нигде и никогда. Она почти готова сказать, что Бастион ощущается для нее домом, но она не знает, что такое «дом» на самом деле. Она убегала сюда практически каждый день, в эти темные кварталы, туда, где никто ее не найдет и не будет искать. Здесь ей… спокойно.
Она знает, почему. Почему Бастион принимает ее.
Она видит его душу. Такую же темную, как и у нее, полумрак в свете прогорающей свечи. И он видит ее, и забирает ту беспомощность, что пустила корни в ее сердце. Порой она терялась в этих проулках, похороненная в его мертвой тишине. Закрывала глаза, пойманная в бесконечную паутину вязкого прошлого, переплетающего воздух. Здесь, в темноте вечного Бастиона, луна отвечает на ее взгляд, а звезды следят за ней голодным взглядом.
Здесь, в глубинах Бастиона, она в своем хищном мире, где больше не нужно притворяться. И тогда она открывает глаза по-настоящему и видит скрытое прошлое каждого маленького закутка.
Она видела Врата Воров, титанически-огромные изваяния, разделяющие Бастион напополам. Рядом с этими гигантскими могильными плитами любой ощущается песчинкой в чьем-то неряшливом и запущенном каменном саду. Торн может забываться на долгие часы, изучая вязь рисунков на Вратах Воров. Как в детстве играли они с Майли, она почти готова придумывать, что эти плетения на самом деле – буквы, и все здесь рассказывает какую-то вечную историю.
Она видела загадочный замкнутый двор. Никакой из домов не был жилым, а все внутренние стены оказались витражами тонкой работы. С узорчатых разноцветных стеклышек на Торн смотрели розы, кленовые листья, тонкие плетения, но даже ее зрение не давало разглядеть все в такой темноте. Она видела аллею, уставленную старыми сколотыми статуями, как деревьями. Вместо осыпавшихся крон – оружие наизготовку, вместо стволов – тела в затертых доспехах, на которых не различить узора мастера. Вглядывалась в сбитые лица и искала что-то, что могла узнать, но видела только воспоминания камня о некогда четких точеных лицах. Эти черты вразлет, штрихи обезумевшего от вдохновения творца, эти пропорции и острые уши. Аллея реликтовых воинов.
Бесконечно боясь кровожадных монстров из темного леса, каждый начинает жизнь, читая сказки о реликтовых принцах. Торн их тоже читала. О Баелорр, чьи глаза – выжигающие солнца, чье дыхание – чума, кто проливал реки крови только чтобы насладиться ее запахом. О Дейорайне Даэлветхе, принце, выкованном в золотом огне, повелителе света в бесконечной тьме лесов. Три сказа Эрина, полные печали: о прекрасных Биеранне, сраженном копьем из когтя бога Расгарексара; Люичаре, превращенном в гончую и загнанном как дичь; Аелисаре, младшем, но хитром, догадавшемся попросить помощи у врага…
Она читала все эти сказки. Была очарована ими в детстве, как и все остальные. Сейчас, теряясь в неразгаданном прошлом Города-Бастиона, она будто терялась в собственном детстве – там, где все только начиналось.
Иногда она не возвращалась ночью домой. Хорра спросила ее как-то, не влипла ли она в неприятности, не придут ли за ней стражники. Больше Хорра не интересовалась.
Семья, да?
Иногда Торн задавалась мыслью, что, может, она изначально родилась, чтобы быть одной. Может, в этом и крылся секрет. Обычно эти мысли возникали и пропадали, но в темных проулках Бастиона она, наконец, начала ощущать их иначе. Они больше не давили. Они ассоциировались со свободой.
Сегодня она исследует те самые дворы, которых избегают даже местные. Черные, закрытые, загадочные, нежилые. Город пугает чужаков, но они все равно засыпа́ют его, как муравьи, и не устают переделывать под себя, а самого сердца все равно избегают.
Торн всегда чувствовала себя чужой. Везде, но не здесь. И сердце этого города, не принимающее больше никого, может принять ее, разве не так?
Разумеется, так. Бастион понимает ее. А она может оценить те его закутки, которые отвергают остальные.
Проулки разные, но непроглядные, все как один. Она сбивает обувь, взбираясь по крутым улицам вверх практически бегом, натыкается на тупик. Стены со сколотой краской такие неровные, что рядом с ними страшно даже дышать, только бы не обрушить, и она сворачивает прочь, обходит квартал дугой. Двигается почти бесшумно, только мелкие лужи в выбитых камнях старой дороги шлепают, когда она бежит к другому стыку заброшенных домов. Здесь нет ни души, что-то кажется ей неправильным, диким, но она слишком поглощена исследованием, чтобы понять наверняка.
У одного из домов окно не заколочено, затянуто каким-то мутным пузырем, и Торн нужно сильно сосредоточиться, чтобы разглядеть что-то на той стороне. Но она видит какие-то очертания и от этой мысли ликует – она поняла, в чем дело. Она не может найти вход в этот двор с улицы, потому что с улицы туда не войти. Он – для бывших жителей домов. Туда можно попасть только через сам дом.
Она некоторое время ходит кругом, выбирая подходящую дверь. Все заперты, некоторые еще и перекрыты чем-то снаружи. Высадить стекла у нее тоже не выходит. Попытка взобраться на крышу провальна, даже ей не хватает ловкости. Крыши и стены скользкие, покрытые мхом и мокрые от дождя.
Торн не собирается сдаваться. Ей просто нужны ее отмычки, и…
– Ты уверена, что тебе именно сюда надо вломиться? По ощущениям, тут можно украсть максимум убитый труп мертвой крысы. Закоченевший. Мумию трупа!
Молли. Она почти всегда рада слышать Молли, только вот до чего же талантлив он в том, чтобы приходить не вовремя.
– Чем болтать, – спокойно отвечает она, рассматривая хлам у одной из дверей, – лучше бы помог. Как думаешь, тут получится взобраться на крышу?
Молли хмыкает, накручивая косу на руку. В желтых глазах – сосредоточенный интерес.
– Сомневаюсь, Торн. Хлипковатые перегородки. А от чего тут баррикадировались?
– Баррикадировались? – непонимающе переспрашивает она. Смотрит по-новому.
Двор, окруженный домами. Все покинуты, все заколочены так, что не попасть внутрь. Некоторые двери засыпаны снаружи балками, бочками, телегами. Это было очень, очень давно. Все уже разваливается.
Тем интереснее.
– Я вообще не понимаю, что ты тут забыла? – Молли ежится. У него рубашка нараспашку, чтобы все видели, насколько он в форме. Сейчас, правда, он кутается, сутулится, будто хочет казаться меньше. – Это ж помойка какая-то.
– Не все обязательно должно быть ценным и на продажу, Молли, – она почти позволяет себе улыбнуться. Вовремя успевает остановить себя, чтобы не показать зубы. – Здесь же жуть как интересно. Бастион живой. Живой и…
– Живой и жуткий! – он и правда кажется испуганным. Нет, хуже: от него пахнет страхом. – Здесь нет звуков, Торн.
Она только плечами пожимает.
– Да тут как бы не живут уже. Ты бы тоже не жил, дома же старые.
– Коты, крысы, птицы тоже все дружно ушли, потому что дома пора сдавать на реставрацию? Пойдем домой, пожалуйста…
С его словами все встает на свои места. Она же ощущала, что что-то не так. Тут и правда вообще, вообще никого и ничего нет.
Но ведь времени прошло так много. Это всего лишь брошенный квартал. Если тут что-то и было, этого уже давно нет.
– Тут людей нет, нет еды, вот и животных нет. А птицы… ну, в Бастионе вообще не то чтобы много птиц.
– Ладно, ладно тебе, – Молли нервно потирает предплечье, будто кожа у него зудит. – Ничего подозрительного в жутком отсутствии птиц. Пожалуйста, пойдем назад.
– Ты иди, – она снова разворачивается. Ей нужно осмотреть дома и понять, как попасть внутрь. Она только глазочком посмотрит, не больше. – Я к вечеру добегу, никто и не заметит, что меня нет.
Молли молчит так долго, что она уже почти готова забыть о его присутствии. Когда он выдергивает ее из мыслей о закрытом недоступном дворе-колодце, он делает это не словами.
Его рука ощущается почти горячей, когда он берет ее за ладонь.
– Я замечу. Слушай, ради меня, Торн. У нас выступление скоро, отрепетируем, я тебе булку сопру… только пожалуйста, пожалуйста, пойдем отсюда прочь.
Когда она оборачивается, встречается взглядом с его почти умоляющим выражением лица. Ему страшно здесь, страшно по-настоящему. Еще одно доказательство, что никто не понимает Бастион так, как она.
Она с мгновение смотрит на его лицо. На его руку на своей. А потом кивает.
– Хорошо, Молли, идем домой.
В конце концов… ее отмычки остались в шатре каравана.
– Ты когда-нибудь думала, почему некоторые нравятся всем, не прилагая к этому никаких усилий?
Молли сидит рядом с ней на сваленных в кучу шерстяных одеялах. Он кинул все прямо на землю, когда ему надоело носить вещи для Хорры.
Торн равнодушно пожимает плечами, вертя в руках свой небогатый ужин. Она никогда не понимала, зачем покупать овощи в городах, когда там их, очевидно, не выращивают. Скоро караван уедет обратно в пригороды, разве нет смысла купить все там?
– С тобой сегодня совершенно невозможно разговаривать, ты знаешь? – Молли не унимается, но ей все равно. Она не отводит взгляда от Вэйрика, который сегодня успешно флиртует сразу со всеми акробатками каравана разом. Вэйрик и правда нравится всем, даже не стараясь. Он не пропускает мимо ни одной девчонки, будто бы ему совершенно плевать, кого обхаживать – была бы милая мордашка. Насколько Торн помнила, Вэйрик подбивал клинья без исключения, абсолютно, совершенно ко всем девушкам, которых видел и знал, в караване или везде, где им доводилось останавливаться.
Ко всем. Кроме Торн.
Вэйрик будто бы слышит ее мысли, вдруг оборачивается на них. Улыбается ей.
У него красивая улыбка.
– О нет, оно нас заметило, – бурчит Молли у нее под боком, но она не реагирует. Отворачивается на свои овощи, будто бы ей вовсе не интересно. Вэйрик не подойдет. Никогда не подходит.
Она всю жизнь училась есть так, чтобы никому случайно не показать свои клыки, но это давалось ей не так-то просто, особенно с чем-то мягким. Она кусает, но сок брызжет вокруг безумными струями, а часть семян шлепается ей на рубашку.
– Эй, Торн! – голос Вэйрика заставляет ее поднять на него взгляд. Он, как всегда, причесанный и аккуратный, в элегантной одежде и с прекрасными черными кудрями.
У нее на щеке красные пятна, а рубашка изгваздана куском овоща. Она влезла в мякоть и носом, потому сейчас еще и похожа на клоуна.
– Привет, Вэй.
Какой. Провал.
Он улыбается ей неловко, пока она лихорадочно стирает пятна с лица, отчаянно злясь на себя. Она умудряется все портить даже тогда, когда портить, кажется, нечего.
– Так тебе чего-то надо было, да? – мрачно отмечает Молли, подаваясь вперед. Вэйрик смеется, взбивая кудри.
– Да у меня… разговор к Торн был. Личный.
Торн переглядывается с Молли. Он выглядит искренне озадаченным.
– Ну ладно… пойду поем.
Она смотрит на то, как уходит вприпрыжку Молли, чтобы потянуть время. Она не уверена, что ждет от этого «личного разговора».
– Прогуляемся? – предлагает Вэйрик. Она кивает.
Они медленно идут между повозками и палатками, выходят к границе лагеря. В Бастионе они живут под нерушимой городской стеной, и рядом с древним черным камнем Вэйрик неприятно ежится, а Торн хочется расправить плечи. Ей кажется, Бастион ненавидит всех, кто внутри. Ее заряжает это чувство. Придает сил.
Она спрашивает почти беззаботно:
– Так ты попросить о чем-то хотел?
– Да… видишь ли, – он плотнее кутается в куртку. – Репутация у меня такая, сама знаешь, ветреного парня. Я не… не совсем понимаю, как сказать это. Я вроде обдумывал все тысячу раз… хорошо выглядишь сегодня, кстати.
Торн поводит бровью. Он издевается? Она обляпалась, а волосы у нее напоминают белую паклю. Он точно издевается.
– Нет, правда. Ты же красавица. Необычная такая и…
Теперь она искренне озадачена, смотрит на него широко раскрытыми глазами. Что он… пытается сказать?
– Торн… есть кое-что, в чем я должен тебе признаться, – Вэйрик серьезнеет, встает на месте, берет ее за плечи. Она косится на его руки, ничего не понимая. – Кое-что, что я должен был рассказать уже давно. Ты знаешь меня с детства, мы росли вместе. Я отношусь к тебе по-особенному.
Это какой-то бред, думает она. Это просто смешно.
– Наступают моменты, когда нужно признать, что в чем-то был неправ. Я, признаюсь, увлекался девчонками слишком активно. Но это только потому что я искал свою единственную. И я искренне верю, что нашел ее.
Торн замирает. Смотрит на него глупо. Время словно становится вязким желе, и сквозь это желе она слышит, как Вэйрик говорит:
– Прошу, поверь, что я изменился.
У него черные глаза, как угли. Руки теплые, загорелые.
– Потому что я должен тебе открыться.
Торн не помнила, когда они стояли так близко раньше. Никогда, наверное.
– Да?..
– Я искренне хочу жениться на твоей сестре.
Ох.
Вязкое время застывает, схваченное ледовой коркой, и разбивается вдребезги, ускоряясь в один момент. Она вдруг слышит все: крики птиц, смех детей в караване, звук кузнечного молота Адана. Чувствует холодный ветер Города-Бастиона, его слабое подземное гудение, тепло рук Вэйрика.
– Эмм… – у нее нет слов. Она тянет время, аккуратно выворачиваясь из его захвата. – А мне ты это говоришь, потому что?..
– Потому что ты должна одобрить, конечно же! – он снова пытается ее схватить, и она раздраженно отступает на шаг. Вэйрик нервничает. – Серьезно, Торн, ты же как страшный старший брат! Но мне нужно, чтобы ты поверила, что я искренне хочу быть хорошим мужем твоей сестре, а вовсе ее не обидеть. И я перестану ухлестывать за другими, клянусь!
Ей не хочется это слушать. Не хочется его видеть. Практически душит соблазн крикнуть ему в лицо, что ей вообще плевать и на него, и на Майли – пусть разбираются между собой, она тут ни при чем. Но она понимает, в глубине души она прекрасно понимает, к чему был этот нервный разговор.
Как там в сказках? Хочешь получить принцессу, убей дракона? Или умилостивь, если не хватает сил убить.
Ее душит гнев. Злость. Она давит это в себе изо всех сил.
– Я подумаю, только перестань хватать меня. Точно не одобрю, если дотронешься еще хоть раз.
– Спасибо! Ты не пожалеешь! – и, хлопнув ее по плечу, Вэйрик спешит уйти прочь, подальше от нее. Стоит ему скрыться, Торн сжимает кулаки до боли, пинает какой-то камень прямо в вечную стену и обессиленно опускается на землю. Она так зла сейчас, запускает пальцы в сухие волосы, сбивает шапку – так зла, что, кажется, взорвется. Не на Вэйрика, на себя.
Вот чего она ожидала? Чего? Он никогда не обратит на нее внимание. Никогда, ни в каком сценарии. Размечталась.
Вэйрику нравятся симпатичные девочки. Не долговязые чудовища.
Она не знает, сколько так сидит, пока не слышит знакомый веселый голос:
– Эй, фонарик.
Молли опускается рядом с ней, толкает ее плечом и щелкает по острому уху. Она немедленно одергивает шапку.
– Что этот хмырь тебе наговорил? Ты светишься опять.
Торн заставляет себя сосредоточиться, взять себя в руки. Потирает висок, изо всех сил делает нейтральный вид.
– На Майли нацелился.
Молли присвистнул.
– Я б предложил ему врезать, но знаю, что ты врежешь ему лучше, чем я. Все в порядке?
Торн пожимает плечами. Она не в порядке, и не может объяснить ему, почему.
– Ну, надеюсь, твоя сестра умная и скажет ему «нет». Я не понимаю, кому он вообще может нравиться. Мне вот он не нравится!
Она смеется.
– Да. Да, главное – что нравится тебе. Эталон ты мой.
– Нет, ну а что, Торн? Посмотри на него. Ему ж все равно, куда… направлять свой энтузиазм. И поговорить с ним не о чем, он же дубень.
– Он справляется без разговоров, Молли.
– Тем более, вообще не понимаю, кому и как он может нравиться. Ему ж все равно, кого танцевать. Кто может такого захотеть от своего партнера? Я имею в виду… с кем-то вроде Вэйрика никогда не почувствуешь себя особенным. Разве что очередным.
Торн смотрит в направлении ушедшего Вэйрика и не знает, что ответить. Дело не в том, что она хочет его внимания, понимает она. Это и правда сделало бы ее «очередной».
Ей никогда особенно не была нужна его любовь. Ничья, откровенно говоря. Но когда совершенно у всех вокруг что-то есть, даже самая откровенная дрянь, и только у тебя одной этого нет, закрадывается мысль, почему. Как черви в яблоках, медленно выедает изнутри: «А что со мной не так»?
Дело не в том, чтобы получить то, что есть у всех.
Дело в том, что если ты чувствуешь себя непривлекательной даже для волокиты, который подкатил бы и к лошади, – заставляет задуматься.
Торн эти мысли не нравятся.
– Да, пожалуй, – соглашается она, скорее, чтобы не молчать. А потом подскакивает и тянет за собой Молли.
Она хочет отвлечься, и будет метать кинжалы и тренировать номер до самого утра.
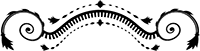
IV

Торн не ищет неприятности. Неприятности находят ее.
В городе она видела много неприятных личностей. Бандитов, грабителей, обманщиков гораздо более опасных, чем те, что скрывались в караване. Бастион был домом для бесконечного количества мерзких личностей, и она видела их насквозь.
Видела, но никогда не связывалась. До сегодняшнего дня.
Ей плевать, что она здесь чужая. Плевать, что практически каждый здесь готов будет поднять ее на копья, только увидев ее острые уши и клыки, плевать, что она никого здесь не знает; она не позволит никому трогать девочек, которые не могут за себя постоять.
Выпускать гнев в городе просто. Гнев – ее спасение, огонь, в котором сгорает все остальное: обиды, слезы, непонимание, горечь, отчаяние. В Бастионе навсегда останется кровь, которую она пролила, боль, которую она оставила о себе на память, синяки, ушибы и переломы.
Она избила троих, прежде чем поняла, что девочка-жертва уже сбежала, а в переулке появлялись новые друзья обидчиков. Торн быстрее и ловчее большинства, но прекрасно знает, когда ситуация складывается не в ее пользу – и она бежит. Ее преследователи могут думать, что знают Бастион, но она его чувствует, и никто не поймает ее в сумеречных тенях вечного города.
Она сама не понимает, куда бежит, пока не оказывается напротив знакомой конструкции из забаррикадированных домов. Все еще может чувствовать вкус крови на разбитых губах, сладко-горький вкус сомнения, обманчивую осторожность. И вырывает это чувство с корнем, вскрывая дверь отмычкой за мгновение.
Внутри все старое, пыльное. Ее острое обоняние страдает здесь, ей кажется, что ее лицо накрыли подушкой, набитой мохнатой пылью. Она натягивает воротник на лицо, но тут же одергивает назад, а потом снимает и шапку. Здесь душно, слишком душно, чтобы перекрывать себе воздух, и нет других глаз. Она может выглядеть так, как ей угодно.
Столы, шкафы, старая мебель – пустые, покрытые пылью вещи, никому не нужные, брошенные. Все здесь какое-то желтое, гнусное, как на плохих картинах, которые она видела на портовом рынке. Так рисуют вечера на светлой земле, все в мерзком ржавом цвете. На темной стороне не бывает солнечного света, и ее это устраивает больше. Здесь неприятно. И ничего нет.
Она не интересуется домами и квартирами, у нее другая цель. Ей нужен двор.
Доски и половицы скрипят под ее весом, она оставляет в пыли узкие следы. Здесь нечем дышать, будто бы это место было полностью изолировано от мира вокруг, могила для десятков людей, хватающих свои последние вдохи. Ее не волнует прошлое этих домов, как бы они ни кричали о своем негостеприимстве. Этот город живой, он ненавидит всех. Если играть по его правилам, она не навлечет на себя беды.
Ей нужен тот проклятый двор с колодцем.
Все двери, ведущие наружу, заставлены шкафами и кроватями, завешаны цепями с огромными замками. Но мебель рассыхается от прикосновения, а цепи давно проржавели. Что бы здесь ни случилось когда-то, это было так давно, что должно быть уже забыто. И Торн не ощущает опасности.
Она всегда полагалась на свое чутье. То, что досталось ей от ее безымянного отца-чудовища, помогало ей выживать, предупреждало, оповещало. Если все внутри нее молчит сейчас, разве это не значит, что все опасное отсюда уже ушло?
Ей требуется время, чтобы найти окошко, которое можно снять. Оно маленькое и почти под потолком, но у Торн узкие плечи и тонкое телосложение, и она легко пролезает внутрь.
Только снова оказавшись снаружи, она вдыхает полной грудью. Лишь сейчас она понимает, насколько внутри нечем было дышать.
Она там, где и хотела оказаться; оглядывается, рассеянно убирая отмычки. Она добилась того, чего хотела, но тут… ничего нет. Ничего, кроме пустого двора и старого колодца.
Впрочем, чего и следовало ожидать.
Торн обходит двор, осматривается. Возвращается к колодцу, заглядывает внутрь.
Старый камень мокрый после дождя, держится некрепко. Камень выскальзывает из блока, Торн дергается вперед и едва успевает ухватиться за борт колодца с другой стороны. Она зависает над черной дырой, а ее кинжал выскальзывает из ножен и со звоном летит вниз, оббиваясь о стенки. Шлепается, кажется, в лужу.
С мгновение она не понимает, что происходит. А потом ругается, громко и отчаянно.
Она не может оставить этот кинжал. Это подарок Адана. Она не может. Нет.
Рывком оттолкнувшись, Торн встает на ноги. Панически думает, что ей делать. Ей нужно вниз, судя по звуку, воды там почти не осталось, и спускаться недалеко. Ей нужны веревка и что-то тяжелое.
Она шарится по домам, кажется, целую вечность, прежде чем находит что-то подходящее. Еще дольше тащит на улицу тяжелый шкаф и другие вещи, которые можно положить сверху для надежности.
Для акробата нет сложностей в том, чтобы спуститься вниз даже по отвесной стене, но она должна гарантировать себе, что сможет уйти.
Торн спрыгивает вниз. Грязная лужа шлепает, брызги оставляют пятна на ее сапогах. Она кривится, отчасти от запаха. Здесь висит такой густой дух сырости, плесени и гнили, что, кажется, его можно резать ножом.
Ассоциация возвращает ее к реальности. Она обшаривает взглядом землю под ногами, но видит только каменный тоннель. Кто-то выложил здесь все так, словно это рабочие катакомбы, пусть и много лет назад. Перед ней – коридор, ведущий в непроглядную черноту.
Большинству здесь нужен был бы свет, но Торн прекрасно видит в темноте; могла бы быть своим собственным огоньком, если бы только знала, как это контролировать. Она прекрасно видит даже в кромешной тьме, но не может найти свой кинжал. Внутри снова закипает злость; Торн всю жизнь страдает от слишком сильных эмоций, но в караване нельзя их выражать, чтобы не получить еще больше косых взглядов. Страх, недоверие, ожидание угрозы – чужие эмоции, ради которых она ограничивает свои. Но не здесь.
Торн ругается снова, пинает камень. Сжимает кулаки до крови, злясь только на себя. Почему ее угораздило сюда полезть? Зачем ей был нужен этот колодец?
Она тщательно водит носком сапога по земле, не пропуская ни участка. Здесь так тихо, что она слышит движение воды, шуршание подошвы по мокрому камню, свое собственное дыхание. Здесь так темно, что трудно всматриваться дальше собственных рук.
Чернота накрывает ее покрывалом, и это не уютная тьма темной земли.
Здесь ничего нет, говорит она себе. Уже давно ничего нет.
Чуть дальше коридор становится уже, сворачивает в сторону. Прямо перед ней – решетка, намертво вмурованная в стену, крепкая до сих пор. Опускаясь на корточки рядом с ней в поисках оружия, Торн видит поросшие мхом линии. Четыре короткие, совсем рядом, по ту сторону решетки. На стене у самого пола, уходят во тьму. Близко посаженные. За блоки камней что-то зацепилось, что-то мелкое, твердое, желтушно-беловатое и старое. Обломок ногтя.
Она снова переводит взгляд на мшистые линии. Помедлив, протягивает руку.
Ее пальцы идеально ложатся на мох.
На чьи-то отчаянные царапины.
Что-то шлепает по воде вдалеке, и Торн рывком поднимается, отскакивая от решетки. Внезапно она осознает, что слева от нее все это время был коридор дальше, вниз, в темноту. Коридор, к которому она несколько минут сидела спиной.
Ее пальцы сжимаются на рукояти второго кинжала. Она оборачивается рывком… и невольно пинает свой многострадальный потерянный клинок. Тот звякает и скатывается по мокрому тоннелю вниз.
– Дура, – говорит она себе – и тут же прикусывает язык. Ее голос здесь звучит неуместно. Ее голос живой.
Ничто не должно быть живым в этом месте, и она нарушает правила.
Но Торн не уйдет без своего кинжала.
Она осторожно ставит ногу на покатый пол. Он ощущается скользким, но какой акробат жалуется на равновесие?
Она слетает вниз в одно мгновение, но не ждет, что коридор оборвется так резко. Мгновение падения, она едва успевает сгруппироваться – и вот она с хрустом падает на пол.
Все здесь усеяно чем-то мелким, хрустит под ее весом так громко, что она хочет немедленно бежать, потому что этот звук привлекает внимание. Здесь, может, ничего уже не живет, но звуки все равно кажутся преступно лишними.
Торн замирает, восстанавливая мертвую тишину, и только спустя мгновение понимает, что сжимает свой второй кинжал так сильно, что умудрилась порезать себя. Мелочи; она всегда легко относилась к ранам и порезам. Она регенерирует быстрее других.
Теперь она сосредотачивает все свое внимание, чтобы найти первый кинжал до того, как начнет двигаться. Выцепляет его на краю какой-то ямы, примеряет расстояние и идет очень, очень осторожно. Минимум шума, минимум шагов.
Весь пол покрыт высохшими скелетами птиц и крыс. Умерли от голода, видимо, – с другой стороны, здесь же был выход наружу.
Торн не понимает, и ей это не нравится. Не нравится запах, не нравится место. Молли был прав, а она, как всегда, слишком поддалась эмоциям. Радует одно, ее полукровное наследие защищало ее от болезней. Она не подхватывала обычную заразу.
Но она все равно будет отмываться несколько часов, когда вернется.
Торн наклоняется за своим кинжалом осторожно, одним точным движением. Тот почти соскальзывает в яму в последний момент, но она вовремя хватает его за лезвие. Капелька ее крови стекает по рукояти и падает в темноту без единого звука.
Спиной вперед, не оборачиваясь и не отрывая взгляда от ямы, Торн повторяет свои шаги обратно. Клинки на месте, она упирается в край оборвавшегося каменного коридора и, выдохнув, в одно мгновение оборачивается и залезает.
Скользко. Слишком скользко.
Всего ее роста еле хватает, чтобы раскинуть руки и застыть, хватаясь за края. Она почти висит сейчас, спиной к костяному залу мертвых крыс.
Спиной к черной яме.
Торн не любит поворачиваться спиной к таким местам.
«Думай, – она должна понять, что делать, – думай!»
Чем дольше ждет, тем больше ей не по себе. Нужно было тащить веревку сюда, а не у этого разваливающегося бортика ее оставлять.
Мысль оказывается верной. Здесь все сырое, старое, стыки между камнями ненадежные. Лезвие кинжала входит легко, как в масло.
Кинжалы она тоже будет долго мыть, когда вернется домой.
Она держится за один кинжал, перебрасывает себя вперед рывком, вонзает второй. Но тот, первый, ей не вынуть, не поскользнувшись, и она скалится, сжимает зубы от злости.
– Торн!
Голос Молли сейчас звучит громом. Чем-то неправильным, каким-то нарушением. Она смотрит на него панически распахнутыми голубыми глазами и одними губами говорит:
«Молчи».
Он весь в пыли, его фиолетовая коса растрепалась, и когда он видит выражение ее лица, ему страшно. Даже ему.
Он должен сбежать сейчас. Сбежать и никогда больше не говорить с ней ни о чем.
Но… он кивает. И протягивает ей руку, держась за угол покатого коридора.
Его руки теплые, как вечера у костра. Он хватает ее руку так, как всегда делал на их представлениях. Надежно. Привычно.
А потом рывком помогает ей вылезти.
Они выбираются из колодца молча, Торн не помнит про брошенную шапку и тащит его за собой прочь. Они бегут прочь из этого квартала так быстро, как порой она не убегала от тех, кто ловил ее на воровстве. Бегут долго – она не знает, сколько. Торн приходит в себя, только когда чувствует, как пахнет свежими вафлями из забегаловки рядом.
Тогда она вспоминает, что ее уши торчат из волос, что любой может узнать ее. Но мимо них идут люди, окидывают их обоих взглядом, и… им все равно.
А потом она замечает, что у некоторых из них тоже есть что прятать от других.
– Ну и ну, – Молли возвращает ее в реальность, простонав откуда-то снизу. Он запыхался и не может отдышаться, упирается в колени, согнутый напополам. – Мне там… не понравилось!
Торн там тоже не понравилось. Но она признаваться не собирается.
– А зачем ты туда полез, Молли?
– Шутишь? – он выпрямляется, встрепанный и пушистый. – Ты влезла в какую-то дрянь, разумеется, я полез за тобой!
Она только скептично поводит бровью. Молли закатывает глаза.
– Послушай, Торн-без-фамилии. Я полезу за тобой в любую мерзкую яму. Куда угодно. Партнеры так и делают – вытаскивают друг друга.
– Я бы сама справилась.
– Ты со всем можешь сама справиться. И я могу. Только это не обязательно. Ты можешь на меня положиться. Всегда.
Торн отводит взгляд на вывеску, будто ей жизненно важно узнать, откуда же так пахнет. Будто это важнее. Разумеется, нет; но у нее нет слов для Молли. Она не знает, как на это отвечать, потому что все, что у нее на уме сейчас – что он хочет за эти слова получить.
Она должна чувствовать вину, наверное.
– Вафли будешь?
Молли моргает непонимающе. А потом пожимает плечами.
Говорят, пепельная сталь принимает лишь тех, кто готов проливать ею и свою, и чужую кровь.
Может, это и миф, но одного никто не стал бы отрицать – клинки из пепельной стали физически неприятно держать в руках. Они непослушны, от них зудит и болит вся рука, вплоть до кости, тем самым нарастающим ощущением, к которому невозможно привыкнуть, потому что чем дольше терпишь, тем хуже становится.
Отличная хитрость для конкурсов на метание.
Второй клинок вошел чуть ближе к центру мишени, но достаточно далеко, чтобы дать зрителям ложную надежду. Торн могла бы добиться лучшего результата, но лучший им не был нужен, по той же самой причине, по которой она носила колпак и маску вместе со своим костюмом арлекина. Зрители должны верить в то, что перед ними кто-то столь же обычный, как и они, разве что самую малость творческий. Должны верить, что они и правда могут попытать удачу, испытать свои таланты, и даже выиграть что-то.
Прекрасный, желанный всеми обман.
Торн могла бы тренироваться перебарывать упрямую сталь. Вместо этого она тренировала лишь новые способы быть «недостаточной».
Будто бы ей не хватало этого в других сферах.
Она знает, что Вэйрик пришел поговорить, но не собирается обращать на него внимание. Она не хочет видеть его, не хочет слышать. Если ему и правда что-то нужно, придется открывать рот и заговаривать самому.
– Ээй… Торн.
Последний из ножей оказался в мишени, и она раздраженно встряхивает руками. Больно, тяжело, тянет-тащит кости из рук свинцовыми клещами. Это чувство определенно не помогает не раздражаться на Вэйрика сейчас.
Пользуясь паузой, он выскакивает перед ней. Заглядывает ей в лицо своими черными глазами, так просяще, с таким испуганным интересом. Он напоминает ей щеночка, который трясется, но все равно собирается что-то клянчить.
– Привет. Передай ножи, будь добр.
Она с мелочным мстительным удовольствием смотрит, как он касается пепельной стали и морщится, как она заставляет его вспомнить, из чего состоит его тело. Боль от пепельной стали словно расслаивает, заставляет ощущать все по отдельности и одновременно. Так же сильно раздражает, как внезапно осознать, что дышишь – понять, что твоему телу нужно это: втягивать воздух, выпускать его наружу. Как ощутить, что рот не просто есть, и что он не пустой, а в нем лежит самый настоящий язык, и он там мешает. Как вдруг заметить, что моргаешь каждый отведенный промежуток времени.
Торн раздражают эти ощущения ровно так же, как и других, но она всю жизнь училась контролировать свое тело, не показывать, не чувствовать. Какая-то упрямая сталь ее не победит.
– Ты хотел чего-то?
– Да, – Вэйрик испытывает заметное облегчение, когда передает Торн метательные ножи. Он даже содрогается немного. – Я спросить хотел. К тому нашему разговору.
Она молчит. Подкидывает один из ножей, проверяя баланс. Этот плохой, нужно будет отдать его Адану.
– Торн? – Вэйрик нервничает, отступает от нее на шаг, оказываясь ближе к мишени. Его нервируют блики на клинках. Будто бы он думает, что она может его зарезать, прямо здесь и сейчас.
