автордың кітабын онлайн тегін оқу Великолепные Эмберсоны
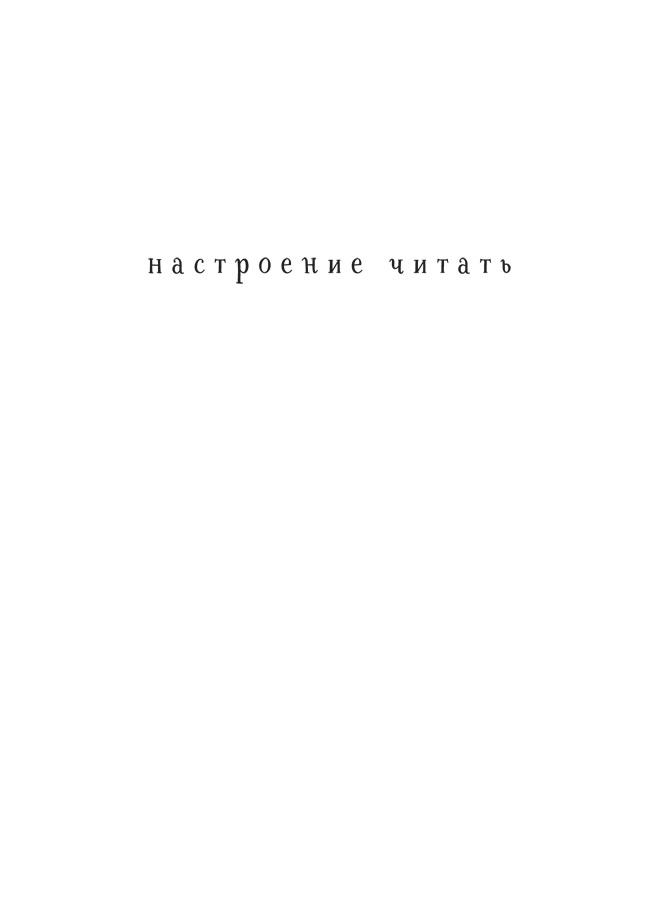

16+
Booth Tarkington
THE MAGNIFICENT AMBERSONS
Перевод с английского Евгении Янко
Серийное оформление и оформление обложки Владимира Гусакова
Таркингтон Б.
Великолепные Эмберсоны : роман / Бут Таркингтон ; пер. с англ. Е. Янко. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2025. — (Настроение читать).
ISBN 978-5-389-27794-6
«Великолепные Эмберсоны» — один из самых прославленных американских романов начала XX века, удостоенный Пулицеровской премии, история крушения богатой семьи, беззаветной любви и жестокого высокомерия. Главный герой книги — Джордж Эмберсон, последний отпрыск могущественного рода, эгоистичный, избалованный юноша, готовый принести в жертву своей гордости чувства самых близких людей. Однако грядет его падение: почтенный мир элегантных особняков, конных экипажей и богатых землевладельцев уходит в прошлое, уступая место многоквартирным домам, машинам и ушлым дельцам. Только любовь остается равнодушной к смене времен, лишь она одна способна спасти утратившего «великолепие» Джорджа Эмберсона.
Роман Бута Таркингтона «Великолепные Эмберсоны», опубликованный в 1918 году, был восторженно встречен читателями и критикой и впоследствии трижды экранизирован (самая известная экранизация сделана Орсоном Уэллсом в 1942 году).
Впервые на русском!
© Евгения Янко, перевод, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®
Глава 1
Майор Эмберсон сделал состояние в 1873 году, когда люди состояния теряли. Тогда и началось великолепие Эмберсонов. Великолепие, как и размер состояния, всегда относительно, это понял бы даже Лоренцо Великолепный [1], доведись ему испытывать судьбу в Нью-Йорке 1916 года, но Эмберсоны были воистину великолепны для своего времени и места. Слава этого семейства не померкла и в те годы, когда их городишко на Среднем Западе рос и развивался, превращаясь в город, и достигла своего пика во времена, когда каждой процветающей семье с детьми полагалось держать ньюфаундленда.
В те дни все женщины в городке, одетые в шелка и бархат, знали всех прочих женщин, одетых в шелка и бархат, а если кто-то вдруг покупал котиковое манто, то даже лежачие больные стягивались к окнам, чтобы полюбоваться на это. Зимой люди разъезжали по Нэшнл-авеню и Теннеcси-стрит на легких санях, и все узнавали рысаков и их хозяев, как узнавали и летними вечерами, когда изящные экипажи проносились мимо в соперничестве не менее остром. Поэтому все помнили, кто в каком экипаже ездит, могли узнать его за полмили по одним лишь очертаниям и безошибочно сказать, направляется ли хозяин на рынок, в гости или просто возвращается с работы домой к обеду или ужину.
В те далекие годы элегантность оценивалась по добротности и фактуре одежды, а не по ее фасону. Прошлогоднее шелковое платье не требовалось перешивать, оно оставалось нарядным просто потому, что было шелковым. Старики и чиновники ходили в черных шерстяных костюмах, по торжественным случаям меняя суконные штаны на велюровые, и повсеместно можно было наблюдать мужчин всех возрастов, полагающих, что шляпа — это такая жесткая, высокая, обтянутая шелком штука на голове, именуемая некоторыми наглецами «печной трубой». Они не признавали иных головных уборов ни в городе, ни в деревне и по простоте душевной катались в таких шляпах на лодках.
Но благородство фактур сменилось модой на фасоны: портные, сапожники и шляпники, поднабравшись сил и хитрости, изыскали способ делать новую одежду старой. Все долго болели котелками: один сезон их тулья напоминала ведро, в следующем бывала похожа на ложку. В каждом доме по-прежнему стояло приспособление для снятия сапог, но сапоги уже почти не носили, предпочитая туфли и ботинки; и даже тут мода плела свои интриги: в том году носы были квадратные, а в этом острые, как у каноэ.
Брюки со стрелками стали считаться плебейскими — стрелка свидетельствовала, что брюки лежали на полке в магазине готового платья. Эти предательские штаны в народе прозвали «конфекционными» [2], что указывало на их покупку в лавке. В начале 1880-х, когда женщины носили челки и турнюры, среди денди появились первые «хлыщи»: в брюках, обтягивающих почище чулок, в остроносых туфлях, в котелках ложечкой, в однобортных честерфилдах [3] с короткими расширяющимися полами и жутко неудобных воротничках, отглаженных до блеска и не ниже трех дюймов, перетянутых либо тяжелым, пышным шейным платком, либо крошечной бабочкой, годной разве что кукле на косички. На выход они рядились в такие куцые коричневые пальтишки, что из-под них высовывались фалды черных фраков дюймов на пять; однако через пару сезонов пальто уже волочилось по земле, а узкие штаны сменялись мешковатыми брюками. Потом хлыщи канули в Лету, но слово, созданное специально для таких типов, навеки осталось в речи грубиянов.
Народ был тогда волосатее. Размер и форма бороды зависели от фантазии ее носителя, и даже такие своеобычные штуки, как смахивающие на кабаньи бивни усы а-ля Вильгельм Второй [4], ни у кого не вызывали удивления. Бачки обрамляли по-детски свежие лица; огромные, пушистые бакенбарды подметали юные плечи; ламбрекены усов скрывали губы, вид которых был давно позабыт; и даже сенатор мог позволить себе белесый пушок на шее, не опасаясь, что сие украшение послужит поводом для газетного пасквиля. Конечно, тут и не надо иных доказательств, что совсем недавно мы жили в другом веке!
В самом начале процветания Эмберсонов большая часть домов городка являла собой премилые образчики архитектуры Среднего Запада. Им не хватало стиля, но не было в них и претенциозности, а то, что ни на что не претендует, стильно само по себе. Они стояли в просторных дворах под сенью не вырубленных в дельте реки лесных деревьев: вязов, грецкого ореха, буков и высоких платанов. Дом «видного горожанина», выходящий окнами на Милитари-сквер, Нэшнл-авеню или Теннесси-стрит, обычно был из кирпича с каменным цоколем или дерева с кирпичным фундаментом. В доме имелся парадный вход, заднее крыльцо, а иногда и боковая веранда. Двери вели в «переднюю переднюю», в «заднюю переднюю», а иногда и в «боковую переднюю». Из «передней передней» можно было попасть в три комнаты: гостиную, залу и библиотеку; и последней пользовались по прямому назначению — по какой-то причине люди в те времена покупали книги. Как правило, семья проводила больше времени в библиотеке, чем в зале, а вот гостей, пришедших по приглашению, принимали исключительно в гостиной — очень неудобном помещении, отвратительно пахнущем мастикой. Обивка мебели в библиотеке была несколько потертой, но в гостиной, на враждебных человеку стульях и диване, всегда блистала новизной. При всей изношенности ее хватило бы еще на тысячу лет.
На втором этаже находились спальни: самая большая принадлежала маме и папе, в маленьких селили по паре сыновей или дочерей; в каждой стояла двуспальная кровать, умывальник, бюро, платяной шкаф, столик, кресло-качалка, а также один или два чуть покалеченных стула, принесенных с первого этажа, — слишком дешевых для починки и слишком дорогих для решительной отправки на чердак. На том же этаже располагалась «свободная комната» для гостей (куда частенько помещали швейную машинку). В семидесятых все поняли, что без ванной им не обойтись. С тех пор в каждом новом доме она проектировалась специально, а в домах постарше просто сносили пару кладовок, прятали бойлер за кухонную плиту и «алкали чистоты» каждый в собственной ванной. Все неувядающие шутки про водопроводчиков появились именно в тот период.
В глубине дома, ближе к чердаку, имелась холодная и мрачная комнатенка «для девушки», а в конюшнях к сеновалу примыкала так называемая «спальня для работника». Чтобы построить дом и конюшню, требовалось примерно семь или восемь тысяч долларов, и люди, у которых такие деньжищи водились, немедленно причислялись к богачам. Обитательнице спальни «для девушки» платили в то время два доллара в неделю, потом два с половиной, а под конец целых три. Обычно она была ирландкой, или немкой, или скандинавкой, но никогда уроженкой здешних краев, за исключением цветных, конечно. Мужчина или парень, живший при конюшне, получал почти столько же и тоже, особенно в более поздние времена, был из путешествующих третьим классом, но гораздо чаще оказывался цветным.
С рассветом, в погожие деньки, во дворах за конюшнями становилось оживленно; по их пыльным просторам разносились смех и крики, сопровождаемые веселым аккомпанементом скребков, отражавшимся от заборов и стен сараев, потому что черные любили чистить лошадей на свежем воздухе. При этом они громко сплетничали, даже не пытаясь понизить голос, потому что считали: брань без крика теряет свою силу. Жуткие словечки тут же подхватывали рано встававшие дети и передавали их взрослым в самые неподходящие минуты; дети поглупее в пылу возбуждения часто повторяли услышанные выражения, и последствия таких промахов запоминались ими на всю жизнь.
Их больше нет, тех темнокожих работников из городка, как нет и тех коней, которых чистили скребками и щетками, пошлепывали и дружески поругивали, — больше тем лошадкам не отмахиваться хвостом от мух. Каким бы вечным ни казалось их существование, их постигла участь американских бизонов — или фартуков для экипажей, сделанных из шкур тех бизонов, вытертых до блеска и постоянно слетающих с коленей беспечных возниц, чтобы болтаться над дорогой в нескольких дюймах от земли. Конюшни стали обычными сараями, как и дровяники, из-за похода в которые возникало столько ссор между «девушками» и «работниками». Больше нет ни лошадей, ни конюшен, ни дровяных сараев, как нет и целого племени «работников». Они исчезли так быстро и так тихо, что мы, те, кому они служили, даже не заметили их ухода.
Как не заметили многого другого. Исчезли маленькие тряские конки на длинных рельсах, прорезающих булыжник мостовой. К задней двери вагончика вела лишь приступка, на которой в дождь мокрыми гроздьями висели пассажиры, если экипаж был забит до отказа. Люди, если не забывали, опускали плату в прорезь ящика; в шатком вагончике отсутствовал кондуктор, но кучер, не вставая с ко`зел, предостерегающе стучал локтем по стеклу, если количество монеток и пассажиров не совпадало. Конку тащил одинокий мул и иногда утягивал ее с путей, тогда все выходили и помогали поставить экипаж обратно на рельсы. Подобные церемонии казались вполне заслуженными, ведь кучер всегда был так любезен: стоило какой-нибудь даме свистнуть из окошка своего дома, как конка сразу останавливалась и ждала, пока леди закроет окно, наденет шляпку и пальто, спустится со второго этажа, отыщет зонтик, оставит «девушке» распоряжения по поводу обеда, и выйдет на улицу.
Пассажиры в те дни почти не возражали против подобной галантности возниц: всем хотелось, чтобы и их дожидались, случись такая нужда. В хорошую погоду мул тянул конку со скоростью чуть меньше мили за двадцать минут, если, конечно, не было слишком долгих остановок; но с появлением трамвая, проходящего то же расстояние минут за пять, а то и меньше, ждать кого-либо перестали. Да и пассажиры стали менее терпеливыми, ведь чем скорее они доедут, тем меньше времени пропадет даром! В ту пору, не знавшую адских изобретений, заставляющих людей лететь по жизни, когда ни у кого не было телефонов (в старину их отсутствие дарило множество часов досуга), все находили время на все: время подумать, время поговорить, время почитать, время подождать даму.
У них даже находилось время станцевать контрданс-кадриль или лансье, а еще танцевали мазурку и экосез, и польку, и даже такой хитрый танец, как портлендская джига. Готовясь к танцевальным вечерам, в доме распахивали раздвижные двери между гостиной и залой, закрепляли края ковров, приносили пальмы в зеленых кадках, под лестницей в «передней передней» рассаживали троих или четверых музыкантов-итальянцев — и веселились ночь напролет!
Но самым шумным было празднование Нового года. Вот тогда закатывались гулянья — так справлять уже никто не умеет. Женщины приходили помогать хозяйкам «открытых приемов»; беспечные мужчины, расфранченные и благоухающие одеколоном, разъезжали по городку на санях, в экипажах или на неповоротливых извозчиках, кочуя с приема на прием; там они оставляли причудливые открытки и визитки в предназначенных для этого нарядных корзинках у входа и вываливались из дверей на улицу, ощущая себя гораздо беспечнее, если пунш пришелся по вкусу. А пунш всегда был замечательным, и ближе к вечеру прохожие могли наблюдать, как из экипажей, раскатывающих по улицам, доносятся обрывки песен, сопровождаемые бурными взмахами рук в ярких обтягивающих перчатках.
«Открытые приемы» были веселым обычаем, который исчез, как и продолжительные пикники в лесу, и самая милая причуда ушедшего прошлого — серенада. Когда в городок приезжала красотка, под ее окнами почти сразу начинали петь серенады, хотя на деле само наличие гостьи служило лишь предлогом. Летними вечерами молодые люди стояли с оркестрами под окнами симпатичной девушки — или ее отца, или хворой незамужней тетушки — и к нежным звездам, наигрываемые флейтой, арфой, скрипкой, виолончелью, корнетом и контрабасом, летели мелодии песен «Ты запомнишь меня», «Сон цыганки», «Серебром по золоту», «Кэтлин Маворнин» или «Прощание с солдатом».
Была и другая музыка, ибо в те дни балом правили французская оперетта и комические оперы: то было триумфальное шествие «Свадьбы Оливетты», «Клятвы любви», «Корневильских колоколов», «Жировле-Жирофля» и «Фра-Дьяволо». Более того, то была пора «Пинафора», и «Пиратов Пензаса», и «Терпения». Последняя оказалась особенно актуальна [5] в американском городишке, ведь, пусть далеко от Лондона, он так пропитался модным эстетством, что со старой доброй мебелью стали происходить жуткие вещи. Девы распиливали этажерки пополам и покрывали их останки позолотой. С кресел-качалок снимались полозья, а то, что после этого называлось ножками, золотилось; девицы даже раззолачивали рамы пастельных портретов безвременно почивших дядюшек. Вдохновившись свежим пониманием прекрасного, они выдавали старинные часы за новые и выбрасывали искусственные цветы, восковые фрукты и защитные стеклянные колпаки в мусорные кучи. В вазы они ставили павлиньи перья, или камыш, или сумах, или подсолнухи, а сами вазы водружали на каминные полки и инкрустированные мрамором столы. Вышивали ромашки (называя их маргаритками), и подсолнухи, и сумах, и камыш, и сов, и павлиньи перья на бархатных ширмах и тяжелых диванных подушках, а потом разбрасывали эти подушки по полу, чтобы отцы в темноте непременно спотыкались о них. Угодив в зубы порочной риторики, дочери упорно продолжали вышивать ромашки и подсолнухи, сумах и камыш, сов и павлинов на покрывалах, которыми у них хватало дерзости застилать диваны, набитые конским волосом; они расписывали совами, ромашками, подсолнухами, сумахом, камышом и перьями тамбурины. К люстрам они привязывали китайские бумажные зонтики; к стенам прибивали бумажные веера. Эти девы старательно «учились» расписывать фарфор; они распевали новые романсы Тости [6], время от времени изображали старые добрые дамские обмороки, но очаровательнее всего были их совместные, по три или четыре девицы разом, прогулки в открытой коляске весенним утром.
Крокет и стрельба из лука с невероятно близкого расстояния считались спортом тех, кто еще молод и достаточно подвижен для столь интенсивных упражнений; люди среднего возраста играли в юкер [7]. Рядом с отелем «Эмберсон» располагался театр. Когда с единственным спектаклем в город приехал Эдвин Бут [8], все, у кого хватило денег на билет, были там, а у всех извозчиков оказалась работа. Варьете тоже привлекло публику, состоявшую по большей части из мужчин, уходивших домой смущенными после того, как занавес наконец скрывал возмутительного вида актрис в костюмах фей. Но не всегда дела театра шли так хорошо: народ в городке был слишком прижимист.
Прижимистость являлась характерной чертой сыновей и внуков первопоселенцев, прибывших в дикую местность с востока и юга на фургонах — с ружьями и топорами, но совершенно без денег. Пионерам приходилось скопидомничать, иначе можно было сгинуть: жизнь принуждала делать запасы продовольствия на зиму или запасы товаров, которые можно было поменять на продовольствие, и они беспрерывно боялись, что запасли недостаточно, — этот постоянный страх не мог не отразиться на их детях. У большинства их потомков экономность оказалась возведена чуть ли не в ранг религии: копи, даже если нет особой нужды, — этот урок они усваивали с колыбели. Не важно, насколько хорошо шли дела, без угрызений совести они не спускали денег ни на «искусство», ни на роскошь, ни на развлечения.
На таком простецком фоне великолепие Эмберсонов бросалось в глаза, подобно духовому оркестру на похоронах. Майор Эмберсон купил участок в двести акров в конце Нэшнл-авеню и устроился на широкую ногу: расчертил широкие пересекающиеся улицы, замостил дороги кедром, сделал каменный бордюр. Там и здесь на перекрестках построил фонтаны, и на равном расстоянии друг от друга поставил чугунные, покрашенные в белый цвет статуи, снабдив их пьедесталы поясняющими табличками: Минерва, Меркурий, Геракл, Венера, Гладиатор, Император Август, Мальчик С Удочкой, Оленья Борзая, Мастиф, Английская Борзая, Олененок, Антилопа, Раненая Лань и Раненый Лев. Большая часть лесных деревьев осталась нетронутой, и издали или в лунном свете район казался действительно красивым; но пылкому горожанину, мечтающему, чтобы город рос, было не до любования. Он никогда не посещал Версаля, но, стоя под ярким солнцем перед фонтаном Нептуна во владениях Эмберсона, не уставал повторять слова, излюбленные местной прессой: «Здесь лучше, чем в Версале». Все это искусство почти мгновенно принесло дивиденды, потому что участки раскупались как горячие пирожки, и все спешили строиться в новом районе. Главной улицей, непрямым продолжением Нэшнл-авеню, стал Эмберсон-бульвар, и здесь, на пересечении авеню и бульвара, Майор Эмберсон сохранил четыре акра для себя и построил новый дом — разумеется, Эмберсон-Хаус.
Этот особняк стал гордостью городка. Облицованный камнем до самых окон столовой, он весь состоял из арок, башенок, подъездов и крылец: первый порт-кошер [9] в городе можно было видеть именно там. От парадного входа вела огромная лестница из древесины черного ореха, а холл высотой до четвертого этажа венчал купол из зеленого стекла. Почти весь третий этаж был отдан под бальную залу с резным деревянным балконом для музыкантов. Местные любили рассказывать приезжим, что весь этот черный орех с резьбой стоил шестьдесят тысяч долларов. «Шестьдесят тысяч за резьбу по дереву! Да, сэр, паркет в каждой комнате! Только турецкие ковры — паласов там вообще не держат, разве что в главной гостиной, — слыхал, они зовут ее „залой для приемов“, — лежит бархатный брюссельский палас. Горячая и холодная вода, что внизу, что наверху, и фарфоровые раковины даже в распоследних спальнях! Сервант встроен прямо в стену, и длиной он во всю столовую. И не из какого-нибудь ореха, а из настоящего красного дерева! Никакой фанеры! Ну, сэр, полагаю, что даже президент Соединенных Штатов был бы не прочь махнуть свой Белый дом на Эмберсон-Хаус, если б Майор дозволил, но, во имя Доллара Всемогущего, он бы не допустил такого ни в жизнь!»
Гостю бы все разложили по полочкам, потому что здесь никогда не уставали просвещать новичков: приезжих обязательно тащили на «небольшую прогулку по городу», даже если для этого хозяину приходилось нанимать извозчика, и коронным номером всегда был Эмберсон-Хаус. «Только посмотрите на оранжерею на заднем дворе, — не унимался горожанин. — И на кирпичную конюшню! Да в ней, говорят, жить можно, такая она большая; там есть водопровод, а на втором этаже четыре комнаты для работников, кое-кто даже перевез туда семью. Один работник присматривает за домом, другой смотрит за лошадьми, а его баба стирает белье. В стойлах четыре коня, у хозяев своя карета, а уж таких прогулочных колясок, клянусь, вы никогда не видали! Сами-то они зовут их „повозками“ — нос так задирают, уж где нам до них! Как только появляется какая-нибудь новинка, они сразу ее покупают. А упряжь — даже в темноте сразу слышно, что едут Эмберсоны, по колокольчикам. В нашем городе такого шика отродясь не было; и думаю, городку это обойдется недешево, потому что многие за ними потянулись. Майорова жена с дочкой в Европу съездили, и моя жена говорит, что с тех пор они каждый день заваривают и пьют чай ровно в пять часов. Прямо перед ужином — для желудка, поди, как вредно, да и в любом случае чаем сыт не будешь — ежели ты не больной. Жена говорит, что у Эмберсонов и салат не как у людей, они его сахаром да уксусом не заправляют. Поливают сначала оливковым маслом и потом только уксусом и едят отдельно — не кладут в тарелку к другому блюду. А еще они едят оливки: такие зеленые штуки, на жесткие сливы похожи. Приятель рассказывал, что на вкус они как гнилой иллинойский орех. Жена моя тоже хочет прикупить, говорит, с десяток съешь — привыкнешь. Сам я от оливок воздержусь — гнилые орехи не по мне. Бабская еда, наверно, но в городе-то будут есть да морщиться, раз уж их сами Эмберсоны на стол подают. Да, сэр, некоторые их даже с больными животами жевать будут! Сдается мне, они с удовольствием бы спятили, если б это помогло им походить на Эмберсонов. Возьмем хотя бы старикашку Алека Минафера: на днях пришел ко мне в контору, да пока рассказывал о своей дочке Фанни, его чуть удар не хватил. Говорит, мисс Изабель Эмберсон завела пса — сенбернар называется — и Фанни тут же приспичило заиметь такого же. Ну старик уж сколько твердил, что, кроме терьеров-крысоловов, которые мышей уничтожают, собак на дух не переносит, Фанни не отстает ни в какую, и он в конце концов согласился. А потом она — боже ж ты мой! — заявляет, что Эмберсоны-то собаку купили и без денег ей никто такую собаку не даст, а стоят они от пятидесяти до сотни долларов! И старик меня спрашивает, слыхал ли я, чтоб кто-нибудь собак покупал? Ведь, конечно, коль даже захочешь водолаза или сеттера, то щенка тебе задаром отдадут. Одно дело, говорит, сунуть негру десять центов или даже четвертак, чтоб он собаку утопил, но платить за пса полсотни долларов, а то и больше... да он лучше сам повесится, прям в моей конторе! Конечно, всем ясно, что Майор Эмберсон деловой человек, но выбрасывать деньги на собак и всякую чепуху... Поговаривают, что этот шик разорит его, ежели семья вовремя не остановится!»
Вывалив это на приезжего, один горожанин, после многозначительной паузы, добавил:
— Все это очень смахивает на мотовство, но, когда мисс Изабель выходит на прогулку с этой собакой, понимаешь, что псина денег своих стоит!
— А девушка красивая?
— Ну, сэр, лет ей восемнадцать-девятнадцать, и даже не знаю, как получше выразиться... Чертовски привлекательная юная леди!
1. Лоренцо Великолепный (ди Пьеро де Медичи; 1449–1492) — флорентийский государственный деятель, покровитель наук и искусств, поэт.
2. Конфекцион — магазин готового платья.
3. Честерфилд — длинное однобортное пальто в талию с потайной застежкой, часто с бархатным воротником.
4. Вильгельм Второй (1859–1941) — германский император и король Пруссии, носил пышные усы, зачесанные вверх.
5. Комическая опера Артура Салливана «Терпение» высмеивает повальное увлечение эстетством, распространившееся среди английской молодежи в начале 1880-х.
6. Франческо Паоло Тости (1846–1916) — итальянский композитор, придворный музыкант английских королей.
7. Юкер — карточная игра.
8. Эдвин Бут (1833–1893) — американский актер, представлявший шекспировский репертуар.
9. Порт-кошер — парадный подъезд с навесом и колоннами.
Глава 2
Как-то одна горожанка весьма красноречиво отозвалась о внешности мисс Изабель Эмберсон. Это была миссис Генри Франклин Фостер, настоящий авторитет в области литературы и властительница дум общины, — именно так писали о ней обе ежедневные газеты в статьях об основании Женского поэтического клуба; и ее слова об искусстве, беллетристике и театре имели силу закона, а не мнения. К примеру, когда до городка после аншлагов в больших городах добралась наконец «Хэйзел Кирк» [10], многие сначала дождались оценки миссис Генри Франклин Фостер, а потом уже смело высказались сами. Дошло до того, что после спектакля в вестибюле театра образовалась целая толпа жаждущих ее мнения.
— Я пьесу не смотрела, — сообщила им миссис Генри Франклин Фостер.
— Как?! Мы все знаем, что вы сидели в четвертом ряду прямо по центру!
— Да, — улыбнулась она, — но я сидела за Изабель Эмберсон. И не могла отвести взгляда от ее волнистых каштановых волос и чудесной шеи.
Незавидные женихи из городка (а они все считались таковыми) не хотели довольствоваться картиной, столь заворожившей миссис Генри Франклин Фостер: они из кожи вон лезли, лишь бы мисс Эмберсон повернулась к ним лицом. Она особенно часто, как заметили некоторые, поворачивала его к двоим: один преуспел в борьбе за внимание благодаря своей блистательности, а второму помогло беспроигрышное, хотя и не самое выигрышное качество — настойчивость. Блистательный джентльмен «вел наступление», осыпая девушку сонетами и букетами, — и в сонетах не было недостатка рифм и остроумия. Он был великодушен, беден, щегольски одет, а его поразительная убедительность все глубже затаскивала юношу в долговую яму. Никто не сомневался, что ему удастся покорить Изабель, но, к сожалению, однажды он перебрал на вечеринке и во время серенады, исполняемой при луне на лужайке перед особняком Эмберсонов, врезался в контрабас и был под руки уведен в ожидающий экипаж. Одного из братьев мисс Эмберсон, помогавшего с исполнением серенады и тоже переполненного неизбывным весельем, друзья прислонили к входной двери; Майор, в халате и тапочках спустившийся за сыном, отчитал отпрыска, откровенно давясь от смеха. На следующий день мисс Эмберсон сама посмеивалась над братом, но с женихом повела себя иначе: просто отказалась его видеть, когда тот пришел с извинениями. «Кажется, вас очень волнует судьба контрабасов! — писал он ей. — Обещаю их больше не ломать». Она не ответила на записку, но две недели спустя прислала письмо, в котором говорилось о ее помолвке. Она выбрала настойчивого Уилбура Минафера, который никогда не разбивал контрабасы и сердца и вообще серенад не пел.
Несколько человек, из тех, что все всегда знают наперед, заявили, что ни капли не удивлены, потому что Уилбур Минафер «хоть и не Аполлон, но очень трудолюбивый и многообещающий молодой предприниматель и хороший прихожанин», а Изабель Эмберсон «довольно разумна — для такой красотки». Но помолвка ввергла в ступор молодых людей городка и большинство их отцов и матерей и даже потеснила литературу, став темой обсуждения на очередном собрании Женского поэтического клуба.
— Уилбур Минафер! — воскликнула любительница поэзии, интонацией показав, что весь ужас ситуации объясняется одной лишь фамилией жениха. — Уилбур Минафер! Я такой чуши в жизни не слыхала! Подумать только, выбрала Уилбура Минафера просто потому, что мужчина, в тысячу раз лучше его, был несколько разгорячен при исполнении серенады!
— Нет, — сказала миссис Генри Франклин Фостер. — Дело не в этом. И даже не в том, что она боится выйти замуж за легкомысленного человека. И не в том, что она набожна или ненавидит беспутство, и не в том, что он сам оттолкнул ее своим поведением.
— Но она же поэтому его бросила!
— Нет, не поэтому, — сказала мудрая миссис Генри Франклин Фостер. — Если б мужчины только знали — и хорошо, что они не знают, — насколько женщине безразлично, любят они гульнуть или нет, если их поведение не затрагивает ее лично. А Изабель Эмберсон это определенно безразлично.
— Миссис Фостер!
— Да, безразлично. Дело все в том, что он выставил себя на посмешище прямо перед ее домом! Теперь она думает, что ему на нее плевать. Вероятно, она ошибается, но мысль уже засела в голове, и отступать поздно, ведь она успела согласиться выйти замуж за другого — на следующей неделе разошлют приглашения. Свадьба пройдет с эмберсоновским размахом, с устрицами, плавающими в ледяных чашах, с оркестром из другого города, с шампанским и шикарными подарками — самый дорогой будет от Майора. Потом Уилбур увезет ее в дешевое свадебное путешествие, и она станет его доброй женушкой, но дети у них будут такими избалованными, что весь город содрогнется.
— Но, ради всего святого, откуда вы знаете, миссис Фостер?
— Разве Изабель Эмберсон может влюбиться в такого, как Уилбур? — спросила миссис Фостер, но ответить никто не посмел. — Значит, вся ее любовь уйдет на детей, и это погубит их!
Пророчица ошиблась только в одном. Свадьба действительно прошла с эмберсоновским великолепием, были даже устрицы во льду; Майор преподнес молодым проект нового особняка, не менее изысканного и внушительного, чем Эмберсон-Хаус, и обещал построить его на свои деньги в районе Эмберсон. Оркестр, конечно, пригласили из другого города, оставив в покое местный, пострадавший от потери контрабаса; и, как утверждало пророчество и утренняя пресса, музыканты приехали издалека. В полночь все по-прежнему пили шампанское за здоровье невесты, хотя сама она два часа как отбыла в свадебное путешествие. Четыре дня спустя чета вернулась в город, и эта поспешность ясно показала, что Уилбур и впрямь экономил как мог. Все говорили, что жена из Изабель вышла хорошая, но последний пункт предсказания оказался неточен. У Уилбура и Изабель родился лишь один ребенок.
— Только один, — сказала миссис Генри Франклин Фостер. — Но хотелось бы знать, не хватит ли его избалованности на целый выводок!
И ей опять никто не возразил.
Когда Джорджу Эмберсону Минаферу, единственному внуку Майора, стукнуло девять, перед ним трепетали все — и не только в районе Эмберсон, но и во многих других кварталах, по которым отпрыск проносился галопом на своем белом пони.
— Богом клянусь, вы ведете себя так, будто весь город ваш, — однажды посетовал раздраженный работяга, после того как Джорджи въехал на пони прямо в кучу песка, который тот как раз просеивал.
— Будет, когда вырасту, — невозмутимо ответил ребенок. — А сейчас это город моего деда, так что заткнись!
Сбитый с толку взрослый мужчина не смог ничего возразить и только пробормотал:
— Застегните свою жилетку...
— И не подумаю! Доктор говорит, так здоровее! — тут же отрезал мальчик. — Но вот что я сделаю: я застегну жилетку, если ты утрешь свой нос!
Все было разыграно как по нотам — именно так выглядели уличные перепалки, в которых Джорджи здорово поднаторел. На нем вообще не было жилета; как бы нелепо это ни звучало, но у пояса, между бархатной визиткой и короткими штанишками, виднелся кушак с бахромой, ибо в те времена в моду вошел юный лорд Фаунтлерой [11], и мать Джорджи, с ее не слишком развитым чувством меры, когда дело доходило до сына, одевала его именно в этом стиле. Он щеголял не только в шелковом кушаке, шелковых чулках, тонкой рубашке с широким кружевным воротом и в черном бархатном костюмчике, но также носил длинные русые локоны, в которых частенько застревал репейник.
За исключением внешнего вида (о котором заботилась мать, а не он сам) Джорджи мало походил на знаменитого Седрика Фаунтлероя. Было сложно представить, чтобы Джорджи, подобно герою из книжки, сказал: «Положись на меня, дедушка». Через месяц после своего девятого дня рождения, на который Майор подарил ему пони, мальчик свел знакомство с самыми отъявленными хулиганами из разных кварталов городка и сумел убедить их, что безрассудство богатенького мальчика с завитыми локонами может дать фору дерзости любого из них. Он дрался со всяким до исступления, разражаясь злыми слезами, и, хватаясь за камни, с завыванием выкрикивал угрозы. Драки часто переходили в перебранки, в которых он научился бросать слова похлеще, чем «И не подумаю!» и «Доктор говорит, так здоровее!». Однажды летом приехавший в гости мальчик, изнывая от скуки, висел на воротах преподобного Мэллоха Смита и заметил несущегося на белом пони Джорджа Эмберсона Минафера. Подстегиваемый досадой и скукой, мальчишка закричал:
— Черт подери! Гляньте, у него волосы как у девчонки! Скажи, малыш, ты зачем у мамки кушак забрал?
— Это твоя сестренка для меня украла! — ответил Джорджи, осаживая лошадку. — Сперла с вашей веревки, пока белье сушилось, и отдала мне.
— Иди постригись! — разъярился приезжий. — И у меня нет сестры!
— Знаю, что дома нет. Я про ту, что в тюряге.
— А ну-ка слезай с пони!
Джорджи соскочил на землю, а его противник спустился с ворот преподобного мистера Смита — но сделал это со стороны двора.
— А ну выходи, — сказал Джорджи.
— Щас! Сам сюда топай! Если осмелишься...
Не стоило ему этого говорить, потому что Джорджи тут же перепрыгнул забор. Четыре минуты спустя миссис Мэллох Смит, услышав возню во дворе, выглянула в окно, взвизгнула и бросилась в кабинет пастора. Мистер Мэллох Смит, мрачный, бородатый методист, вышел на улицу и увидел, как юный Минафер энергично готовит гостящего в доме племянника к роли центральной фигуры в живых картинах, представляющих кровавое побоище. Приложив немалые физические усилия, мистер Смит все же сумел дать племяннику возможность убежать в дом — Джорджи был вынослив и быстр и, как всегда в таких делах, невероятно упорен, но священнику, после весьма гротескной потасовки, наконец удалось оторвать его от врага и потрясти за плечи.
— Отстань от меня, ну же! — ожесточенно орал Джорджи, вырываясь. — Кажись, ты не понял, кто я!
— Все я понял! — ответил разозленный мистер Смит. — Я знаю, кто ты, и знаю, что ты позоришь свою матушку! Ей должно быть стыдно, что она позволяет...
— Заткнись и не говори, что моей маме должно быть стыдно!
Вскипевший мистер Смит был не в силах закончить разговор с достоинством.
— Ей должно быть стыдно, — повторил он. — Женщина, которая разрешает такому паршивцу, как ты...
Но Джорджи уже добежал до своего пони и уселся верхом. Прежде чем пуститься в свой обычный галоп, он опять прервал преподобного Мэллоха Смита, закричав:
— Жилетку застегни, ты, старый козел, понял? Застегни жилетку, утри нос — и катись ко всем чертям!
Такая преждевременная зрелость не так уж необычна, даже среди отпрысков богачей, как представляется многим взрослым. Однако преподобный Мэллох Смит столкнулся с подобным впервые и поэтому рвал и метал. Он тут же настрочил письмо матери Джорджи, в котором, взяв в свидетели племянника, описал преступление, и миссис Минафер получила послание раньше, чем сын вернулся с прогулки. Когда мальчик пришел домой, она с горестным выражением лица прочитала письмо вслух:
Дорогая мадам,
Ваш сын послужил причиной прискорбного происшествия в нашем доме. Он совершил неоправданное нападение на моего малолетнего племянника, приехавшего в гости, и оскорбил его грязной руганью и недопустимыми измышлениями о том, что некоторые дамы из его семьи пребывают в заключении. Затем он пытался заставить своего пони лягнуть ребенка, которому недавно исполнилось одиннадцать, тогда как Ваш сын много старше и сильнее, а когда мальчик предпринял попытку скрыться от унижений, он преследовал его, перейдя границы моей собственности, и нанес ему жестокие побои. Когда я приблизился к ним, Ваш сын начал намеренно оскорблять и меня, закончив богохульным пожеланием «катиться ко всем чертям», которое слышали как моя жена, так и наша соседка. Я искренне верю, что подобную невоспитанность следует излечить — как ради деловой репутации, так и ради доброго имени семейства, к коему принадлежит столь непокорное дитя.
Пока она читала, Джорджи беспрерывно бурчал что-то, а когда закончила, произнес:
— Старый врун!
— Джорджи, нельзя говорить «врун». Разве в этом письме неправда?
— Сколько мне лет? — спросил Джорджи.
— Десять.
— Видишь, а он пишет, что я старше мальчика, которому одиннадцать.
— Действительно, — сказала Изабель. — А все остальное разве неправда, Джорджи?
Джорджи почувствовал, что его прижали к стене, и решил промолчать.
— Джорджи, ты действительно так сказал?
— Ты о чем?
— Ты сказал ему... «катиться ко всем чертям»?
Джорджи на миг нахмурился, но вдруг просиял:
— Слушай, мам, а ведь дед даже ноги не стал бы вытирать об этого старого вруна, разве нет?
— Джорджи, нельзя...
— Я имею в виду, никто из Эмберсонов с ним и связываться не будет. Он же с тобой даже незнаком, так ведь, мам?
— Это не имеет отношения к делу.
— Еще как имеет! Никто из Эмберсонов к нему домой не пойдет, а его к нам не пустят, а если так, к чему тогда волноваться?
— Это тоже к делу не относится.
— Клянусь, — горячо продолжил Джорджи, — если б он хотел к нам заявиться, то заходил бы с черного хода!
— Но, милый...
— Это так, мама! Поэтому какая разница, говорил я ему те слова или не говорил? Не понимаю, почему я должен сдерживать себя с такими людьми.
— Ты так и не ответил, Джорджи, сказал ты ему те нехорошие слова или нет?
— Ну, — начал Джорджи, — он первый мне ляпнул такое, что я из себя вышел.
Подробных объяснений не последовало, так как он не хотел рассказывать маме, что рассвирепел из-за опрометчивых слов мистера Смита о ней самой: «Ей должно быть стыдно» и «Женщина, которая разрешает такому паршивцу, как ты...». Он не желал повторять эти гадости даже с целью оправдать себя.
Изабель погладила сына по голове.
— Ты сказал ужасную вещь, милый. По письму видно, что он не самый тактичный человек, но...
— Да он просто рвань, — сказал Джорджи.
— Так тоже нельзя говорить, — мягко отозвалась мать. — Где ты нахватался всех этих дурных слов, о которых он пишет? Где ты мог их услышать?
— Мало ли где. Кажется, дядя Джордж Эмберсон говорил так. Он так папе сказал. Папе это не понравилось, а дядя Джордж над ним посмеялся, а когда смеялся, еще раз повторил.
— Он поступил неправильно, — сказала Изабель, но Джорджи понял, что произнесла она это не совсем уверенно.
Изабель пребывала в печальном заблуждении, что все, что делают Эмберсоны, особенно ее брат Джордж или сын Джордж, — это правильно. Она знала, что сейчас надо проявить характер, но быть строгой к сыну было выше ее сил, и преподобный Мэллох Смит только настроил ее против себя. Лицо Джорджи с правильными чертами — лицо настоящего Эмберсона — никогда не казалось ей красивее, чем в эту минуту. Он всегда казался необыкновенно красив, когда ей надо было вести себя с ним построже.
— Обещай мне, — тихо сказала Изабель, — что никогда в жизни не повторишь этих плохих слов.
— Обещаю такого не говорить, — тут же согласился он. И немедленно добавил вполголоса: — Если кто-нибудь не выведет меня из себя.
Это вполне соответствовало его кодексу чести и искренней убежденности, что он всегда говорит правду.
— Вот и умница, — сказал мать, и сын, поняв, что наказание закончено, побежал на улицу. Там уже собралась его восторженная свита, успевшая прослышать про приключение и письмо и жаждавшая увидеть, влетит ли ему. Они хотели получить его отчет о происшедшем, а также разрешение прокатиться по аллее на пони.
Эти ребята действительно казались его пажами, а Джорджи был их господином. Но и среди взрослых находились такие, что считали его важной персоной и частенько льстили ему; негры при конюшне холили и лелеяли мальчишку, по-рабски лебезили, посмеиваясь над ним про себя. Он не раз слышал, как хорошо одетые люди говорили о нем с придыханием: однажды на тротуаре вокруг него, пускающего волчок, собралась группа дам. «Я знаю, это Джорджи! — воскликнула одна и с внушительностью шпрехшталмейстера [12] повернулась к подругам: — Единственный внук Майора Эмберсона!» Другие сказали: «Правда?» — и начали причмокивать, а две громко прошептали: «Какой красавчик!» Джорджи, рассерженный из-за того, что они заступили за меловой круг, который он начертил для игры, холодно взглянул на них и произнес: «А не пошли бы вы в театр?»
Будучи Эмберсоном, он был фигурой публичной, и весь город обсуждал его выходку у дома преподобного Мэллоха Смита. Многие, сталкиваясь с мальчиком впоследствии, бросали на него осуждающие взгляды, но Джорджи не обращал внимания, так как сохранял наивное убеждение, что на то они и взрослые, чтобы смотреть косо, — для взрослых это нормальное состояние; он так и не понял, что причиной тех взглядов стало его поведение. А если бы понял, то, наверное, лишь буркнул себе под нос: «Рвань!» Вероятно, он даже громко крикнул бы это, и, конечно, большинство горожан сразу поверили бы в расхожие слухи о том, что случилось после похорон миссис Эмберсон, когда Джорджи исполнилось одиннадцать. Говорили, что он разошелся с устроителем похорон во мнениях, как рассадить семью; слышали, как он возмущенно кричал: «Кто, по-вашему, самый важный человек на похоронах моей собственной бабушки?!» Чуть позже, когда проезжали мимо устроителя, Джорджи высунул голову из окна первой кареты траурного кортежа и крикнул: «Рвань!»
Были люди — взрослые люди, — которые однозначно выражали свое страстное желание дожить до дня, когда мальчишку настигнет воздаяние. (Это слово, звучащее гораздо лучше «расплаты», много лет спустя превратилось в неуклюжее «что же с ним станет».) С ним обязательно должно было что-нибудь случиться, рано или поздно, и они не хотели этого пропустить! Но Джорджи и ухом не вел, а жаждущие отмщения места себе не находили, ведь долгожданный день воцарения справедливости все откладывался и откладывался. История с Мэллохом Смитом ничуть не поколебала величия Джорджи, оно только засияло еще ярче, а в глазах других детей (особенно девочек) он приобрел особый блеск, этакое дьявольское очарование, которое неизбежно сопровождает любого мальчика, пожелавшего священнику катиться ко всем чертям.
10. «Хэйзел Кирк» — пьеса драматурга Стила Маккея (1880).
11. «Маленький лорд Фаунтлерой» — роман (1886) Фрэнсис Бернетт о жизни семилетнего Седрика Фаунтлероя, наследника аристократического титула.
12. Шпрехшталмейстер — ведущий цирковой программы.
Глава 3
До двенадцати лет Джорджи получал домашнее образование, учителя приходили к нему, и жаждущие его низвержения горожане поговаривали: «Вот погодите, пойдет в государственную школу, узнает, что почем!» Но как только Джорджи исполнилось двенадцать, его отправили в частную школу, и из этого маленького и подневольного заведения не было ни слуху ни духу о том, что Джорджи наконец настигла расплата; однако недоброжелатели упорно ждали ее со все возрастающим нетерпением. Несмотря на с трудом переносимые барские замашки и наглость, учителя подпадали под обаяние личности Джорджи. Они не любили его — слишком уж заносчив, — но он постоянно держал их в таком эмоциональном напряжении, что думать о нем приходилось гораздо больше, чем о любом другом из остальных десяти учеников. Напряжение обычно исходило из уязвленного самолюбия, но иногда это было зачарованное восхищение. Если говорить по совести, Джорджи почти не учился; но временами на уроке он отвечал блестяще, выказывая понимание предмета, какое редко встретишь у других учеников, и экзамены сдавал с легкостью. В конце концов без видимых усилий он получил зачатки либерального образования, но о своем характере так ничего и не понял.
Жаждущие отмщения не растратили пыла, когда Джорджи исполнилось шестнадцать и его отослали в знаменитую среднюю школу. «Ну вот, — обрадовались они, — тут он свое и получит! Попадет к таким же мальчишкам, которые у себя в городках верховодили, они-то из него спесь повыбьют, попробует только нос задрать! Да уж, на это стоило бы посмотреть!» Как оказалось, они ошиблись, потому что, когда несколько месяцев спустя Джорджи приехал обратно, спеси в нем меньше не стало. Его отправило домой школьное начальство с формулировкой, которая описывала его поведение как «дерзость и невежество», — на самом деле он просто послал директора школы примерно по тому же маршруту, против которого когда-то выдвинул свои возражения преподобный Мэллох Смит.
Но воздаяние так и не настигло Джорджи, и те, кто рассчитывал на расплату, с горечью наблюдали, как он сломя голову носится по центру города на двуколке, заставляя пятиться прохожих на перекрестках, и ведет себя так, словно он хозяин мира. Возмущенный продавец скобяных изделий, который, как и многие, спал и видел крах Джорджи, чуть не попал под колеса и, отпрыгнув на тротуар, потерял самообладание и выкрикнул модное в том году уличное оскорбление: «Совсем мозгов нет! Эй, сопляк, а твоя мама знает, где ты гуляешь?»
Джорджи, даже не соизволив взглянуть на обидчика, так ловко взмахнул длинным бичом, что от штанов торговца, чуть пониже талии, взлетело облачко пыли. Тот, хоть и продавал скобяные изделия, сам из железа сделан не был, поэтому взревел, озираясь в поисках камня, не нашел ни одного и, вроде бы взяв себя в руки, заорал вслед удаляющейся повозке: «Брючины опусти, хлыщ недоделанный! Здесь те не дождливый Лондын! Шоб тебе сквозь землю провалиться!»
Джорджи не стал поощрять его и сделал вид, что не слышит. Двуколка свернула за угол, откуда тоже раздались негодующие крики, и, проехав чуть дальше, остановилась перед «Эмберсон-Центром» — старомодным кирпичным зданием с бакалеей внизу, все четыре этажа которого были забиты юристами, страховщиками и торговцами недвижимостью. Джорджи привязал взмыленного рысака к телеграфному столбу и помешкал, критично оглядывая строение: оно показалось ему ветхим, и Джорджи подумал, что неплохо бы деду возвести на этом месте четырнадцатиэтажный небоскреб или даже повыше, такой, как он недавно видел в Нью-Йорке, когда на несколько дней останавливался там передохнуть и развеяться по пути домой из осиротевшей без него школы. Около главного входа висели разные жестяные таблички с именами и профессиями тех, кто занимал верхние этажи, и Джорджи решил прихватить с собой парочку, а то вдруг он все же отправится в университет. Правда, он не стал срывать их прямо сейчас, а поднялся по истертой лестнице — лифта в доме не было — на четвертый этаж, прошагал по темному коридору и три раза стукнул в дверь. Это была таинственная дверь, на матовой табличке которой не значилось ни имени, ни профессии обитателя, но вверху, на деревянной притолоке, были нацарапаны две буквы, начатые фиолетовыми чернилами и законченные свинцовым карандашом — «К. Д.», а на стене над дверью изобразили столь дорогие юным сердцам череп и скрещенные кости.
Изнутри ему ответили стуком — тоже трижды. Потом Джорджи стукнул четыре раза, в ответ — два, и в заключение он постучал семь раз. С предосторожностями было покончено, хорошо одетый шестнадцатилетний юноша открыл дверь, Джорджи проскользнул внутрь, и дверь закрылась. В комнате на расставленных полукругом колченогих стульях сидели семь мальчиков примерно одного возраста, обратившись лицом к помосту со столом, за которым стоял очень серьезный рыжеволосый персонаж. В углу возвышался видавший виды буфет, где пылились пустые пивные бутылки, на две трети полная жестянка с табаком, подернутым плесенью, грязная рамка с фотографией (неподписанной) мисс Лилиан Рассел [13], несколько высохших соленых огурцов, финский нож и почти окаменевший кусок торта на запачканной сажей тарелке. Другой конец комнаты украшали два покосившихся ломберных стола и книжный шкаф, в котором под толстым слоем пыли лежали четыре или пять сборничков Ги де Мопассана, «Робинзон Крузо», стихи Сафо, «Мистер Барнс из Нью-Йорка» А. К. Гюнтера, книга Джованни Боккаччо, Библия, «Арабские сказки
...