автордың кітабын онлайн тегін оқу Елизавета I

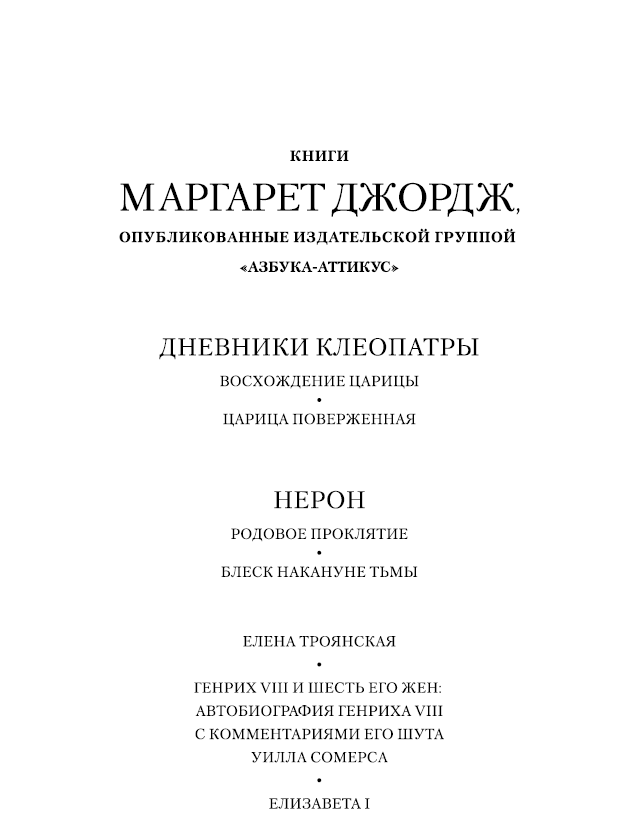
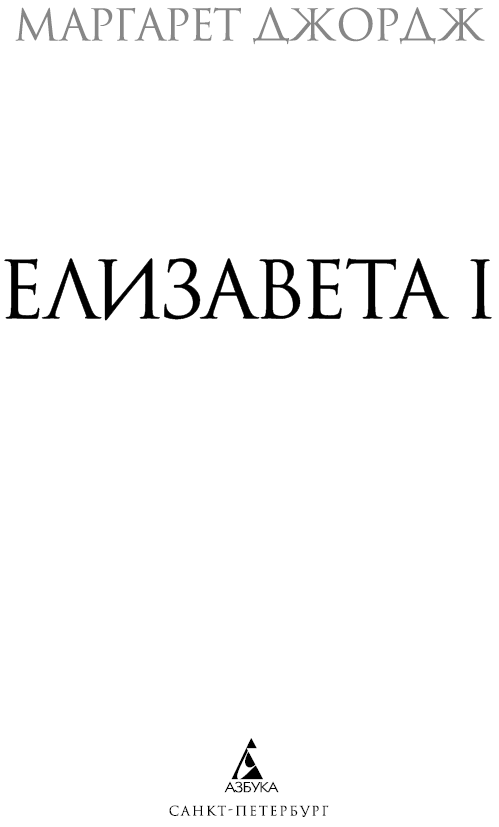
Margaret George
ELIZABETH I
Copyright © 2011 by Margaret George
All rights reserved
Перевод с английского Ирины Тетериной
Оформление обложки и иллюстрация на обложке
Сергея Шикина
Джордж М.
Елизавета I : роман / Маргарет Джордж ; пер. с англ. И. Тетериной. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2025. — (The Big Book).
ISBN 978-5-389-27673-4
16+
Это история двух женщин, наделенных блестящим умом и одержимых неистовыми желаниями. Одна пытается защитить свою страну и трон, другая — вернуть власть и положение своей семье. Елизавета Тюдор — противоречивая и притягательная королева-девственница, окруженная пылкими поклонниками; победительница испанской армады, ненавидевшая войну; усыпанная драгоценностями монархиня, у которой не было ни гроша. Летиция Ноллис — огненно-рыжая племянница королевы, похожая на нее как две капли воды, только моложе, ее соперница в любви к Роберту Дадли, мать графа Эссекса, бросившего вызов трону. В драматическое противостояние вовлечены все, кто близок к Елизавете, от знаменитых вельмож, обогативших корону, до легендарных поэтов и драматургов. Портреты личностей, сделавших Елизаветинскую эпоху великой, — Шекспира, Марло, Дадли, Рэли, Дрейка — дают незабываемое представление о королеве, которая правила как разумом, так и сердцем.
Впервые на русском!
© И. А. Тетерина, перевод, 2024
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024
Издательство Азбука®
Посвящается Роберту,
моему зятю,
верноподданному
ее величества королевы Елизаветы,
былой и настоящей
Кранмер
С ней расцветет добро, и будет каждый
В тени своих садов и без боязни
Вкушать плоды того, что он посеял,
И петь своим соседям гимны мира,
И Господа все истинно познают.
Она научит подданных своих
Всем подлинным понятиям о чести,
Чтоб в них — не в знатности — обресть величье.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
На благо Англии ей предстоит
Жить много лет, но будет каждый день
Из тысяч дней увенчан добрым делом.
Не знать бы больше мне! Но умереть
Ей должно, в сонм святых вступая девой.
Чистейшей лилией сойдет она
В могилу, и весь мир ее оплачет.
Король Генрих
О лорд-архиепископ,
Ты мне вернул достоинство мужчины!
До этого счастливого младенца
Не создал я на свете ничего.
Так радостно мне это предсказанье,
Что и с небес хотел бы видеть я
Деянья дочери, хваля Творца [1].
1 У. Шекспир. Генрих VIII. Перевод В. Томашевского. — Здесь и далее примеч. перев.
1
Ватикан, март 1588 года
Феличе Перетти, известный также как папа Сикст V, стоял, покачиваясь, перед грудой свернутых булл.
Свитки были аккуратно сложены на манер поленницы, так что длинные и короткие стороны чередовались, а свинцовые печати на шелковых шнурах свисали, точно ряд щенячьих хвостиков.
— Ага, — произнес папа, с удовлетворением глядя на них.
Они, казалось, излучали власть. Недоставало лишь одного — его благословения. Он вскинул правую руку и торжественным тоном произнес на латыни:
— О Господь Вседержитель, услышь молитву раба твоего Сикста. Действуя в соответствии с должностью наместника Христова на земле, обладающего властью воспрещать и разрешать, отпускать грехи и отказывать в их отпущении, я провозгласил суждение свое над этой гнусной англичанкой, самозваной королевой. Сим отлучается она от Тела Христова до тех пор, покуда не покается. Дабы находящиеся под ее властью не были низвергнуты вместе с ней в пучину проклятия, мы благословляем поход на Англию. На борту кораблей Великой армады поплывут сии буллы об отлучении Елизаветы, самозваной королевы Англии, объявляющие о ее низложении, дабы подданные были избавлены от ее нечестивого и порочного правления. Они увидят свет того счастливого дня, когда нога христианских мстителей ступит на английскую землю. Тогда они будут розданы истинно верующим. Господь милосердный, мы взыскуем этого во имя Спасителя и ради Святой Церкви.
Шестидесятивосьмилетний папа медленно обошел груду свитков кругом, осеняя их крестом и кропя святой водой. Затем кивнул испанскому посланнику, который молча стоял в сторонке.
— Теперь вы можете доставить их по назначению, — сказал он. — Армада отплывает из Лиссабона?
— Да, ваше святейшество. В следующем месяце.
— Тогда они должны прибыть загодя, — кивнул Сикст. — У вас имеются для них водонепроницаемые капсулы?
— Уверен, что они будут. Король Филипп всегда предусмотрителен.
2
Южное побережье, Англия, апрель 1588 года
Старый отшельник выбрался из своего укрытия, как делал это каждое утро.
Ночевал он в развалинах церкви Святого Михаила, притулившейся неподалеку от оконечности мыса, который вдавался в воды залива Плимут-Саунд. Остановившись на краю утеса, он устремил взгляд на простиравшуюся далеко внизу, справа и слева океанскую гладь. Утреннее солнце, отражавшееся от поверхности воды, било в глаза. Он заслонил их ладонью и сощурился, пытаясь различить на горизонте характерные очертания парусов. Ничего. Не сегодня.
Что-то пробормотав себе под нос, старик отправился заниматься другим своим делом — сооружением маяка. На конце мыса он нашел заброшенный дольмен, древний монумент, и на протяжении многих дней усердно стаскивал к нему хворост, солому и щепки. Огонь, который запылает в обрамлении конического нагромождения камней, должно быть видно за много миль, до следующего маяка. А этот наверняка самый первый в цепочке. Именно тут, а не где-нибудь еще должна показаться армада. А он, отшельник из церкви Святого Михаила, станет неусыпно ожидать ее появления, покуда будет оставаться хотя бы самый бледный намек на свет.
Он похлопал по дольмену ладонью. Языческое наследие. Дело рук давным-давно исчезнувшего народа. Но какая разница, если он поможет победить испанских недругов?
3
Лондонский Тауэр, май 1588 года
Филипп Говард знаком велел священнику умолкнуть.
К ним кто-то приближался. Должно быть, тюремщик обходил коридоры. Эти шаги по каменным плитам пола преследовали Филиппа даже во сне. Он наклонил голову, пристроил ее между колен и безвольно уронил руки. Тюремщик не должен усомниться в том, что он спит. Священник, закутавшись в плащ, последовал его примеру. Все остальные, затихнув, замерли.
Шаги остановились перед дверью камеры; створка, закрывавшая зарешеченное окошечко, приподнялась. Потом вновь с лязгом опустилась, и шаги двинулись дальше.
Филипп на всякий случай не шевелился еще несколько минут.
— Ушел, — наконец прошептал он. — Следующий обход часа через два или три. Давайте начинать. С Богом!
Все остальные зашевелились. Священник опустил капюшон.
— Во имя Святой Матери Церкви, — произнес он, — я буду служить эту мессу.
— Ее должно посвятить иной цели, — покачал головой Филипп. — Я не был предателем, пока они не вознамерились выставить меня таковым. Теперь, просидев в Тауэре пять лет, я своими глазами увидел всю гнусность королевы и ее так называемой церкви. Она должна исчезнуть. Они обе должны исчезнуть. И мой крестный отец, король Филипп, позаботится об этом.
Глаза священника блеснули в тусклом свете.
— И чему же тогда следует посвятить эту мессу? — спросил он.
— Успеху армады! — заявил Филипп. — Пусть она воздаст этому безбожному отступническому народу по заслугам!
— Успеху армады, — эхом отозвались остальные.
Священник принялся раскладывать богослужебную утварь: глиняную чашку, которой предстояло исполнять роль потира, деревянное блюдечко вместо патены, грубый шарф вместо столы.
— Помолимся, — произнес он. — О Всевышний, со скорбью взираешь Ты на святотатство и безбожие, в которых погряз народ Англии, некогда преданный слуга твой, а ныне отступник. Как в незапамятные времена, когда народы ступали на неверный путь поклонения ложным богам, Ты обрушивал на них гнев свой, так ныне послал Ты сына своего, короля Филиппа Испанского, ревностного поборника истинной веры, покарать их. Как не было пощады амореям, филистимлянам или канаанитам, так не может быть пощады этим отщепенцам. Если и мы погибнем вместе с ними, так тому и быть. Взгляни, что раб твой Филипп, граф Арундел, высек на стене этой темницы. Узри слова эти: «Quanto plus afflictionis pro Christo in hoc saeculo, tanto plus gloriae cum Christo in futuro» — «Чем больше страданий претерпеваем мы за Христа в этом мире, тем бо́льшая слава ждет нас в мире ином со Христом». И мы знаем, о Господь, воистину так.
— Воистину так... воистину так... воистину так, — подхватили Филипп и его сокамерники. — О армада, прибудь же без промедления и спаси Англию! Благослови Бог всех ее верных сынов, что ныне пребывают в изгнании, готовясь сражаться за спасение своей родины!
Их воодушевленные крики эхом заметались в сыром каменном мешке.
4
Елизавета
Май 1588
Кнут взвился и со свистом вспорол воздух, метя по спине жертвы.
Конюх проворно нырнул в кусты и пополз прочь, и кнут, щелкнув, ободрал листву с ветви над самой его головой. Вслед ему понеслась тирада на испанском языке, сообщавшая, что он никчемный бездельник. Лицо его преследователя, взмокшее от усердия, обратилось на меня.
— Ваше величество, — произнес тот, — почему вы удерживаете мой кнут?
Это лицо я надеялась никогда больше не увидеть — лицо дона Бернардино де Мендосы, испанского посланника, которого четыре года тому назад я выслала из Англии за шпионаж. Он двинулся на меня, поигрывая кнутом.
Я подскочила в постели. Казалось, я все еще чувствую запах сыромятной кожи, оставшийся в воздухе в том месте, где его рассек кнут. А ухмылка на лице Мендосы, эти его зубы, словно выточенные из желтоватой слоновой кости... холодный оскал заставил меня содрогнуться.
Это всего лишь сон. Я тряхнула головой, чтобы прогнать его остатки. Я постоянно думаю об испанцах, вот и все. Но... разве Мендоса не оставил мне на память свой кнут? Или мы просто нашли его в покоях посланника, когда тот в спешке покинул Лондон? Он до сих пор лежит где-то у меня — размером поменьше, чем во сне, пригодный исключительно для подхлестывания коней, а не порки конюхов. Испанская кожа славится прочностью и мягкой выделкой. Наверное, именно поэтому я его и не выбросила.
Еще не рассвело. Вставать слишком рано. Я решила, что помолюсь наедине с собой в постели. Без сомнения, ревностные католики — в Англии тайком, в Европе в открытую — уже подоспели к утренней мессе. Кое-кто из протестантов тоже, вероятно, уже поднялся и занялся изучением Священного Писания. Я же, их невольная номинальная глава, буду говорить с Господом в одиночестве.
Мне, Елизавете Тюдор, вот уже тридцать лет как королеве Английской, по рождению выпала роль защитницы протестантской веры. Злые языки утверждали: «Генрих Восьмой порвал с папой и основал свою церковь только ради того, чтобы добиться Анны Болейн». Мой отец дал им основание так говорить своим легкомысленным заявлением: «Если папа отлучит меня от церкви, я объявлю его еретиком и поступлю по-своему». Так королевская совесть стала предметом насмешек. Однако вследствие этого возникла необходимость принять протестантизм, и на этой почве выросла национальная церковь, у которой теперь были свой характер, свои мученики и свое богословие. В глазах старой католической церкви я незаконнорожденная узурпаторша королевской власти; таким образом, я могу с полным правом утверждать, что обстоятельства моего появления на свет сделали протестантизм для меня неизбежным.
Почему Англия, бедная страна, должна вечно субсидировать французов, голландцев, шотландцев и иметь дело с Испанией, этим голиафом католицизма? Зубы Господни, мало мне было защищать и править собственным королевством? Эта роль, как губка высосав все наши ресурсы, медленно, но верно вела нас к разорению. Быть солдатом Господа — дорого, я вполне обошлась бы без этих расходов.
Солдат. Господь, должно быть, смеялся, вручая мне свое знамя, когда весь мир знал — ну или считал, будто знает, — что женщина не способна повести войска в бой.
Мендоса... Его лицо по-прежнему стояло у меня перед глазами, словно сон прилип к черепу изнутри. Его черные пытливые глаза и змеиное тонкое лицо, его лоснящаяся кожа и редеющие волосы — если он и не был злодеем, то выглядел таковым. Здесь, в Англии, он интриговал и шпионил, пока не был разоблачен и выслан. Последние его слова после того, как он ступил на борт корабля, были: «Передайте вашей хозяйке, что Бернардино де Мендоса рожден не докучать королевствам, а их завоевывать». С тех пор он обосновался в Париже в качестве посланника короля Филиппа и плел там паутину шпионажа и интриг, которая опутала всю Европу.
Впрочем, наш местный шпионских дел мастер сэр Фрэнсис Уолсингем ему достойный противник. У Мендосы сотни осведомителей? У Уолсингема по меньшей мере пятьсот, даже в самом Константинополе. Испанец ревностный, даже фанатичный католик? Уолсингем — столько же рьяный приверженец протестантизма. Начисто лишен моральных принципов? Девиз Уолсингема: «Знание не бывает слишком дорого», и он готов был платить не скупясь. Оба считали, что ведут духовную битву, а не политическую войну.
И великая схватка, давно откладываемый Армагеддон между Англией и Испанией, была неизбежна. Я сделала все, что было в моих силах, чтобы уклониться от нее.
Не было ни такой низости, ни такой подлости, к какой я не готова была бы прибегнуть: я вела переговоры о замужестве, хитрила, изворачивалась, откровенно лгала, как в тот раз, когда убедила Филиппа, что исповедую протестантизм исключительно в силу политической необходимости, а не по убеждению, — я не гнушалась ничем, лишь бы выиграть время, лишь бы мы успели подготовиться и выдержать удар, когда он будет наконец нанесен. Но у меня закончились отговорки, а у Филиппа терпение — да, даже у него, у человека, про которого говорили: «Если бы смерть шла из Испании, мы все жили бы очень долго».
Наконец-то рассвело. Теперь я могу встать.
Мой астролог Джон Ди очень верит снам и знамениям. На сей раз он оказался прав. Не успела я одеться, как мне доложили, что Уильям Сесил, лорд Бёрли, мой государственный секретарь, желает видеть меня по неотложному делу.
Очевидно, дело было и впрямь неотложное. Сесил знал, что я не принимаю раньше полудня.
Я приветствовала его, страшась новостей. Он был мне дорог; если кто-то должен принести дурные вести, пусть это будет он.
— Прошу простить меня, ваше величество, — проговорил Сесил, кланяясь настолько низко, насколько позволял его ревматизм, — но вы непременно должны это увидеть. Это от Филиппа.
Он сунул мне в руку свиток.
— Адресовано мне? Как предупредительно с его стороны!
Я сжала свиток в пальцах, ощущая важность даже в самой его увесистости.
— Едва ли, ваше величество.
— Но он не пожалел лучшего пергамента.
Бёрли не улыбнулся.
— Хотела блеснуть остроумием, — пояснила я. — Неужто мое чувство юмора мне изменило?
Он изогнул губы, изображая улыбку:
— Нет, ваше величество. Я поражен вашей способностью видеть забавное даже в подобных вещах. — Он взял у меня из руки свиток. — Таких там сотни, набитых в трюмы кораблей армады. Семена зла, готовые засеять Англию.
— В отличие от одуванчикового пуха, что летает сам по себе по воле ветра, их не посеют, если испанские сапоги не ступят на английскую землю. А они на нее не ступят.
— Агентам Уолсингема удалось выкрасть этот свиток, а также копию письма, составленного одним из советников короля Филиппа. Я почти готов поверить, что нет ничего, что этот человек не мог бы раздобыть или разузнать.
Я взяла письмо. Оно, разумеется, было на испанском, но для меня это не преграда. Впрочем, читая, я едва не пожалела, что понимаю его. Это был тщательно продуманный меморандум и рекомендации испанскому королю относительно его действий после того, как испанцы завоюют Англию. Меня следовало взять живой и передать в руки папы.
— Даже не сомневаюсь в части распоряжения его святейшества. В булле говорится, что... — я пошевелила пальцами, сделав Бёрли знак вернуть мне пергамент, и нашла в тексте нужное место, — ...мои деяния и изъяны таковы, что «одни делают ее неспособной править, а другие — недостойной жить». Он объявит о лишении меня всей власти и королевского достоинства, тем самым провозглашая мое правление незаконным, и избавит моих подданных от подчинения мне. Посему его святейшество — бывший Великий инквизитор Венеции — намерен отправить меня на костер.
Я поежилась. Это было не смешно. Далее его святейшество приказывал всем объединить усилия с «католической армией» герцога Пармского и «короля католиков», то есть Филиппа II Испанского. В заключение он обещал полную индульгенцию всем, кто поможет меня свергнуть.
Под конец я все-таки засмеялась. Именно из-за беззастенчивой торговли индульгенциями Мартин Лютер поднял восстание против католической церкви.
— Индульгенции! Вот чего по-прежнему хочет мир! Не очень-то они изобретательны в поиске новых способов поощрения. — Я швырнула буллу на пол.
— Он также предложил испанцам миллион дукатов за вторжение в Англию.
Я ушам своим не поверила:
— Он объявил за нас награду?
Бёрли пренебрежительно вскинул голову:
— Крестьянский папа, как он любит себя именовать, не так-то прост. Деньги будут выплачены только после того, как испанцы ступят на нашу землю. Никаких авансов.
— Значит, он в любом случае внакладе не останется. — (Старый стервятник. Он надеется сделать из Англии труп, который сможет расклевать? Не бывать этому!) — Пошлите за секретарем Уолсингемом и графом Лестером. Нам надо обсудить положение дел до общего собрания Тайного совета. Вы трое — движущая сила правительства.
Бёрли покачал головой, на что я возразила:
— Давайте без ложной скромности. Вы же знаете, что это так. Вы — мой дух, Лестер — мои глаза, а Уолсингем — мой бдительный мавр. Жду вас троих после обеда.
Я поднялась, давая понять, что разговор окончен. Изобличающие бумаги я аккуратно сложила в шкатулку для писем и заперла ее на ключ.
Подошло время обеда. Обыкновенно я ела в маленькой гостиной в обществе нескольких дам из своего ближайшего окружения, хотя в Главном зале всегда был накрыт пышный стол: там трапезничали придворные не из самых знатных и домашняя прислуга, мое же место пустовало. У меня мелькнула мысль, не стоит ли показаться сегодня на людях: в последний раз я делала это пару недель назад. Но я решила, что не стану. Не хотелось, чтобы все на меня смотрели. Папская булла и призыв к оружию выбили меня из колеи сильнее, чем я готова была признать.
— Мы все вместе поедим здесь, — сказала я своим придворным дамам.
Из них ближе всего мне были три: Кэтрин Кэри, моя двоюродная племянница; Марджори Норрис, подруга моих детских лет, и Бланш Пэрри, моя старая кормилица.
— Откройте окна, — попросила я Кэтрин.
День был ясный и погожий, из тех, когда в воздухе танцуют бабочки. Иной май — всего лишь зеленая зима, этот же выдался теплым и благоуханным. Как только окна приоткрыли, в гостиную ворвался внешний мир.
Посреди комнаты был накрыт маленький стол, где мы могли поесть без лишних церемоний, если не считать слуги, обязанного снимать пробу с каждой моей трапезы.
Аппетита у меня не было, его отбила папская булла. Впрочем, я всегда отличалась умеренностью в еде, так что моя тарелка, оставшаяся почти нетронутой, не привлекла ничьего внимания.
Марджори, дородная уроженка Оксфордшира, всегда ела от души. Вот и сейчас она налегла на внушительную порцию свиного рагу, запивая ее элем. Кэтрин, маленькая и пухленькая, обыкновенно клевала как птичка, так что для меня всю жизнь было загадкой, как она умудряется оставаться такой круглолицей. Марджори была лет на пятнадцать меня старше, Кэтрин — на пятнадцать же моложе. Старой Бланш Пэрри стукнуло восемьдесят. В последнее время она почти совсем ослепла и вынуждена была уступить свою должность хранительницы драгоценностей короны более молодой Кэтрин. Сейчас она сидела за столом и ела исключительно по привычке и на ощупь, глядя в пустоту перед собой бельмами глаз.
Поддавшись внезапному порыву, я наклонилась и похлопала ее по руке — старая кормилица вздрогнула от неожиданности.
— Я не хотела тебя напугать, — сказала я.
Однако прикосновение к пергаменту ее руки успокоило меня.
— И не стыдно же вам так пугать старуху! — укорила она.
— Бланш, ты вовсе не старуха.
— Если восемьдесят не старость, когда же она начинается?
— На несколько лет позже, чем в возрасте присутствующих, — отвечала я. — Лет в девяносто.
Был ли при моем дворе кто-то за девяносто? Я таких не припоминала. Значит, можно было назвать эту цифру с чистой совестью.
— Ну, миледи, находятся и такие, кто считает старой вас! — язвительно заметила кормилица.
— Вздор! — отрезала я. — С каких пор пятьдесят пять — это старость?
— С тех пор как вы достигли этого возраста, он перестал быть таковым, — вставила Кэтрин.
— Пожалуй, мне стоило бы назначить вас послом в какую-нибудь державу, — заметила я. — Какая дипломатичность! Но, дорогая кузина, мне невыносима одна мысль о том, чтобы расстаться с вами. И потом, разве вы хотели бы жить среди французов или датчан?
— Французы знают толк в моде, а датчане — в выпечке, — подала голос Марджори. — Неплохой выбор.
Я едва ее слушала.
— Армада готова отправиться в плавание, — вырвалось у меня. — Вскоре она будет у наших берегов.
Марджори с Кэтрин отложили ложки, лица обеих застыли.
— Так я и знала! — заявила Бланш. — Я этого ожидала, и уже давно. Я же вам говорила! Как король Артур.
— О чем вы? — вопросила Марджори. — Опять ваши валлийские россказни? Только не несите вздор, будто вам было видение.
Бланш распрямилась:
— Я просто знала, что наследие короля Артура рано или поздно вернется. Он пращур королевы. Мы все это знаем. Мой кузен доктор Ди доказал это. Артур оставил незавершенное дело. Последнюю битву. Величайшее испытание Англии на прочность.
— Король Артур тут совершенно ни при чем, — сказала Кэтрин. — Астрологи давным-давно предсказали, что одна тысяча пятьсот восемьдесят восьмой станет годом великих свершений. Ди лишь подтвердил это.
— Предсказание, которое сделал сотню лет назад Региомонтан, гласит, что тысяча пятьсот восемьдесят восьмой станет годом неслыханных бедствий для всего мира, — отозвалась Бланш спокойно. — «Империи падут, и во всех краях будет стоять плач и крик» — вот как там было сказано.
— Да, но что это за империи? — возразила я. — Разве Дельфийский оракул не предрек лидийскому царю Крезу, что если тот пойдет войной на Персию, то падет великое царство? А царство оказалось Лидийское, а вовсе не Персидское.
— В этом году должно случиться три затмения, — сказала Бланш, которая явно не собиралась сдаваться. — Одно солнечное и два лунных. Солнечное уже было, в феврале.
— Пусть наступают, — пожала плечами я.
Можно подумать, я как-то могу их предотвратить.
Мне нужно было остаться одной. Даже моя верная троица не утешила меня. После обеда я вышла в Королевский сад. Уайтхолл, огромный, раскинувшийся во все стороны дворец, из особняка на берегу реки разросся практически в город с настоящей улицей, которая проходила через него, и двумя воротами. Учитывая количество площадок для рыцарских состязаний, арен для петушиных боев, теннисных кортов и лужаек с фазанами, отыскать уединенное место было задачей непростой. Но садик, притулившийся между каменными стенами других зданий, надежно укрыл меня от любопытных взглядов.
Травянистые дорожки, окаймленные невысокими перилами в бело-зеленую полоску, крест-накрест пересекали лужайку, образуя геометрические узоры. Все аккуратное и строго в своих границах. Смерть Господня, если бы только в мире все было устроено так же! Если бы только Испания оставалась в своих границах! У меня-то никогда никаких территориальных притязаний не было. В отличие от моего отца с его тщеславными попытками воевать за границей, я всегда довольствовалась пределами своих владений. Говорят, это все потому, что я женщина. Но на самом деле потому, что у меня есть голова на плечах. Война — это бездонная яма, в которую без счета улетают деньги и человеческие жизни.
Дорожка уперлась в стену и резко свернула в сторону. В углу возвышался раскрашенный деревянный столб, увенчанный резным геральдическим зверем с развевающимся штандартом в когтистых лапах. То был красный валлийский дракон: пасть широко разверста, крылья расправлены, когти крепко вцепились в дерево. Тюдоры — валлийский род, ведущий происхождение предположительно от короля Кадваладера. Бланш в детстве все уши мне прожужжала про Уэльс и даже научила тамошнему языку. Но я никогда там не бывала. Только и оставалось, что смотреть на резного деревянного дракона. Когда-нибудь, в один прекрасный день...
Но не сегодня. Сейчас мне следовало беспокоиться о выживании Англии, в том числе и Уэльса.
Одно я знала твердо: против испанской армии нам не выстоять. Это была самая совершенная боевая сила в мире. А у нас не имелось вообще никакой армии, только вооруженное народное ополчение да немногочисленные наемники, с бору по сосенке собранные за счет средств богатых жертвователей.
Ни в коем случае нельзя было позволить испанцам высадиться на сушу. А это значило, что дать им бой придется на море. Кораблям, а не солдатам предстоит защитить и спасти нас.
Передо мной стояли три самых могущественных человека в королевстве — Уильям Сесил, лорд Бёрли, лорд-казначей; сэр Фрэнсис Уолсингем, первый секретарь и глава тайной службы; Роберт Дадли, граф Лестер, еще совсем недавно верховный главнокомандующий английскими войсками, отправленными на подмогу протестантским повстанцам, которые боролись за освобождение от испанского владычества — на английские деньги, разумеется.
Заседание обещало быть долгим.
— Прошу, садитесь, — сказала я им, сама же осталась стоять.
За спиной у меня располагалась внушительная, во всю стену, фреска кисти Гольбейна, на которой были изображены мои отец и дед. Отец занимал весь передний план, так что его собственный родитель рядом с ним, казалось, прятался в тени. Я стояла прямо перед отцом. Черпала ли я в нем силу или пыталась заявить, что теперь главенствующее положение в королевстве занимаю я?
Вместо того чтобы повиноваться, Роберт Дадли сделал шаг вперед и протянул мне полураспустившуюся лилию на длинном стебле.
— Беспорочная лилия для беспорочной лилии, — с поклоном произнес он.
Бёрли и Уолсингем со страдальческим видом покачали головой.
— Спасибо, Роберт, — сказала я, но вместо того, чтобы послать за вазой, демонстративно положила цветок на стол, где он должен был быстро увянуть. — А теперь можете садиться.
— Полагаю, все ознакомились с буллой об отлучении и низложении Елизаветы? — заговорил Бёрли. — Если нет, у меня при себе имеются списки.
Я стиснула зубы. Подумать только!
— Ступни Господни! Эти испанцы будут донимать меня даже из ада?
— Ваше величество, ничего нового в этом нет, — презрительно фыркнул Уолсингем. — Разве что формулировки слегка изменились по сравнению с первыми двумя — той, что в тысяча пятьсот семидесятом году издал Пий Пятый, и следующей за ней, восьмидесятого года, которую издал Григорий Тринадцатый. Новый папа, новая булла.
— Загвоздка в том, какой груз они везут, — сказал Бёрли. — Это отвратительно.
— Для них это нечто вроде Крестового похода, — пожал плечами Уолсингем. — Все их корабли именуются в честь какого-нибудь святого или ангела. Штандарт флагманского корабля, на котором вышиты Святая Дева и распятие, был освящен архиепископом Лиссабонским. Отчего бы в трюмах не находиться свиткам с буллами? Да, кстати, это вам понравится. У меня есть перечень их паролей. В воскресенье это «Иисус», в понедельник «Святой Дух», во вторник «Пресвятая Троица», в среду «святой Иаков», в четверг «ангелы», в пятницу «все святые», а в субботу «Богородица».
— Зная ребят вроде Дрейка или Хокинса, я даже думать не хочу, какие пароли у нас, — коротко хохотнул Лестер.
— Ах да, а еще все на борту исповедовались и получили отпущение грехов, о чем имеют при себе соответствующую грамоту, — добавил Уолсингем.
Он не переставал меня изумлять. Где он раздобыл такие сведения?
— Вы, должно быть, подкупили священника, иначе откуда все эти подробности? — сказала я.
Его молчание подтвердило мою догадку красноречивее всяких слов.
— И да, здесь, в Англии, и даже в самом Лондоне, есть те, кто молится за успех этого предприятия, — наконец произнес он.
— Если вы так говорите, вам наверняка известны их имена, — заметила я. — Выкладывайте.
Кого угодно другого эта просьба поставила бы в затруднительное положение, но я знала, что у него на руках все факты. Мне просто хотелось тоже ими располагать.
— Филипп Говард, граф Арундел, — сказал он. — Даже будучи заточен в Тауэр, он умудрился заручиться поддержкой сторонников и найти священника, который отслужил мессу за успех армады и за англичан, что находятся на борту испанских кораблей. И да, я располагаю именами всех, кто при этом присутствовал.
— Англичане на борту испанских кораблей! — возмутился Лестер. — Какой позор!
— Люцифер с сонмом его присных проникли повсюду, — пожал плечами Уолсингем. — К тому же Арундел — крестник Филиппа Испанского. Чего вы ожидали?
— Когда армада вышла в море? — спросил Бёрли. — Она ведь уже вышла?
— Она еще в Лиссабоне. Мои осведомители говорят, что в ней около ста пятидесяти кораблей. Разумеется, не все военные. Среди них множество торговых и вспомогательных.
— Это будет самый большой в истории флот, вышедший в море. Если, конечно, ему удастся выйти. Смерть командующего два месяца назад, — Лестер с притворной скорбью перекрестился, — отбросила их назад. Санта-Крус знал толк в своем деле. Его преемник, этот Медина-Сидония, ничего не знает и не умеет. Он даже страдает от морской болезни! Хорошенький адмирал, нечего сказать!
— То, что восемь лет назад им удалось прибрать к рукам Португалию вместе со всеми кораблями в порту Лиссабона, стало величайшим подарком судьбы для них и величайшим несчастьем для нас, — заметил Бёрли. — Просто удивительно, что они так долго собирались. Разумеется, они надеялись, что кто-нибудь очень кстати для них посадит на трон Марию Шотландскую и сделает Англию католической, а им не придется даже пальцем пошевелить.
— Тем, что этому был положен конец, мы обязаны вам, — сказала я Уолсингему.
Его мрачные черты на мгновение смягчились. У него всегда был такой суровый вид, у моего шпионских дел мастера. Даже одержав победу, он не мог торжествовать.
— Она сама положила всему конец, — коротко кивнул он в ответ. — Я лишь разоблачил ее козни и интриги.
— Сегодня Англия остается величайшей угрозой торжеству Контрреформации. Во всех остальных землях Рим обратил эту волну вспять и начал наступление на протестантские завоевания, отыгрывая территории. Мы же остаемся единственной страной, где те, кто отвергает власть Рима, могут быть в безопасности и добиться чего-то в жизни. Поэтому они хотят уничтожить нас. Это вопрос религиозный, но в то же самое время и политический, — сказал Бёрли.
— А разве есть разница? — отозвался Лестер.
— Сколько, по-вашему, осталось времени до нападения? — спросила я Уолсингема. — Сколько у нас времени на подготовку?
— Они могут выйти в море со дня на день, — отвечал тот.
— Мы всю зиму приводили в порядок маяки и чинили прибрежные укрепления, — сказал Бёрли.
— Но нам всем прекрасно известно — а тут мы с вами можем говорить друг с другом без обиняков, — что у нас практически нет замков, способных выдержать натиск испанской осадной артиллерии, — заявила я. — Высадятся они, скорее всего, в Кенте, прямо напротив Фландрии. Кент — равнинная земля, преодолеть ее проще простого. У нас недостаточно оружия, а то, что есть, устарело. К тому же во всем этом деле имеется один большой вопрос: как поведут себя английские католики? Примкнут к испанцам? На чьей стороне они будут? Поэтому, мои добрые советники, единственная наша надежда на победу заключается в том, чтобы с самого начала не дать испанцам высадиться.
— Вызовите Дрейка, — сказал Бёрли.
— А где он сейчас? — спросил Лестер.
— В Плимуте, — отвечал Уолсингем. — Но он быстро приедет.
5
Когда они поднялись, чтобы идти, я сделала знак Роберту Дадли, лорду Лестеру, надевавшему шляпу. Тот остановился и вопросительно посмотрел на меня.
— Пойдемте прогуляемся по саду, — предложила, то есть приказала я ему. — С тех пор как вы в прошлом году вернулись из Нидерландов, я вас почти не вижу.
— Почту за счастье, — улыбнулся он и развернулся, чтобы идти за мной.
Садовники, сосредоточенно склонившись над клумбами, высаживали душистые травы. Отослать всех троих прочь? Все, что мы скажем друг другу, будет услышано и, без сомнения, передано дальше. Нет, пусть остаются. Я не собиралась говорить ничего такого, что нельзя было бы повторить.
— Вы хорошо выглядите, — заметила я.
— Я принял бы это за комплимент, но по возвращении я был болен и выглядел хуже некуда. Так что любое незначительное улучшение — все же улучшение.
— Верно.
Я внимательно посмотрела на Дадли. В его лицо отчасти вернулись округлость и живость, которых его лишили Нидерланды, тем не менее сказать, что он пышет здоровьем, было нельзя. Его молодость и красота тоже безвозвратно ушли в прошлое. Время не пощадило того, кто был моими глазами, мужчину, который блистал при дворе три десятка лет тому назад. Густые каштановые волосы поредели и поседели, пышные усы и борода, некогда холеные и блестящие, как соболий мех, повисли бледными сосульками. Пытливые глаза темно-орехового цвета слезились и смотрели умоляюще. Быть может, так на нем сказались не только Нидерланды, но и десятилетний брак с печально известной своей вздорностью Летицией Ноллис.
— Нидерланды дорого вам дались. И мне тоже, — вздохнула я. — Столько смертей, столько наших ресурсов потрачено.
Множество сил и средств было положено, а перспектив на разрешение ситуации по-прежнему никаких.
— Если бы не мы, — сказал он, остановившись посреди поросшей травой дорожки, — испанцы уже разгромили бы протестантское восстание. Не надо думать, что все это было напрасно.
— Иногда мне кажется, что если мы чего и добились, то лишь подарили испанцам боевой опыт, чтобы им проще было сражаться с нами на нашей земле.
Мы все так же неторопливо двинулись дальше, направляясь к солнечным часам в центре сада, основной его достопримечательности.
— Я видел армию герцога Пармского в деле, и, можете мне поверить, свою репутацию она заслужила не на пустом месте.
— Репутацию лучшей военной силы в Европе? Да, я знаю.
— Но она точно так же страдает от болезней и дезертирства, как и любая другая армия. Начинал он, имея в распоряжении тридцать тысяч человек, а теперь, говорят, осталось всего семнадцать тысяч. Включая тысячу английских отступников, которые сражаются против собственной страны. Кроме того, — тут глаза его вспыхнули, как у того Роберта, каким я его знала в молодости, — испанская корона изрядно поиздержалась, а денег у нее не будет до тех пор, пока из Америки не вернется очередной флот с добычей.
— Который наши верные каперы попытаются перехватить, — ухмыльнулась я в ответ. — Вас не было в стране, но знаете ли вы, что благодаря рейдам Дрейка во второй половине восемьдесят шестого года до Испании не дошло ни унции серебра?
Мы оба злорадно расхохотались, как много раз смеялись вместе. Смех у него был все такой же молодой.
— Ни унции?! — воскликнул он.
— Ни единой монеты, — подтвердила я. — Ни одного слитка. Кроме того, в ходе его рейда на Кадис прошлой весной испанцы потеряли такое количество кораблей и припасов, что он один отсрочил отплытие армады на целый год. А люди герцога Пармского получили больше времени, чтобы умереть или дезертировать.
— Вести об этом дошли даже до нас. Вторгнуться в испанские воды, нанести удар более чем за тысячу миль от собственной базы в Англии — немыслимая дерзость, нечто невозможное! Во всяком случае, испанцы не считали подобное возможным. Теперь они все его боятся. Пленный испанский капитан, которого я допрашивал самолично, был уверен, что Дрейк наделен сверхъестественными способностями видеть, что творится в дальних портах. Я не стал его разубеждать. Дрейк совершенно определенно обладает необыкновенным чутьем относительно того, какие корабли везут ценный груз, какие из них под охраной, а какие нет. И действует со стремительностью бьющей кобры.
— Правда, поразительно! А ведь выглядит он, с его круглым лицом и румяными щеками, так невинно, что и не скажешь.
— Вместо клыков у него корабли. — Роберт в изумлении покачал головой. — Он орудует ими, как обычный человек пользуется рукой или ногой, словно они часть его тела.
Мы дошли до солнечных часов — фасетчатого куба, который показывал время тридцатью различными способами, когда на каждой из граней играло солнце. Его мне подарила королева Екатерина Медичи в тот период, когда ее августейшие сыновья по очереди ко мне сватались. Возможно, она полагала, что один большой подарок от их матери произведет на меня большее впечатление, чем множество маленьких. Хитроумное устройство. Один из циферблатов даже показывал время в ночные часы, если луна светила достаточно ярко.
Сейчас на всех циферблатах было четыре. Сегодня стемнеет почти в девять, а до того наступят длинные весенние сумерки. Для определения времени в последних лучах заходящего солнца имелся даже специальный сумеречный циферблат.
— Вам не понравилась лилия? — Роберт прислонился к одной из граней часов.
— Понравилась, — отозвалась я, пожалев, что отнеслась к ней с таким пренебрежением, но в тех обстоятельствах это был неуместный подарок. — Это было очень в вашем духе.
Он обвел взглядом сад:
— Почему у вас тут нет роз? Как может в саду у королевы из рода Тюдоров не быть роз?
— Они слишком высокие в сравнении с перилами. Это нарушило бы гармонию сада. Но рядом с фруктовыми деревьями есть целый розарий.
— Покажите, — попросил он. — Я никогда его не видел.
Мы вышли из садика и двинулись по дорожке мимо ристалища со смотровыми галереями. Вдоль всей изгороди тянулись металлические крепления для турниров при факельном свете. Когда-то Роберт не пропускал почти ни одного, но больше выехать на площадку ему было не суждено. Я обратила внимание, как тяжело он дышит даже после короткой прогулки. Потом мне вспомнилось еще кое-что.
— Вы оставили пост королевского конюшего. Почему, Роберт?
— Все рано или поздно заканчивается, — произнес он легкомысленным тоном.
— Но Бёрли до сих пор мне служит! Вас двоих я назначила на должности на самом первом заседании совета!
— Я по-прежнему служу вам, моя воз... ваше величество, — сказал он. — Просто не в качестве конюшего. Впрочем, лошадей я развожу до сих пор.
— Ну и... и кто же теперь мой конюший?
— Один расторопный юноша, которого я обнаружил. Кристофер Блаунт. Он отлично зарекомендовал себя в Нидерландах. Получил ранение. Я произвел его в рыцари. Уверен, он вас не разочарует.
— Этот титул принадлежит вам.
— Больше нет.
— В моей душе он всегда будет вашим.
— Наши души видят то, что не зримо глазам, — отозвался он. — Наверное, некоторые вещи существуют до тех пор, пока существуют души, которые их видят.
Да, молодой красавец Роберт Дадли теперь существовал исключительно в душе Елизаветы и на портретах.
— Вы правы.
Мы дошли до розария, где на клумбах цвели растения всех возможных сортов и видов. Тут были ползучие эглантерии c широко распахнутыми розовыми лепестками; мелкие мускусные розы цвета слоновой кости, усеивавшие колючие стебли; мощные кусты со сборчатыми красными и белыми цветками, дамасские розы и провенские розы, клумбы желтых роз и бледно-красных коричных роз, благоухавших корицей. Их смешанный аромат сегодня почему-то казался особенно сладким.
— Я был не прав, когда называл вас лилией, — сказал Дадли. — Теперь я вижу, что розы куда лучше отражают ваш подлинный характер. Их так много, и они такие разные, в точности как множество граней вашей натуры.
— Но мой личный девиз — Semper eadem. «Всегда одна и та же». Я выбрала его, потому как считаю, что непредсказуемость правителя — тяжкий груз для подданных.
— Ваши советники с подобной характеристикой едва ли согласились бы. Как и ваши поклонники. — Отведя глаза в сторону, он добавил: — Уж кто-кто, а я это знаю, ведь я был и тем и другим.
Я порадовалась, что не вижу его лица.
— Я только притворяюсь ветреной, — произнесла я наконец. — Под этой личиной я тверда и неколебима, как скала. Я всегда верна и всегда рядом с теми, кто мне дорог. Но капелька лицедейства добавляет в жизнь остроты и не дает моим врагам расслабиться.
— Как и друзьям, ваше величество, — заметил он. — Даже я, ваши старые глаза, порой не знаю, верить ли очевидному.
— Вы всегда можете спросить у меня, Роберт. И я всегда отвечу. Это я вам обещаю.
Роберт Дадли. Единственный человек, перед которым я могу почти обнажить душу, быть честнее, чем с кем бы то ни было. Когда-то давным-давно я любила его без памяти, как молодая женщина может любить лишь однажды в жизни. Время изменило эту любовь, выковало из нее нечто иное — крепче, прочнее, сильнее, спокойнее. Как, говорят, это случается в любом длительном браке. У русских есть поговорка: «Молот стекло бьет, а железо кует».
Как-то я сказала одному иностранному посланнику: если я когда-нибудь и выйду замуж, то как королева, а не как Елизавета. Если бы меня убедили в том, что мой брак необходим с политической точки зрения, я пошла бы на это вопреки собственному желанию. Но во время коронации я дала обет, что моим супругом станет сама Англия. Остаться девственницей, не отдавать себя никому, кроме моего народа, — это та зримая жертва, которую они должны были оценить и отнестись к ней с почтением; она должна была навеки связать нас. Так и случилось.
И все же, и все же... хотя я избавила их от ужасов иноземного вмешательства и угрозы доминирования, после меня они все же столкнутся с тем, чего мой отец всеми силами старался избежать и ради чего перевернул королевство вверх дном, — с отсутствием престолонаследника.
Не стану утверждать, что меня это не тревожит. Но мне сейчас нужно принимать другие неотложные решения, столь же критически важные для выживания моей страны.
На преодоление двух сотен миль между Плимутом и Лондоном у Фрэнсиса Дрейка ушла добрая часть недели, однако теперь он стоял перед Тайным советом и передо мной в зале совещаний в Уайтхолле. Он отказался отдохнуть и явился прямиком ко мне.
В его присутствии я всегда чувствовала себя в большей безопасности. Его кипучий оптимизм против воли внушал всем слушателям убежденность в том, что его планы не только выполнимы, но и рациональны.
Помимо основного ядра — Бёрли, Лестера и Уолсингема, — к группе присоединились сэр Фрэнсис Ноллис; Генри Кэри, лорд Хансдон; а также Джон Уитгифт, архиепископ Кентерберийский, и Чарльз Говард, новый лорд-адмирал.
— Добро пожаловать, — приветствовала я Дрейка. — Ваше мнение относительно нашего положения?
Дрейк обвел зал взглядом. Это был коренастый мужчина с грудью бочонком. Для человека, который в прошлом году уничтожил бочарные клепки, предназначавшиеся для оснащения армады, внешность у него была самая что ни на есть подходящая. Его рыжеватые волосы еще не начали редеть, а лицо, хоть и было выдублено морскими ветрами, выглядело удивительно молодо. Прежде чем заговорить, он явно некоторое время прикидывал, кто из членов совета может оказаться его противником.
— Мы знали, что рано или поздно это произойдет, — произнес он наконец. — И вот этот час настал.
Возразить против этого было нечего.
— И каковы же будут ваши рекомендации? — поинтересовалась я.
— Вы же знаете мои рекомендации, милостивая королева. Всегда лучше атаковать противника первыми и обезоружить его до того, как он достигнет наших берегов. Наступательными действиями управлять легче, нежели оборонительными, поэтому я предлагаю, чтобы наш флот покинул английские воды и отправился наперерез армаде, не дожидаясь, пока она сюда доберется.
— Весь целиком? — спросил Чарльз Говард. — Но тогда мы останемся совсем без защиты. Если армада ускользнет от вас, некому будет оказать ей сопротивление у берегов.
Он обеспокоенно вскинул брови. Чарльз был человеком выдержанным и дипломатичным и мог найти подход практически к любому, что делало его идеальным командиром. Но Дрейка не так-то просто было ни контролировать, ни умаслить.
— Мы встретим их, — заявил он. — И лучше бы нам при этом не испытывать недостатка в кораблях.
Роберт Дадли — на этом формальном совещании граф Лестер — явно начал закипать.
— Мне беспокойно отправлять все корабли сразу, — сказал он.
— Вы прям как бабка старая, — пренебрежительно фыркнул Дрейк.
— Тогда нас таких двое, — подал голос Ноллис, известный своей осторожностью и въедливостью.
Будь он монахом, носил бы власяницу. Но его воинствующий протестантизм был хорошей заменой.
— Меня тоже сосчитайте, — вклинился Бёрли.
Уильям Сесил всегда предпочитал оборонительную стратегию, желая держаться внутри английских границ.
— Все будет зависеть от того, удастся ли нам получить надежные сведения касательно даты выхода армады из Лиссабона, — сказал секретарь Уолсингем. — В противном случае это будет затея бесплодная и опасная.
— Я думал, это ваша забота, — заметил Дрейк.
Уолсингем окаменел.
— Я делаю все, что могу, при тех средствах, коими располагаю, — ответил он сухо. — Но способа мгновенно передавать сведения на дальние расстояния не существует. Корабли способны опередить моих гонцов.
— О, я же способен видеть, что происходит в дальних портах, — со смехом произнес Дрейк. — Разве вы этого не знали?
— Я знаю, что испанцы приписывают Эль Драко, Дракону, такую способность, — сказал Уолсингем. — Но они в большинстве своем просто легковерные недоумки.
— Что есть, то есть, — вставила я. — Но довольно пустых разговоров. Какие еще будут предложения?
— Я предложил бы разделить наш флот надвое: западная эскадра будет охранять вход в Ла-Манш, а восточная — Дуврский пролив, — сказал Чарльз Говард.
— Я вижу, в чем заключается план наших врагов, — заявил Дрейк, не дав тому договорить. — Армада поплывет сюда не для того, чтобы сражаться. Этим займется армия фламандцев под командованием герцога Пармы, а армада просто сопроводит их через Ла-Манш. Они будут охранять баржи, груженные солдатами, во время переправы. Там между берегами от силы миль двадцать. Вся армия сможет переправиться часов за восемь-двенадцать. Вот каков их план!
Он обвел своими ясными глазами советников, на чьих лицах явственно читалось сомнение.
— Мы должны обезвредить флот. Мы должны помешать ему пристать к берегам Фландрии. Наши голландские союзники нам помогут. Они уже не дали Парме закрепиться ни в одном из глубоководных портов и способны устроить ему веселую жизнь, когда он попытается воспользоваться более мелкими водными путями. Огромный размер армады, призванный обеспечить ей безопасное продвижение, может стать ее самым уязвимым местом. — Он немного помолчал. — Разумеется, в качестве альтернативного плана они могут захватить остров Уайт на нашей стороне Ла-Манша и превратить его в свою базу. Но если пройдут мимо, больше до самого Кале никаких портов не будет. Мы вполне можем их и подогнать. Конечно, при условии, что они вообще сюда дойдут. Если же мы последуем моему изначальному плану и перехватим их...
Я вскинула руку, сделав ему знак умолкнуть:
— Все это после. Сейчас мы должны принять решение относительно распределения всех наших ресурсов. Значит, адмирал Говард, вы предлагаете действовать двумя отдельными эскадрами? Не лучше ли будет расположить все корабли у входа в Ла-Манш?
— Нет. Если они прорвутся, на всем остальном пути помешать им будет попросту некому. Они захватят весь Ла-Манш, если мы не встретим их на другом конце.
— Я не думаю... — вмешался Дрейк, не дожидаясь своей очереди.
— Тихо! — оборвала я его, после чего обратилась к Генри Кэри, лорду Хансдону: — А что наши сухопутные силы? Что скажете, кузен?
Это был богатырского сложения мужчина, всегда чем-то неуловимо напоминавший мне медведя. Словно медведю, ему, казалось, тесно было в помещении. Он был попечителем Восточной марки [2] и постоянно жил неподалеку от шотландской границы.
— Я буду отвечать за вашу безопасность, — сказал он. — Расквартирую в Виндзоре войска. Если положение станет более... шатким... я позабочусь о том, чтобы у вас было безопасное убежище.
— Я никогда не стану прятаться в собственной стране! — заявила я.
— Но, ваше величество, вы должны думать о ваших подданных, — возразил Уолсингем. — Следует назначить представителей, которые будут надзирать за распределением припасов и контролировать приготовления к обороне, одновременно обеспечивая безопасность вашей дражайшей персоны.
— Смерть Господня! — воскликнула я. — Я сама буду за всем надзирать!
— Но это неблагоразумно, — вмешался Бёрли.
— А кто решает, что благоразумно, а что нет? — парировала я. — Я правлю этой страной и никогда не передам управление никому иному. Никто не печется о благополучии моего народа более меня.
— Но, мадам, вы же не... — заговорил было Лестер.
— Не смыслю ничего в военном деле? Вы это хотели сказать? Держите ваше мнение при себе!
Ох, до чего же он порой выводил меня из себя. И он один не побоялся высказать свое мнение о том, что я как военачальник никуда не гожусь.
— Так, что у нас со всеми остальными войсками? — обратилась я к Хансдону. — Сколько человек мы можем поставить под ружье?
— В южных и восточных графствах тысяч, наверное, тридцать. Но это будут по большей части мальчишки и старики. К тому же необученные.
— Оборонительные меры? — спросила я.
— Я намерен проследить, чтобы часть старых мостов была уничтожена. Кроме того, мы можем перегородить Темзу, чтобы помешать армаде дойти до Лондона.
— Это все курам на смех! — снова встрял Дрейк. — Если армада сможет прорваться так далеко, это будет означать исключительно то, что я, Джон Хокинс, Мартин Фробишер и отважный адмирал — все мертвы.
Это стало поворотной точкой. Я опустила руки ладонями вниз, призывая всех к тишине. Потом закрыла глаза и собралась с мыслями, пытаясь упорядочить все, что услышала.
— Прекрасно, сэр Фрэнсис Дрейк, — произнесла я. — Вы получите возможность провести ваш эксперимент. Отправляйтесь на юг наперехват армаде. Но как только почувствуете, что нам здесь грозит опасность, тотчас возвращайтесь. Я хочу, чтобы все корабли были здесь и могли дать отпор врагу, если он появится.
Я обвела взглядом лица собравшихся.
— Вы, адмирал Говард, возглавите западную эскадру, которая будет базироваться в Плимуте. Кроме того, я назначаю вас командующим всеми нашими сухопутными и морскими силами. Вашим кораблем будет «Ковчег». Дрейк будет вашим заместителем. Вы меня слышали, Фрэнсис? Адмирал Говард назначен вашим командиром.
Дрейк кивнул.
— Лорд Генри Сеймур, который в обычное время занимает должность адмирала проливов, возглавит восточную эскадру в Дувре. — Я устремила взгляд на Хансдона. — Лорд Хансдон, вы будете отвечать за войска, которые базируются в окрестностях Лондона и обеспечивают мою личную безопасность. Норрисов, сэра Генри-старшего и его сына сэра Джона, прозванного Черным Джеком, я назначаю генералом и его заместителем в юго-восточных графствах. Молодой Роберт Сесил будет ведать артиллерией основной армии. А вы, лорд Лестер, — я в упор взглянула на Роберта Дадли, — станете генерал-лейтенантом сухопутных сил обороны королевства.
Вид у него сделался ошарашенный, как и у всех остальных.
— Да смотрите, чтобы не вышло, как в Нидерландах, — добавила я, это была моя маленькая месть за недавнее оскорбление.
Расходились все удивленные — и обрадованные — тем, что все назначения сделаны. Все мысли этих доблестных воинов были уже на поле боя, а также о том, что предстояло сделать.
Теперь, когда совсем стемнело и на дворец, подобно ласковому дождю, пролилась ночная тишина, я смогла наконец отдохнуть. Мои покои, окна которых выходили на реку, на краткий миг озарились последними отблесками заката, прежде чем золото окончательно померкло. Я погладила портрет моей покойной сестры, королевы Марии, висевший на стене напротив окна. Я оставила его здесь как напоминание о ее страданиях, а также чтобы, не забывая о ее ошибках, не судить ее душу. Мне всегда казались печальными и ее глаза, в которых теплилась крохотная искорка надежды, и губы, слегка изогнутые, как будто таили какой-то секрет. С броши, приколотой к платью на груди, свисала большая каплевидная жемчужина, которую подарил ей жених Филипп. Однако сейчас — или то была лишь игра света? — ее взгляд казался не задумчивым, а хитрым, а изгиб губ превратился в ухмылку. Все полотно пульсировало красноватым светом, точно озаряемое изнутри каким-то дьявольским огнем. Она принесла испанское зло на нашу землю, связала нас с этой страной. Свадебная свита Филиппа прибыла на кораблях армады в июле тридцать четыре года назад, как прибудет вновь, чтобы довершить то, что началось в 1554 году с брака Филиппа и Марии: возвращение Англии в лоно католической церкви.
Я сделала себе мысленную зарубку убрать портрет. Что же до жемчужины, несмотря на свою ценность, она принесла с собой проклятие. Даже продав ее, я не смогу от него избавиться. Пускай отправляется обратно к хозяину. Когда все это закончится... Когда все это закончится, пусть Филипп забирает проклятую жемчужину. Она убила мою сестру, а теперь медленно отравляла комнату.
Закат догорел, и портрет снова стал таким, как обычно. Демоническое свечение исчезло. Лицо моей сестры превратилось в лицо гордой и полной надежд девушки, обрадованной прибытием жениха.
Марджори и Кэтрин, стоявшие за моей спиной, тактично молчали, хотя наверняка про себя задавались вопросом, что же я делаю. Я обернулась.
— Давайте готовиться к отходу ко сну, — объявила я. — Вас двоих я хочу оставить при себе, а молодежь отошлю на время, пока не минует опасность.
Я назначила мужа и сына Марджори командирами сухопутных войск на юго-востоке, а мужа Кэтрин — главнокомандующим объединенными сухопутными и морскими силами. Вдобавок к этому ее отцу, лорду Хансдону, предстояло отвечать за нашу личную безопасность.
— Боюсь, мы все в одной лодке. Моя Ворона. Моя Кошечка.
В условиях давления я всегда возвращалась к старым прозвищам, которые дала им когда-то: Марджори, черноволосую и черноглазую, с ее хриплым голосом, я прозвала Вороной. А нежная, мягкая, немногословная Кэтрин была моей Кошечкой.
Я лежала в темноте, которая в начале лета никогда не бывает полной. Всегдашнего веселого гама на берегах реки, протекавшей мимо дворца, не слышалось. Королевство словно затаило дыхание. Ни на воде, ни на суше не было никакого движения.
Вот он настал, этот час. Могла ли я как-то избежать его, избрать иной путь, приведший бы меня в другую точку, в более безопасное место? Оставаясь верной всему тому, что составляло мою суть, — не могла. Протестантизм пришел в мою страну в силу самого факта моего появления на свет. Отступиться от него, став взрослой, значило бы отречься от своих родителей и отказаться от предначертанной судьбы.
Я своими глазами видела, к чему это приводит, — именно так было с моей сестрой. Покорившись воле нашего отца и согласившись с тем, что его брак с ее матерью был недействительным, а она сама, как следствие, незаконнорожденной, она пошла наперекор всему тому, во что глубоко верила. Ненавидя себя за эту слабость, она впоследствии попыталась успокоить свою совесть и исправить содеянное. Результатом стала ее злосчастная попытка вновь насадить в Англии католицизм. Это вылилось в огромную жестокость, хотя сама она по натуре вовсе не была жестокой. За больную совесть правителя подданные платят слишком высокую цену.
Судьбой мне было уготовано стать олицетворением протестантизма. Следовательно, было лишь вопросом времени, когда блюститель старой веры бросит мне вызов.
6
Ночь казалась нескончаемой, и все же рассвет наступил слишком рано. Сегодня предстояло послать за всеми моими придворными дамами и отправить их по домам так, чтобы не напугать. Я мало-помалу готовилась к бою.
Обыкновенно при мне состояли десятка два женщин самых разных возрастов и сословий. Одни были мне ближе, чем другие. Наиболее церемониальными фигурами были статс-дамы; они происходили из знатных семей и роль исполняли скорее декоративную, нежели практическую. При дворе они появлялись нерегулярно, но обязаны были присутствовать на официальных мероприятиях, когда я принимала иностранных сановников. Однако устраивать испанцам торжественный прием в мои планы не входило, и сегодня во дворце никого из статс-дам не было.
Около десятка женщин в настоящее время служили дамами королевских покоев, и лишь четыре из них, самые старшие, прислуживали мне лично в моей опочивальне. Положение дамы королевской опочивальни было высочайшей честью, какой могла удостоиться моя приближенная. Трем из этих четырех, моим Вороне, Кошечке и Бланш, предстояло остаться со мной. Четвертую, Хелену ван Снакенборг из Швеции, я намеревалась отправить домой к мужу.
У меня также имелось шесть фрейлин, незамужних девушек из хороших семей, которые прислуживали в наружных покоях и спали все вместе в одной комнате. Всех их я собиралась отослать.
Если статс-дамы являлись декоративным элементом моей свиты, а дамы покоев — чем-то средним между компаньонками и помощницами, фрейлины были юными жемчужинами, блиставшими при дворе на протяжении сезона-другого. Они, как правило, были самыми хорошенькими и соблазнительными в группке придворных дам. Нередко им случалось обратить на себя внимание короля. Моя мать была фрейлиной, как и две другие жены отца. Здесь, впрочем, никакого короля, который мог бы положить на них глаз, не было, одни только хищные придворные.
Трепеща, они покорно выстроились в ряд. На их личиках предвкушение мешалось со страхом.
— Дамы, как это ни прискорбно, но ради вашей же собственной безопасности я должна отослать вас всех прочь, — объявила я. — Возможно, в том случае, если на нашу землю высадятся испанцы, мне придется быстро перебраться в потайное место, и ваши услуги мне не понадобятся. Я очень надеюсь, что это излишняя предосторожность, но не могу подвергать вас опасности попасть в лапы вражеских солдат.
Одна из фрейлин, Элизабет Саутвелл, высокая и грациозная, покачала головой:
— Наши жизни никак не могут быть ценнее жизни вашего величества. Мы должны быть с вами рядом, когда... когда...
Ее большие голубые глаза наполнились слезами.
— Как Хармиана и Ирада, когда Клеопатра бросила последний вызов римлянам! — тряхнув копной рыжеватых кудрей, воскликнула Элизабет Вернон.
— Я вовсе не намерена сводить счеты с жизнью через укус аспида, — заверила я ее. — И не собираюсь требовать от вас последовать моему примеру. Я хочу, чтобы вы на время отправились по домам. Вы меня понимаете?
— Насколько серьезна опасность? — спросила Бесс Трокмортон.
Она была дочерью покойного видного дипломата. Однако в ней всегда угадывался бунтарский дух, и остальные фрейлины, похоже, восхищались ею за это.
— Это зависит от того, насколько близко им удастся подойти, — сказала я.
Старшие дамы королевских покоев почти ничего не говорили и лишь кивали.
— Можете сложить вещи вечером, чтобы к утру уехать, — добавила я.
Они с поклоном удалились. Все, кроме юной Фрэнсис Уолсингем и Хелены.
Дождавшись, когда мы окажемся в одиночестве, Фрэнсис произнесла:
— Ваше величество, я хочу остаться. Мой долг — быть подле вас.
Я посмотрела на нее. Серая мышка, и не скажешь даже, что вдова великолепного сэра Филипа Сидни. После его смерти она так истаяла, что от нее осталась одна тень. Даже само имя делало ее невидимкой — ее звали в точности так же, как и ее отца, Фрэнсиса Уолсингема. Кому, интересно, пришло в голову назвать дочь и отца одним именем?
— Фрэнсис, ваш долг — повиноваться мне.
— Но мой отец один из командующих этой войны. Я не маленькая девочка, которую можно просто взять и отослать домой. Мне слишком многое известно, чтобы я могла не страшиться и не тревожиться. Лучше мне быть с вами. Пожалуйста, пожалуйста, позвольте мне остаться!
Я покачала головой:
— Нет, Фрэнсис, вы должны уехать. Ради моего душевного спокойствия. — Я повернулась к Хелене. — И вы тоже, друг мой. Возвращайтесь к мужу и детям. В такие времена нам всем следует находиться рядом с родными.
Это делало просьбу Фрэнсис еще более удивительной.
— Фрэнсис, ваша дочурка — моя крестница, если вы вдруг позабыли, — нуждается в вас. В эти неспокойные времена, когда мы стоим на пороге войны и хаоса, вы должны быть с ней.
Они удалились: Фрэнсис — с мрачным видом, Хелена — с любовью, на прощание поцеловав меня в щеку и сказав:
— Это ненадолго. Я скоро вернусь.
Дрейк, Хокинс и Фробишер находились в море вместе с доброй частью флота. У меня неожиданно возникли вопросы относительно кораблей, их размещения и прочих подробностей, которые известны были только морякам. Из всех моих отважных мореходов на суше оставался один только Уолтер Рэли. О, как он возражал против своего назначения — на него была возложена ответственность за сухопутную оборону Девона и Корнуолла. Сидеть дома, в то время как остальные отправились в плавание. Уступить свой боевой корабль, построенный специально для него, свой «Ковчег Рэли», адмиралу Говарду, который сделал из него флагман, переименовав просто в «Ковчег». Но он покорился необходимости и проделал отличную работу, не только укрепив Девон и Корнуолл, но и проведя инспекцию всех оборонительных сооружений вдоль побережья вплоть до самого Норфолка на севере. Он настаивал, что нам понадобится тяжелая артиллерия для защиты глубоководных гаваней Портленда и Уэймута, а также Плимута, самого близкого к Испании порта. Крайне важно, утверждал он, помешать армаде занять какую-нибудь защищенную глубоководную бухту, где испанские корабли могли бы встать на якорь.
Каким-то образом Рэли удалось набрать внушительное число горожан в сухопутное ополчение. Однако вооружены они были чем придется — секачами, алебардами, луками, пиками и копьями — и соперничать с профессиональными солдатами в латах и с мушкетами не могли. Наше сухопутное ополчение было жалким. Спасти нас могли только моряки.
Уолтер явился, облаченный в лучший свой наряд. Лицо его светилось надеждой, которая, впрочем, быстро угасла. Изменить свое решение и отправить его в море я была не намерена.
— Ваше величество, — произнес он, тщетно стараясь скрыть разочарование. — Я здесь, чтобы служить вам любым способом, какой вы в своей мудрости сочтете наиболее подходящим.
— Благодарю вас, мой дорогой Уолтер, — сказала я. — Я на это рассчитываю.
Его общество неизменно доставляло мне удовольствие. Его комплименты были не настолько замысловатыми, чтобы я не могла им поверить. Он был предупредителен, но не раболепствовал, приятен в общении, но не пытался заискивать и всегда был не прочь посплетничать. Кроме того, он был хорош собой и мужчина до мозга костей. Вот почему я назначила его капитаном Королевской гвардии, роты из двух сотен рослых красавцев в красных с золотом мундирах. В их обязанности входило защищать меня и находиться при моей особе. Эту обязанность я, безусловно, поощряла.
— Доклады, которые я получила относительно ваших усилий по приведению в порядок оборонительных сооружений на побережье, превозносят вашу работу. Жаль только, что они изначально пребывали в столь плачевном состоянии, — сказала я.
— Вторжения на наш остров такая редкость, что в этом нет ничего удивительного. Со времен вашего отца угроза высадки стала маловероятной, — заверил он меня.
— И тем не менее история знает примеры успешных вторжений. Это много кому удавалось. К примеру, римлянам. Викингам. Норманнам. Исключать такую возможность точно нельзя.
— В те времена у нас не было флота, который мог бы всем им противостоять, — возразил он.
— Да, флот. Ради этого я за вами и послала. Нам уже известно точное число кораблей армады?
— Точное — нет, но мы полагаем, что их приблизительно сто тридцать. Не все из них военные, многие провиантские или разведывательные. Специально построенных боевых кораблей у них всего ничего, да еще те двенадцать, что они захватили у португальцев, значительно превосходящих их в искусстве мореплавания. Кроме того, у них имеется четыре галеаса из Неаполя. Но насколько гребная канонерка может быть эффективна за пределами Средиземного моря, мы пока судить не можем.
— Теоретически мы сильнее, — попыталась я подбодрить себя. — С тех пор как Хокинс взял на себя управление финансами флота и переработал конструкцию наших кораблей, мы стали самым современным флотом в мире. Сейчас почти из двух сотен кораблей, находящихся в нашем распоряжении, тридцать четыре — галеоны новой конструкции. Но решение заменить солдат пушками...
Я покачала головой. Такого никто никогда еще не делал. А вдруг у нас ничего не выйдет? Использовать сами корабли как орудия, а не как средство доставки солдат на поле боя казалось рискованным, и тем не менее ничего иного нам не оставалось. После того как по замыслу Хокинса палубы юта заменили батарейными палубами, возврата не было.
— Это не ошибка, ваше величество, — точно прочитав мои мысли, сказал Рэли. — Наши корабли куда быстроходнее и маневреннее. Мы можем идти круче к ветру и быстрее разворачиваться. У нас есть специально обученные канониры и вдвое больше дальнобойных пушек на каждом корабле, чем у армады. Наши пушки вчетверо превосходят их пушки в скорострельности и меткости. Ветреная погода будет на руку нам, тихая — на руку им. Но в Ла-Манше никогда не бывает тихо. Всё на нашей стороне.
Я улыбнулась ему. Не улыбнуться было сложно.
— Ну, примерно так же рассуждал фараон, снаряжая погоню за Моисеем в Красное море. Господь любит сокрушать обуянные гордыней народы.
— Тогда он должен сокрушить их. Ваше величество, если верить тому, что я слышал, их корабли и офицеры разряжены в пух и прах. Дворяне облачены в соответствии с рангом в раззолоченные латы, драгоценности, золотые знаки отличия и бархатные плащи. На мушкетерах шляпы c перьями — в бою, надо полагать, тоже — и богато изукрашенные пороховницы. Корабли расцвечены красным и золотым, а на каждой мачте и на каждой рее полощутся флаги. Выглядит это все, должно быть, как большая стирка в деревенском доме.
Я против воли рассмеялась:
— Тогда уж скорее как в соборе — при таком-то обилии знамен всевозможных святых, ран Христовых и Девы Марии.
Он внезапно опустился на колени и взял меня за руки:
— Клянусь жизнью, мы готовы. Ничего не бойтесь.
Я подняла его и посмотрела прямо в глаза:
— Я никогда никого не боялась, будь то мужчина, женщина или иноземный неприятель. Моему сердцу неведом страх. Я королева отважного народа. Разве пристало мне быть менее отважной, чем мои подданные?
Он улыбнулся:
— Вы должны быть — и вы есть — отважней всех.
Июнь сменился июлем, и разведка донесла, что армада — такая огромная, что мимо любой точки на берегу проходила целый день, — хоть и вышла из Лиссабона в первую неделю мая, попала на пути в жестокий шторм и, донельзя потрепанная, вынуждена была укрыться в Ла-Корунье, порту на северном побережье Испании. Дрейк со своей флотилией в сотню вооруженных кораблей намеревался напасть на них, пока испанцы, стоя на приколе, будут зализывать раны. Но когда до Ла-Коруньи оставалось всего шестьдесят миль, погода обратилась против них, и ветер, прежде благоприятствовавший, предательски подул в северо-западном направлении, в сторону Англии, что позволило армаде продолжить смертоносное плавание. Боясь, что испанцы проскользнут мимо незамеченными и доберутся до английских берегов прежде них, Дрейк вынужден был развернуть корабли и отправиться домой. Как оказалось, армада вышла из Ла-Коруньи ровно в тот же день, так что Дрейк успел добраться до Плимута точно вовремя. Ветер, так жестоко потрепавший испанцев, не причинил нашим кораблям почти никакого вреда, что я сочла добрым знаком.
Я сложила и убрала прочь все свои наряды, приказала запереть драгоценности в надежно охраняемом Тауэре, а сама перебралась в Ричмонд, выше по течению Темзы. И стала ждать.
Из окон дворца открывался вид на реку; зыбь на воде выдавала отлив. Растущая луна играла на поверхности, вспыхивая яркими пятнами, которые дробились и вновь сливались друг с другом на волнах. На другом берегу серебрились облитые лунным светом камыши и плакучие ивы, меж которых белели силуэты отдыхающих лебедей. Ночь для любовников.
И тут сквозь лунное серебро пробился рыжий сполох. Огонек маяка, мерцающий за много миль отсюда. За ним другой. Армаду засекли. Был объявлен сбор местного ополчения.
— Свет! Свет! — потребовала я свечей.
Спать сегодня никому не придется. Поднялась суматоха: во дворец начали прибывать гонцы, потом одного из них провели ко мне. Дрожа, он бухнулся на колени.
— Ну? — Я жестом велела ему подняться. — Расскажи мне все.
Это был совсем юный парнишка, лет от силы пятнадцати.
— Я смотрю за маяком на холме Апшоу. Я засветил его, когда увидел, что загорелся огонь на соседнем, что на Эдкок-Ридже. С тех пор как зажегся самый первый, на западе, должно было пройти день-полтора.
— Ясно. — Я велела одному из гвардейцев заплатить парнишке. — Ты все сделал правильно.
Однако правда заключалась в том, что я сама только что увидела маяк и больше не знала ровным счетом ничего. Правда откроется, лишь когда прибудут осведомленные свидетели.
— Готовьтесь, — велела я моим гвардейцам.
Рэли, их командир, находился сейчас в западных графствах. Он должен был видеть армаду. Как далеко вдоль побережья она продвинулась?
Миновало полных три дня, прежде чем до Лондона дошли подробности. Первым армаду засек 29 июля капитан галеона «Золотая лань», охранявшего вход в Ла-Манш. Он заметил примерно пятьдесят испанских парусов неподалеку от островов Силли и направился прямиком в Плимут, за сотню миль, чтобы предупредить Дрейка.
На следующий день, 30 июля, армада вошла в пролив.
Сегодня было 1 августа.
— Расскажите мне в точности, что произошло, — велела я гонцу.
Голос мой звучал хладнокровно, хотя сердце готово было выскочить из груди.
— Я не знаю. Думаю, испанцы застали нашу западную эскадру в Плимутской гавани, запертую неблагоприятным ветром. Если они ее заметили, она стала для них легкой добычей.
— И что дальше?
— Я уехал до того, как нам стало известно, что произошло.
У меня защемило сердце. Новости приносили больше вопросов, чем ответов. Неужели наш флот из-за ветра оказался в ловушке и был уничтожен испанцами? Неужели вся Англия, совершенно беззащитная, теперь перед ними как на ладони?
Никто ничего не знал. Мы ждали в Ричмонде, а дни между тем текли один за другим — второе августа, третье, четвертое. Мои гвардейцы безотлучно находились при мне, а все входы во дворец были забаррикадированы. Мы не разбирали наши сундуки и почти не спали.
Мы боялись худшего: что испанцы в этот самый миг идут маршем на Лондон.
— Но, — твердила я Марджори, — мы можем утешать себя тем, что всю Англию они все равно не завоюют, пусть даже возьмут в плен нас и захватят Лондон. Южные графства и Лондон — это еще не все королевство. В Уэльсе и на севере края суровые, а люди еще суровей. А на востоке сплошные топи и болота. Раз уж испанцам за тридцать лет не удалось покорить нидерландцев, нас им не укротить никогда. Если я и все мое правительство исчезнем, появятся новые предводители.
— Наш народ рождает отчаянных борцов, — отвечала она. — Если испанцы захватят нашу землю, мы превратим их жизнь в ад.
— А если они попытаются расквартировать здесь столько солдат, сколько понадобилось бы, чтобы укротить нас, им придется оголить Нидерланды, и тогда они их потеряют, — заметила Кэтрин.
Я посмотрела на моих фрейлин. Их спокойствие не было напускным. А ведь у обеих мужья сражались с захватчиками, и от них не приходило никаких вестей.
— Ох, дамы, — сказала я. — Мы все — один народ, и у нас одна судьба.
Но что же все-таки происходит?
Уже поздно ночью в Ричмонд приехал лорд Хансдон. Я приветствовала его со смесью страха — перед теми новостями, которые он принес, — и облегчения, что томительная неизвестность наконец закончится, пусть даже мне предстоит узнать самое худшее.
Хотя ему шел уже седьмой десяток, он по-прежнему выглядел грозным воителем. Я попросила его подняться. Он выпрямился во весь свой внушительный рост и произнес:
— Ваше величество, я здесь затем, чтобы препроводить вас в безопасное место. Вы должны покинуть Лондон.
— Зачем? — спросила я. — Я не сдвинусь с места, пока не узнаю, что происходит!
Кэтрин, не в силах совладать с собой, бросилась к отцу и обняла его, шепча:
— Ох, слава Господу, вы не ранены!
Он похлопал ее по плечу, но произнес поверх ее головы, обращаясь ко мне:
— Даже мои новости уже устарели, хотя мне доложили их без промедления. Но вот что я знаю. Армада достигла пролива Те-Солент и острова Уайт. Произошло уже два боя, первый близ Плимута — где нам удалось вырваться из гавани, не дав им нас запереть, и выйти им на ветер, — а второй при Портленд-Билле. Ни один не закончился решительной победой. Но Дрейк захватил «Нуэстра Сеньора дель Росарио», нагруженный сокровищами. Команда не оказала никакого сопротивления. Когда испанский капитан услышал, кто ему противостоит, он немедля сдался, сказав: «Отвага и удача Дрейка так велики, что, похоже, ему содействуют сами Марс и Нептун».
Дрейк. И в самом деле казалось, что он непобедим — по крайней мере, на море.
— А дальше что? — спросила я.
Хансдон запустил пальцы в свою густую гриву:
— Армада продолжила плавание, а англичане продолжили преследование. Пока что неприятелю не удалось высадиться на сушу, но на острове Уайт будут для этого все условия.
— Мы укрепили его, — сказала я. — Вдоль берега выкопан огромный защитный ров, а губернатор Джордж Кэрью собрал три тысячи человек на защиту. Еще девять тысяч ополченцев охраняют Саутгемптон.
— Наш флот сделает все, что будет в его силах, чтобы не дать им войти в Те-Солент и получить, таким образом, доступ к острову Уайт. Но удастся ли нам помешать испанцам воспользоваться приливным течением, будет зависеть от погоды.
— И все это происходит... прямо сейчас?
— Я полагаю, что на рассвете. Вот почему нужно, чтобы вы отправились со мной и моими солдатами туда, где враги не смогут вас найти.
— Вы что хотите сказать? Вы уверены, что испанцы высадятся на сушу, а мы ничем не сможем им помешать?
— Я всего лишь хочу сказать, что, если они высадятся на сушу, дорога на Лондон им будет открыта.
— Но они пока никуда не высадились.
— Бога ради, мадам, к тому времени, когда мы узнаем, что они высадились, вы выглянете в окно и увидите испанские шлемы! Умоляю вас, позаботьтесь о себе. Если вас так мало заботит ваша собственная участь, подумайте хотя бы о тех солдатах и моряках, которые рискуют своими жизнями, чтобы спасти вашу!
Как он посмел бросить мне в лицо подобное обвинение?
— Судьба Англии заботит меня куда более моей собственной жизни, — парировала я. — Я настаиваю на этом, если это придаст людям мужества сопротивляться.
Я не могла позволить, чтобы меня отодвинули на второй план, сделали бесполезной зрительницей.
— Я желаю видеть, как будет разворачиваться битва, своими глазами, — потребовала я. — Я хочу отправиться на южное побережье, где смогу следить за происходящим, а не трястись от страха в убежище где-нибудь в центральных графствах.
Да, я поеду и буду наблюдать за всем своими глазами. Это ожидание, эти новости из вторых и третьих рук — все это было невыносимо.
— Это не храбрость, а безрассудство.
— Я могу быть там через день.
— Нет, нет! Совет никогда не даст разрешение. — На лице его отразилось страдание. — Вы не можете, вы не должны рисковать вашей особой. Какой подарок для испанцев! Если они убьют вас, то могут выставить вашу голову на потеху всему войску. А если схватят, то отправят в Ватикан в оковах. Как это поможет вашим подданным?
— Четвертование Уильяма Уоллеса отнюдь не повредило его наследию в Шотландии. Даже напротив. — Я вздохнула. — Сегодня по темноте я все равно никуда не поеду. Отправляйтесь обратно к вашим войскам в Виндзор — без меня.
Он не мог ни приказать мне, ни заставить. Ни один человек не имел права мной помыкать. Раздосадованный, Хансдон сжал губы в тонкую ниточку и поклонился.
— Дорогой кузен, я всецело вам доверяю, — сказала я. — Несите вашу службу в Виндзоре. И пришла пора армии графа Лестера собраться в Тилбери. Я отдам распоряжения.
7
Как только он ушел, Кэтрин разве что руки не начала ломать.
— Если он так мрачен, значит положение дел хуже, чем он сказал! Отец не любит лишний раз никого волновать.
— Я это знаю, — заверила я. — Я все поняла, когда он, вопреки своему обыкновению, не стал браниться и сквернословить.
Хансдон любил вставлять в речь крепкие солдатские словечки, и его нимало не заботило, что об этом думают окружающие. Однако сегодня он был слишком потрясен, чтобы разговаривать в своей обычной грубоватой манере.
— Кто может знать, что происходит на самом деле? Вот в чем беда.
Тридцать лет я была королевой и теперь, в этот час наивысших испытаний, блуждала в потемках и не могла повести за собой свой народ. Я выглянула в окно. Маяки больше не горели. Они сделали свое дело.
На следующее утро нас приветствовало необычное зрелище: сэр Фрэнсис Уолсингем в латах. Он неуклюжей походкой явился в мои покои, лязгая железом. Шлем он нес под мышкой.
— Ваше величество, вы должны перебраться в Лондон, в Сент-Джеймсский дворец, — объявил он. — Там защитить вас будет проще, чем здесь, в Ричмонде. Хансдон передал нам, что вы отказываетесь скрываться в деревне. Но в Сент-Джеймс вам перебраться необходимо. Хансдон с его армией в тридцать тысяч человек сможет оборонить город.
— Мой мавр, почему вы в таком виде? — спросила я.
— Я готовлюсь к битве, — отвечал он.
Я с трудом удержалась от смеха:
— Вам когда-нибудь доводилось сражаться в латах?
— Нет. Но нам не доводилось делать очень многое из того, к чему необходимо подготовиться сейчас, — сказал он.
Я была глубоко тронута тем, что он пошел на это — он, человек, чьим оружием в силу рода его деятельности всегда был разум, а не железо. Следом за ним в покои вошли Бёрли и его сын Роберт Сесил.
— Ну, мои добрые Сесилы, а ваши латы где? — осведомилась я.
— Ну, какие мне с моей подагрой латы, — ответил Бёрли.
— И мне с моей спиной, — смущенно произнес Роберт Сесил.
Разумеется. Как же я сама не подумала? У Сесила-младшего был искривлен позвоночник, хотя, вопреки утверждениям его политических противников, горбуном он не был. Злые языки утверждали, что в младенчестве он упал и ударился головой, но это была явная ложь, ибо голова его не только выглядела совершенно невредимой, но еще и служила вместилищем блестящего ума.
Внезапно у меня возникла одна идея.
— А можно быстро сделать для меня кирасу и шлем?
— Но с какой це... думаю, да, — сказал Роберт Сесил. — Гринвичская оружейная мануфактура способна работать очень быстро.
— Отлично. Я хочу, чтобы к завтрашнему вечеру они были готовы. И еще меч подходящей для меня длины.
— Что вы задумали? — встревожился Бёрли.
— Я собираюсь отправиться на южное побережье, возглавить тамошних новобранцев и своими глазами посмотреть, что происходит на море.
— Хансдон же объяснил вам, почему это невозможно, — вздохнул Уолсингем.
— Я настаиваю на том, чтобы выступить вместе со своими войсками. Если не с новобранцами на юге, то в Тилбери, когда соберется главная армия.
— А пока, мадам, вам необходимо перебраться в Сент-Джеймсский дворец, — сказал Бёрли. — Пожалуйста!
— Я привел для вас белую лошадь, — подал голос Роберт Сесил.
— Это взятка? — рассмеялась я (странно, что меня вообще что-то еще могло рассмешить). — Против белой лошади я устоять не могу, вы же знаете. Ладно. Она готова?
— Готова. И у нее новые изукрашенные серебром упряжь и седло.
— Как те, что герцог Пармский приказал изготовить для его торжественного въезда в Лондон?
Об этом факте донесли Уолсингему его осведомители.
— Лучше, — заверил меня Сесил.
Мы переправились через реку на лодках, после чего предстояло преодолеть еще десять миль до Лондона верхом. Вдоль дорог выстроились толпы растерянных и напуганных людей. Я сидела в седле так спокойно, как только могла, махала им рукой и улыбалась, чтобы подбодрить. Ах, если бы я еще могла подбодрить себя саму! Кроме толпящихся людей, ничего необычного видно не было. Небо затянули тучи, и для середины июля было холодно. Когда мы подъехали к Лондону, я не заметила нигде дыма и не услышала звуков канонады.
Сент-Джеймсский дворец представлял собой краснокирпичное здание, которое мой отец использовал как охотничий домик. Со всех сторон окруженный заросшим парком, он отстоял довольно далеко от реки, поэтому тут было безопаснее, чем в Уайтхолле, Гринвиче или Ричмонде. Однако, когда мы подъехали ближе, я увидела, что лужайки, где раньше гуляли фазаны, олени и лисы, превратились в армейские биваки. На траве разбили палатки, и между ними маршировали колонны солдат.
Хансдон встречал нас у ворот. На лице его отразилось облегчение. Он рассчитывал на мое благоразумие.
— Слава Господу, вы добрались благополучно.
Я спешилась и похлопала лошадь по шее.
— Юный Сесил знает, как меня умаслить, — сказала я. — Когда имеешь дело с королевой, подарок лучше, чем запугивание.
Всю вторую половину дня я наблюдала за марширующими новобранцами и писала моим командующим письма, в которых объясняла, что хочу находиться в войсках, сражающихся с герцогом Пармским, а не отсиживаться где-нибудь в деревне. Хансдон даже слышать об этом не желал, но, возможно, мне удалось бы убедить командующих основной армией, Лестера и Норриса. Тем временем прибыл Уолтер Рэли.
Никогда и никому я еще так не радовалась.
— Рассказывайте, рассказывайте, — потребовала я, не успел он еще переступить через порог.
Его элегантный дорожный костюм был весь в пыли, сапоги облеплены грязью. Даже его борода была припорошена пылью. Лицо его казалось непроницаемым, но впечатления человека в отчаянии оно не производило.
— В западных графствах все спокойно, — сообщил он. — Мы не дали испанцам высадиться на острове Уайт. Наш флот разделился на четыре эскадры, которые возглавили Фробишер на «Триумфе», Дрейк на «Отмщении», Говард на «Ковчеге» и Хокинс на «Виктории», и вынудил армаду пройти мимо, тесня ее к отмелям и банкам, которых испанцам удалось миновать лишь чудом. Теперь они направляются к Кале.
— Благодарение Господу!
Я готова была упасть на колени, вознося хвалы Всевышнему. Бог замечал такую благодарность. Но я взяла себя в руки и спросила:
— Но когда они доберутся до Кале?..
— Предположительно, там или же близ Дюнкерка, или у побережья Фландрии они попытаются скоординировать свои действия с действиями Пармы. Но знает ли он о местонахождении армады и готов ли погрузить свои войска на корабли немедленно? Подобные вещи требуют нескольких недель подготовки.
— Парма славится своей подготовкой, — напомнила я.
— Да, но когда знает все факты, — возразил Рэли. — В курсе ли он?
— Если Бог на нашей стороне, то нет, — сказала я.
— Ополчение западных графств движется на восток, чтобы помочь другим графствам, — сообщил Рэли.
— Кажется, ваша задача выполнена, и выполнена прекрасно, — заметила я. — Теперь вы вольны поступить так, как хотели с самого начала, — присоединиться к флоту. Если, конечно, сможете их перехватить.
— Я перехвачу их, даже если ради этого мне придется прозакладывать душу дьяволу, — ухмыльнулся он.
— Осторожнее со словами, Уолтер, — предостерегла я. — Не забывайте старую поговорку: связался с дьяволом, пеняй на себя.
— Я помню, — поклонился Рэли.
Вечером доставили кирасу, шлем и меч. Мне показалось, железо еще хранило жар горнила. Я погладила изящные доспехи, потом осторожно примерила их. Если что-то не подошло бы, сделать с этим ничего было бы уже нельзя. Но все подошло. Доспехи сидели идеально.
— Вы похожи на амазонку, — восхитилась вслух Марджори.
— Так и было задумано, — отозвалась я.
В латах я немедленно почувствовала себя по-другому — не отважнее, но более неуязвимой.
Наутро пришел ответ от Лестера из Тилбери. Этот форт располагался милях в двадцати ниже по течению Темзы, и корабли герцога Пармского не могли не миновать его на пути к Лондону. Сосредоточив там основные силы, мы намеревались блокировать испанцам подступы к Лондону, а для надежности перегородили реку лодками.
Вскрывая письмо, я рванула бумагу с такой силой, что печать отлетела прочь.
Моя дражайшая и милостивейшая госпожа, я был несказанно обрадован, обнаружив в Вашем послании изъявленное Вами в высшей степени благородное намерение собрать Ваши войска и самолично принять участие в рискованном предприятии.
Вот! Он понимал меня куда лучше, чем старый Хансдон!
И коль скоро Вашему Величеству угодно было испросить моего совета касательно Вашей армии и сообщить мне о Вашем секретном намерении, я без утайки выскажу Вам свое мнение по разумению моему.
Да, да!
Касательно Вашего предложения присоединиться к войскам, стянутым к Дувру, я, дражайшая моя королева, никак не могу дать на то своего согласия. Однако же вместо этого я прошу Вас прибыть в Тилбери, дабы присутствием своим вселить мужество в сердца Ваших солдат, самых добрых, верных и способных, каких только может пожелать себе любой командующий. Я самолично гарантирую безопасность и неприкосновенность Вашей бесценной особы, превыше которой для всех нас нет и не может быть ничего в этом мире и о которой ни один человек не может даже и помыслить без священного трепета.
Ох. Но он так сформулировал... Быть может, мне и впрямь лучше предстать перед основной армией. Своим присутствием мне следует укреплять дух других, а не тешить собственное любопытство, наблюдая за битвой.
Тайные советники пришли в ужас. Бёрли только что не топотал своими подагрическими ногами, Сесил цокал языком и поглаживал бороду, Уолсингем закатывал глаза. Остальные — архиепископ Уитгифт и Фрэнсис Ноллис — неодобрительно перешептывались и качали головой.
— Это безрассудная и опасная затея, которую вы зачем-то вбили себе в голову, — сказал Бёрли. — И как только милорд Лестер ей споспешествует?!
— Вторжение может начаться со дня на день! — подхватил Уолсингем. — И хуже того, вам опасно находиться среди людей. Разве вы забыли, что в папской булле сказано: тот, кто убьет вас, совершит богоугодное дело? Откуда нам знать, кто может скрываться в войсках? Одного отщепенца будет достаточно!
— Я же не римский император, чтобы опасаться смерти от рук собственных подданных, — сказала я. — Католики до сих пор были мне верны. Я не собираюсь лишать их своего доверия теперь.
— Даже добрым императорам и королям случалось пасть от руки убийцы, — возразил Уолсингем.
— Господь хранил меня до сих пор, и все дальнейшее тоже в руце Его. — Я обернулась к собранию. — Господа, я еду. Я отдаю должное вашему беспокойству обо мне, но я должна поехать. Я не могу оставаться в стороне в миг величайших испытаний для моего королевства. Я должна быть с моими подданными.
Я написала Лестеру, что принимаю его приглашение, и он ответил: «Быть посему, любезная королева, не меняйте своего намерения, если только Господь дарует Вам доброе здравие». Менять свое намерение я вовсе не собиралась.
В ту ночь я приказала принести мне испанский кнут, давным-давно убранный подальше. Я воспользуюсь им теперь, и сыромятная кожа в ладони укрепит мою решимость. Мы не можем проиграть!
На рассвете я ступила c маленькой пристани Уайтхолла на борт королевской барки, чтобы плыть в Тилбери. Сегодня мне беспрестанно казалось, что все эти красные драпировки, бархатные подушки и раззолоченное убранство каюты насмехаются надо мной. Меня окружали атрибуты королевского величия, но я плыла защищать свою страну. Мы оставили позади портовые районы Лондона, затем Гринвич и направились дальше к морю, и все это время я благословляла эти места и людей, что тут жили, хотя и не могла их видеть.
Впереди в лодке плыли трубачи, громким пением горнов сзывая любопытных на берега реки. Завершали процессию барки с моими телохранителями и Королевской гвардией, облаченной в латы и шляпы с перьями, а также с советниками и придворными.
К полудню мы причалили к блокгаузу форта. Вдоль берега навытяжку выстроились солдаты, от их шлемов отражалось солнце. Как только барка пришвартовалась к причалу, меня приветствовало пение горнов, и генерал сухопутной армии, мой граф Лестер, в сопровождении лорд-маршала Норриса по прозвищу Черный Джек торжественно двинулись мне навстречу.
При виде моего дорогого Роберта, который ждал меня, такой щеголеватый в своих латах, у меня перехватило дыхание. Он ждал меня, как ждал во все поворотные моменты моей жизни, он поддерживал меня, как поддерживал всегда.
— Ваше величество. — Он поклонился.
— Да здравствует королева! Добро пожаловать! — сказал Норрис, склоняя голову.
Я окинула взглядом впечатляющие ряды солдат, выстроившихся в колонны на склоне холма.
— У нас тут двадцать с лишним тысяч человек. — Лестер кивнул на солдат. — Я предлагаю вам сперва взглянуть на лагерь и запруду, которой мы перегородили реку. А после обеда вы сможете устроить смотр войскам и обратиться к ним с речью.
— С радостью так и поступлю, — сказала я.
Я кивнула на следующую за моей барку, на которой везли моего коня. Его как раз в эту самую минуту сводили по сходням на берег.
— Отличный мерин, — заметил Лестер, вскинув брови. — Новый?
Лестер гордился тем, что поставлял мне самых лучших и красивых лошадей.
— Подарок Роберта Сесила, — пояснила я.
— Отменный вкус, — произнес он, еле заметно покривившись. — А теперь, моя дражайшая королева, не соблаговолите ли вы пройти вместе со мной в лагерь?
Он указал на деревянные мостки. Я была уже в белом бархатном платье, в котором намеревалась показаться, и, прежде чем сесть в седло, собиралась надеть латы. Момент был столь судьбоносный, почти сакральный, что ни один обычный наряд не казался его достойным, но белый бархат, олицетворение девственности и королевского величия, был наиболее к этому близок.
Когда мы проходили, каждый солдат кланялся, а офицеры в знак почтения опускали пики и древки стягов. Я вглядывалась в их лица, широкие, загорелые и напуганные, и видела мужество, которое им понадобилось, чтобы оставить свои фермы, дома и встать в строй.
Мы поднялись на вершину холма, и перед нами раскинулся лагерь. Сотни палаток — одни искусной выделки, другие из грубой парусины — тянулись во все стороны стройными рядами. Офицеры размещались в просторных шатрах, тогда как для военных рангом пониже предназначались выкрашенные зеленой краской будочки. Над ними реяли яркие флаги и вымпелы. При виде нас трубачи и барабанщики заиграли приветственные мелодии, затем из пушек блокгауза дали салют.
— Взгляните на ваши легионы! — Лестер повел рукой. — Бравые англичане, готовые защищать нашу землю.
На один краткий ужасающий миг я почувствовала, что вот-вот расплачусь. Такие отважные и такие хрупкие, эти воины были самым драгоценным даром, который когда-либо преподносил мне мой народ.
— Да, — пробормотала я.
Я переходила от одной группки стоявших навытяжку солдат к другой, перекидываясь парой слов с одними, улыбаясь другим, и думала о том, как они похожи на высокую изгородь или аллею саженцев вдоль дороги.
— Благослови вас всех Господь! — крикнула я, и они в ответ все до единого упали на колени.
— Боже, храни королеву!
Проинспектировала я также и кавалерию, в которой насчитывалось две с лишним тысячи всадников. Один из эскадронов в рыже-коричневых мундирах возглавлял юный пасынок Лестера, Роберт Деверё, граф Эссекс. При виде меня он ухмыльнулся и помедлил на миг дольше, чем следовало, прежде чем склонить голову.
— Ваше величество, — сказал Лестер, — юный Эссекс за свой счет собрал и снарядил эскадрон в две сотни человек.
Он с гордостью кивнул на графа.
Я посмотрела на пышно разряженный эскадрон и мысленно прикинула стоимость всего этого великолепия. Юный Эссекс определенно не поскупился. Однако, вместо того чтобы поражать, эта роскошь вызывала недоумение своей чрезмерностью.
На обед мы удалились в шатер Лестера. Присоединиться к нам должны были лишь немногие избранные, поэтому стол был не слишком длинный. С моей стороны присутствовали только Марджори с Кэтрин да Уолсингем. С замысловатым поклоном усевшись, Лестер провозгласил:
— Ваше величество, мы ждем ваших приказаний!
— Приказаний не будет, будут похвалы, — сказала я.
— Французское вино. — Лестер поднял кубок. — Выпьем же за то, чтобы французы сохранили в этой войне нейтралитет.
Мы все пригубили свои кубки.
— Армада встала на якорь близ Кале, — доложил Уолсингем (на нем была нижняя часть доспеха, верхнюю же он для удобства снял). — Приблизительно милях в пятидесяти от Дюнкерка, где их ждет герцог Пармский. Или не ждет?
— Этого не знает никто, — признал Лестер. — Вполне возможно, он не в курсе даже, вышла ли армада из Лиссабона.
— Мои осведомители сообщают, что в гавани Кале кипит бурная деятельность, — сказал Уолсингем. — Шлюпки снуют туда-сюда между портом и армадой, которая не может встать там на якорь, не нарушая нейтралитета Франции. Но между ними слишком уж много сношений. Я думаю, что армаду ремонтируют и переоснащают при содействии французов.
Он с грохотом опустил кубок на стол, отодвинул его в сторону и добавил:
— Пожалуйста, принесите мне простого английского эля!
— Наша забота — не гадать, чем там заняты французы, а быть готовыми оборонять нашу землю от любого, кто на нее высадится, — подал голос сэр Генри Норрис, муж Марджори.
Широколицый, с пшеничными, хотя ему шел уже седьмой десяток, волосами, он благодаря своей внешности производил впечатление бесхитростного простака, каковым отнюдь не был.
— Отец, хорошую армию делают качественные выучка и вооружение, — сказал Черный Джек (прозвище это он получил за смуглость, унаследованную от матери). — Вы же знаете, кого набрали в местное ополчение.
— Мальчишек, забулдыг и древних старцев, — произнес крепкий темноглазый мужчина, сидевший слева от Лестера.
— «Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения» [3], — пробормотал Уолсингем.
— Оставьте вы в покое Библию! — рявкнул Черный Джек. — Испанцы плывут под штандартом, который благословил сам папа. Но это не поможет им победить, равно как нам не помогут победить цитаты из Священного Писания.
— Вы, сэр. — Я обернулась к мужчине, который упомянул про забулдыг. — Вы утверждаете, что местное ополчение и вооруженная милиция — сборище неумех?
Тот вздрогнул, когда понял, что я обращаюсь к нему, — будто привык, что его никогда не принимают всерьез.
— Я хотел лишь сказать, ваше величество, что у нас нет профессиональной армии, а есть только граждане, которых забрали из семей и кое-как наспех обучили. Никакого сравнения с немецкими, итальянскими и валлонскими наемниками герцога Пармского. Чем богаты, тем и рады. Я вовсе не имел в виду ничего неуважительного.
— Я же говорил вам, что мой конюший — подающий большие надежды молодой человек, — поспешно вставил Лестер. — Очень примечательный юноша. Могу я представить вам сэра Кристофера Блаунта?
Миловидный юноша. Томные глаза и красиво очерченные губы. Широкие плечи. Даже под одеждой видно, как бугрятся мышцы на руках.
— А вы, случайно, не родственники с Чарльзом Блаунтом? — спросила я, имея в виду одного из моих придворных фаворитов, который теперь командовал кораблем «Радуга» под началом сэра Генри Сеймура.
— Очень дальние, ваше величество.
— Значит, красота — это у вас семейное.
Другой на его месте покраснел и смутился бы, он же в ответ лишь спокойно посмотрел на меня. Очевидно, не позер и не дамский угодник.
Роберт Деверё, который все это время держался необыкновенно тихо, чертил на столе круги пролитым вином.
— Роберт...
Двое повернули ко мне голову: Роберт Дадли и Роберт Деверё.
— Красивое имя Роберт, — сказала я. — Но я звала младшего, кузена.
Мы с Робертом Деверё приходились друг другу родственниками: он был праправнуком Томаса Болейна, а я внучкой.
— Да, ваше величество?..
— Вы что-то совсем притихли.
— Прошу меня простить. Все это тяжким грузом лежит на моем сердце.
Ясный взгляд его широко раскрытых глаз был поистине ангельским. Да и сам он с его голубыми глазами и золотистыми кудрями выглядел точь-в-точь как сошедший с итальянских полотен ангел.
— Поистине, как и у всех нас. Давайте закончим трапезу и вернемся к нашим делам.
Мы принялись за еду, вполголоса переговариваясь с соседями по столу. Я спросила у Марджори, чем отличается военная философия ее мужа и сына.
— Подход Генри более тонкий, — отвечала та. — Он предпочитает выждать и посмотреть, что будет делать неприятель. Джек же за то, чтобы сначала нанести удар, а вопросы задавать потом.
— Примерно как Дрейк.
— Да, и...
Тут снаружи послышался шум, и в шатер впустили человека в латах. Стащив с головы шлем, Джордж Клиффорд, граф Камберленд, направился к нам и остановился передо мной. Соблюдя все необходимые формальности, он с поклоном произнес:
— До меня только что дошла весть, ваше величество. Две ночи назад флотилия сэра Генри Сеймура, стоящая в Дувре, присоединилась к флотилии адмирала Говарда в погоне за армадой. Наш объединенный флот неожиданно оказался в паре миль от нее, преспокойно стоявшей на якоре на рейде Кале, и адмирал Говард счел возможность нанести удар слишком заманчивой, чтобы удержаться, несмотря на опасность. Они снарядили брандеры, эти орудия ужаса, и запустили восемь адских факелов — кораблей, которые начинили пушечными ядрами и подожгли, — прямо в сердце армады. Там, где все наши пушки оказались бессильны, этот план сработал. Плотный оборонительный строй армады был нарушен. Испанцы в панике бросились рубить канаты, чтобы избежать столкновения с пылающими кораблями, и сорвавшиеся с якоря суденышки ветром и волнами разметало по всей округе. Теперь они отчаянно пытаются вновь собраться вместе у Гравелина. Наш флот намерен атаковать их, пока они не оправились от потрясения. По крайней мере, у нас появилась возможность разбить испанцев, вместо того чтобы просто потрепать их.
— Смерть Господня! — вскричала я. — Обрушьтесь на них всей мощью, разгромите их!
Но те, кто мог это осуществить, были далеко и не слышали меня.
Я же тем временем находилась здесь, в Тилбери, и могла обратиться напрямую лишь к сухопутным защитникам. Единственное средство, доступное мне, чтобы повлиять на исход этой войны.
Я поднялась. Лестер немедленно сделал знак нашим сотрапезникам.
— Ваше величество, — произнес он, — молю вас, дозвольте вашим верным солдатам и офицерам выказать вам свою преданность. Они желают приложиться к вашей прекрасной, могущественной руке.
Длинная колонна крепких молодых мужчин выступила вперед, и каждый по очереди поцеловал мою руку.
8
Я удалилась, чтобы одеться для приветственной церемонии. Кэтрин и Марджори собирали меня, точно служки, облачающие священника. Первой заботой были мои волосы. Я водрузила на голову свой лучший и самый высокий парик, в котором отлично держались жемчуга и бриллианты, символы девственности; и парик хорошо был виден издалека. Затем настал черед серебряной кирасы — ее аккуратно приладили поверх пышного лифа из белого бархата и, не затягивая, закрепили завязками, чтобы не болталась.
Фрейлины отступили назад.
— Мадам, вы не земная королева, а настоящая Афина Паллада.
Выражение их лиц сказало мне, что я полностью преобразилась из женщины, пусть даже и королевы, которой они прислуживали каждый день, в нечто высшее. Сегодня я превзошла себя. У меня не было иного выбора.
Выйдя из шатра, я села на великолепного белого скакуна. Лестер передал мне серебряный с золотом генеральский жезл и черный испанский кнут и, взявшись за уздечку, повел коня в поводу.
Эссекс шел рядом, за ним следовал Джек Норрис в сопровождении знаменосца с бархатным малиновым стягом с вышитым золотом гербом Англии. Впереди меня шествовали благородный дворянин с церемониальным мечом в руках и паж с моим серебряным шлемом на белой бархатной подушке. Свита была совсем крошечная: я не хотела потеряться в пышной процессии. Я хотела, чтобы все взгляды были устремлены на меня, а не на моих сопровождающих.
Весь лагерь собрался в ожидании. При виде меня толпа приветственно взревела, а салют, который дали из пушек, прозвучал как гром канонады. Когда я приблизилась к вершине холма, откуда собиралась произнести речь, облаченные в алое трубачи внезапно задули в горны, перекрывая человеческие голоса пронзительным и властным пением меди. В толпе собравшихся постепенно, распространившись от передних рядов к задним, воцарилась тишина.
На вершине холма я развернула коня к людскому морю, колыхавшемуся внизу, на сколько хватало глаз. Мой народ. Мои солдаты. Я молилась, чтобы ветер донес мою речь до каждого.
— Мой возлюбленный народ! — закричала я и подождала, пока слова не разнесутся во все стороны; толпа затихла. — Кое-кто, пекущийся о нашей безопасности, убеждал нас остеречься являть себя пред вооруженной толпой из страха предательства.
Да, Уолсингем и Бёрли дали благоразумный совет, но последовать ему в этой небывалой ситуации в конечном итоге было бы губительным. Пытаться спрятаться сейчас значило признать поражение.
— Но мы заявляем, что не желаем жить, не доверяя нашим добропорядочным и верным подданным. Пусть тираны боятся! Мы же неизменно вели себя так, что после Господа всегда полагали нашей главной силой и защитой преданность и благорасположение наших подданных.
Я сделала глубокий вдох, и слова неукротимым потоком хлынули наружу из самых глубин моего трепещущего сердца, перескакивая с монаршего «мы» на личное «я»:
— И потому я ныне тут, среди вас, как вы можете узреть сами, не увеселения для и не забавы ради, но преисполненная решимости в сей трудный час жить и умереть в бою вместе с вами. Отдать за Господа моего, за мое королевство и мой народ не только честь свою, но и всю кровь до последней капли.
Английские монархи и до меня участвовали в битвах — Ричард Львиное Сердце, Генрих V, мой родной дед Генрих VII сражались и рисковали своей жизнью. Я сделала еще один глубокий вдох, собираясь с силами:
— Да, телом я — слабая и немощная женщина, но у меня сердце и мужество короля, к тому же короля Англии, и душа моя полнится негодованием при одной мысли о том, что герцог Пармский или любой другой правитель Европы посмеет вторгнуться в пределы моего королевства.
Толпа разразилась громким криком, разнесшимся, точно раскат грома. Когда он наконец затих, я провозгласила:
— И более того, я заявляю, что сама буду сражаться с оружием в руках; я стану вашим генералом и вашим судией и вознагражу каждого за доблесть на поле боя!
На сей раз рев толпы был столь оглушительным, что последующие мои слова, сулящие им награды и призывающие во всем подчиняться Лестеру, моему генерал-лейтенанту, совершенно в нем утонули. Слышен оказался лишь самый конец фразы: «Мы скоро одержим славную победу над врагами моего Бога, моего королевства и моего народа». И тут толпа необъяснимым образом совершенно стихла.
В наступившей тишине, которая защитным коконом окружила меня, я с колотящимся сердцем поехала вниз по склону холма, и людское море передо мной вдруг расплылось.
Я не сняла латы даже после того, как солдат распустили по своим палаткам. В офицерском шатре меня с невнятными восклицаниями окружила группа взволнованных военачальников. Один за другим они опускались передо мной на колени, выражая свое почтение. Их обыкновенно зычные голоса были непривычно тихи, а у некоторых в глазах стояли слезы. Неужто никто так и не нарушит эти чары? Мне казалось, я не смогу вздохнуть как простая смертная до тех пор, пока кто-нибудь не сделает этого.
— Троекратное «ура» ее величеству, благородной правительнице лучше всякого короля! — наконец воскликнул Джек Норрис.
Остальные подхватили его слова — зазвенели бокалы, и мы вновь вернулись на землю.
Лестер стоял рядом и смотрел на меня с таким выражением, как будто впервые увидел.
— Я знаком с вами с самого детства, — произнес он вполголоса. — Но теперь я понимаю, что никогда не смогу узнать вас всецело. Того, что услышал сегодня, я никогда даже и вообразить себе не мог. — Он взял мою руку и, склонившись над ней, поцеловал. — Никто из свидетелей не забудет этого до самой смерти. И я прикажу записать ваши слова, чтобы все могли насладиться ими во всей их полноте.
— Сегодня и ваш день, друг мой, брат мой. Я безмерно благодарна вам за то, что разделили со мной этот наивысший миг.
Господь, не давший нам иной жизни вместе, кроме как на публике, увенчал ее сегодняшним мгновением торжества и позволил нам разделить его. Наши глаза встретились и сказали друг другу больше, чем любые жалкие слова. Этот неповторимый и незабываемый миг навеки скрепил нашу духовную связь длиною в жизнь.
Подали закуски и напитки, но у меня не было аппетита. Смогу ли я когда-нибудь вновь испытать голод? Что, если обожание и полное доверие моих подданных напитали и насытили все мои потребности? Все остальные, впрочем, набросились на мясо, хлеб и вино с жадностью.
Пока мужчины насыщались, меня отыскал граф Камберленд. При виде его все остальные сгрудились вокруг, чтобы услышать последние новости.
— Ваше величество, в разгар вашей речи я получил депешу. Армаде удалось перегруппироваться...
По шатру пронесся стон.
— ...но мужество их было поколеблено столкновением с брандерами накануне, и самое ожесточенное сражение этой войны и сейчас еще идет при Гравелине, близ берегов Фландрии. Если верить донесениям, преимущество на нашей стороне и мы тесним неприятеля. Беда в том, что у нас весьма скоро могут иссякнуть боеприпасы. Часть испанских кораблей уже вынесло из Ла-Манша в Северное море. Остальные все еще сражаются, но их понемногу сносит на отмели. Кажется, их звезда закатилась.
— Победу торжествовать еще рано? — спросил Генри Норрис.
— Да. Они могут перестроиться и вернуться. Все зависит от ветра. Если он так и будет дуть на север, у них ничего не получится.
— А что Пармский?
Камберленд покачал головой:
— Мне сказали, что, даже если армада и прошла мимо него, он намерен, пользуясь приливом, переправить свои войска на баржах в Англию. Во время отлива выйти из эстуария у него не получится, но прилив поможет ему.
Уолсингем навис надо мной.
— Вы должны незамедлительно вернуться в Лондон, — потребовал он. — Вам нельзя тут находиться, когда он высадится на берег со своими пятьюдесятью тысячами человек!
Он что, так ничего и не понял? Я пригвоздила его к месту пронзительным взглядом:
— Мой дорогой секретарь, как я могу уехать? Не я ли менее двух часов тому назад пообещала отдать всю кровь до последней капли? Не я ли уверяла, что обладаю отвагой и решимостью короля Англии? Чего будут стоить мои слова, если я при малейшем намеке на опасность дам дёру? Сердце мое полнится негодованием на вас, сэр!
Я была совершенно серьезна. Лучше умереть здесь, защищая свою землю, чем спасаться бегством, чем предать свои же собственные слова, едва успев их произнести! Мир уважал мужество троянцев, спартанцев при Фермопилах, иудеев при Масаде, Клеопатры, бросившей вызов римлянам. А трусов не уважал.
Землистое лицо Уолсингема потемнело еще сильнее, и, что-то пробормотав себе под нос, он вновь принялся за еду.
— В этом мы с вами, — заявил Лестер, и присоединившийся к нему Эссекс горячо его поддержал.
— Мы тоже, — подхватили Норрисы, отец и сын.
— И мы, — хором сказали Марджори с Кэтрин. — Мы, женщины, не дадим повода упрекнуть нас в трусости!
9
Мы наблюдали. Мы ждали. По всей Европе ходили тысячи самых разнообразных слухов. Армада победила. Герцог Пармский высадился. Дрейк погиб — или был взят в плен, или ему оторвало ноги. Хокинс и «Виктория» ушли на дно. По Англии тоже ходили слухи. Высокий прилив полнолуния наступил и благополучно миновал, но герцог Пармский у английских берегов так и не появился.
Никто не знал, что случилось с армадой. Адмирал Говард и английский флот преследовали ее до самого залива Фёрт-оф-Форт, омывающего берега Шотландии в окрестностях Эдинбурга. Когда она там не остановилась, наши корабли повернули вспять. Они прекрасно знали, какая судьба ожидает армаду, если та попытается обогнуть северную оконечность Шотландии и направится обратно в Испанию вдоль берегов Ирландии: бурные волны и острые скалы негостеприимного моря неминуемо уничтожат ее. Они уничтожали даже те корабли, капитаны которых знали эти воды как свои пять пальцев, а испанцы их не знали.
Именно так и произошло. Пока испанцы служили в своих соборах благодарные мессы в честь славной победы армады, ее галеоны один за другим разбивались о скалистые берега Западной Ирландии. Почти три десятка кораблей нашли там свой конец, а немногочисленные испанцы, которым удалось добраться до берега, были убиты местными ирландскими или английскими агентами. В общей сложности в Испанию не вернулось около семидесяти кораблей, а те, что вернулись, были в столь плачевном состоянии, что никуда больше не годились. Мы же не потеряли ни одного корабля.
Лишь к сентябрю первые вести достигли короля Филиппа, тот был озадачен.
— Надеюсь, Господь не попустил такого зла, ибо все это сделано во славу Его, — только и сказал он.
Но Господь был на стороне Англии, ибо нам благоприятствовал даже ветер.
Мы устроили пышные празднества. Колокола не умолкали много дней. Были сложены баллады и отчеканены памятные медали. Во всех церквях страны шли благодарственные службы.
Улицы Лиссабона бурно радовались поражению испанцев. На каждом углу распевали примерно такие песенки:
Домой возвратились лишь те корабли,
Что в пути англичан миновали.
Ну а что же другие — достигли земли?
Нет, в пучине бесследно пропали.
В Лондоне знают их имена,
Мы врагу отплатили сполна!
О, мы их знали. Как знали наперечет названия всех наших кораблей и имена всех наших героев. В их числе был даже капитан восьмидесяти девяти лет, который так искусно управлял своим кораблем в эскадре Говарда, что адмирал лично произвел старика за отвагу в рыцари прямо на палубе судна. Вот из какого теста сделаны наши ребята.
В первый месяц я была на седьмом небе от счастья. Необыкновенное время, нечто поистине поразительное. Казалось, я только что родилась и теперь училась видеть, слышать, чувствовать вкусы и запахи, испытывать эмоции. Все мои чувства были обострены едва ли не до болезненности. Далеко на севере, в Норвегии и Швеции, есть края, где летом солнце не заходит никогда. Говорят, что в эти несколько недель люди не испытывают потребности во сне и пребывают в состоянии крайнего воодушевления. Вот такими и были для меня недели после того, как угроза вторжения армады миновала.
Мы готовились служить всеобщий благодарственный молебен в соборе Святого Павла. Предстояло освятить знамена, захваченные Дрейком на «Нуэстра Сеньора дель Росарио», флагманском корабле армады, в зеркальном отражении службы, на которой папа благословил его знамя перед отплытием. Интересно, уцелел ли галеон, и если да, где испанцы намеревались скрывать его от позора?
Папа же, между тем верный своей жизнерадостной плебейской натуре, похоже, был вполне доволен исходом, словно никогда против него и не возражал. В Риме он объявил: «Елизавета, без сомнения, великая королева, и, будь она католичкой, мы звали бы ее нашей горячо любимой дочерью. Взглянете, как умело она правит! Она всего лишь женщина, хозяйка половины острова, и тем не менее она наводит страх на Испанию, Францию, Священную Римскую империю — на всех!» Когда же его собственный секретарь укорил понтифика за славословия, тот воскликнул: «Как жаль, что я не волен на ней жениться. Что за женой она была бы! Какие у нас были бы дети! Они бы правили миром».
— Ваше святейшество, — возразил секретарь, — вы говорите о величайшей врагине Святой Церкви!
— Мм... — А потом у него вырвалось: — Дрейк до чего же великий капитан!
Я подозревала, что так один пират искренне восхитился другим.
Когда Роберт Дадли поведал мне эту историю, мы с ним от души посмеялись.
— Кажется, он позабыл свои принципы, если они у него когда-то были, — заметил Дадли. — Он наверняка обрадовался, что ему не пришлось держать слово и выплачивать Филиппу миллион дукатов. А вы, надо полагать, не горите желанием стать мистрис Сикст?
— Ну... вы же знаете, я всегда питала слабость к авантюристам, — отвечала я шутливым тоном, потом лицо мое посерьезнело: кое-что следовало произнести вслух. — Роберт, вопрос брака... всегда висел между нами. Ответы на все главные вопросы были даны, и мы научились с ними жить. — Я взглянула прямо ему в глаза и добавила: — Теперь ничто не сможет нас разлучить.
Наша связь пережила и призрак его первой жены Эми, и незримое земное присутствие второй его жены Летиции, и мою священную девственность.
— Ничто. — Он взял меня за руку.
Я обхватила его руку ладонями.
— Друг мой, брат мой, сердце моего сердца, — вырвалось у меня.
В кабинете за стеной послышались чьи-то шаги, и мы как по команде опустили руки. В покои, хромая, вошел Бёрли.
— Он передал вам слова Сикста?
Дадли кивнул.
— Мы славно над ними посмеялись, — заверила я.
— Ну, Филиппу-то совершенно определенно было не до смеха, — заметил Бёрли. — Он не в духе, и настроения его это никак не улучшит. Но эти депеши, — он взмахнул пачкой писем, — подтверждают то, что я слышал. Ваше величество, вы теперь самая уважаемая из всех правителей Европы. Король Франции восхищается вами и говорит, — он открыл одно из писем и ткнул пальцем в нужное место, — что ваша победа «стоит в одном ряду с самыми прославленными деяниями мужей прошлого». Даже османский султан прислал свои поздравления.
— А евнуха в подарок он, случайно, не прислал? — пошутила я.
— И венецианский посол в Париже пишет, что королева «ни на миг не утратила присутствия духа и не упустила ничего, что было необходимо в таком положении. Ее острый ум и мужество показывают ее жажду славы и решимость защитить свою страну и себя».
— Это не только моя заслуга, — сказала я. — Без моих моряков, без моей армии, без моих советников я сейчас стояла бы в цепях перед Сикстом, а не шутила над его брачными предложениями.
Голова у меня шла кругом от всех этих похвал.
«Осторожнее, — сказала я себе, — как бы твоя голова не стала больше короны».
Пришло время отвлечься от комплиментов.
— Мой дорогой главный советник, — обратилась я к Бёрли, — вы, полагаю, присоединитесь к нам в Уайтхолле на праздничном смотре войск?
Тот замялся:
— За последние несколько месяцев я повидал более чем достаточно солдат.
— Да, но будет еще и турнир.
— Увольте, — поморщился он. — Что может быть скучнее?
— Вы мудры, но не всегда дипломатичны. Что ж. Мы не станем вас принуждать. Но если вы передумаете, мы с Лестером будем на галерее.
Вторая половина дня являла собой образчик всего лучшего, что могло предложить английское лето. Небо было не безжалостно ясное, но подернутое пушистыми августовскими облаками. Усевшись на галерее, откуда открывался вид на ристалище, мы с Лестером ждали смотра войск, которые граф Эссекс собрал для Тилбери. Все это он сделал за собственный счет, а теперь раскошелился еще и на парад.
Едва Лестер устроился, как его начала бить крупная дрожь. Несмотря на теплый день, он кутался в плащ.
— Боюсь, моя трехдневная лихорадка снова вернулась, — пояснил он, перехватив мой взгляд. — Я скверно себя чувствую. А все потому, что вместо давно запланированной поездки на воды в Бакстон мне по милости короля Филиппа пришлось отправиться совсем в другое место.
— Как только со всем этим будет покончено, поезжайте тотчас же, — сказала я. — Всеобщий благодарственный молебен состоится только в ноябре, в тридцатую годовщину моего восшествия на престол. К тому времени вы должны быть в добром здравии.
— Если это приказ, я вынужден повиноваться, — отвечал он. — Но со всеми текущими празднествами и торжествами мне совершенно не хочется уезжать из Лондона.
— Это приказ.
Я успела заметить, что ему нездоровится и он порой едва держится на ногах. Получив объяснение этому, я вздохнула с облегчением.
— Смотрите, смотрите! Вот он!
Лестер указал на Эссекса, который появился на ристалище в сопровождении своих людей, облаченных в коричневые с белым мундиры Деверё. Они подошли к проему галереи и отсалютовали мне, а Эссекс отвесил замысловатый поклон.
Затем был дан сигнал к началу турнира, и Эссекс открыл его поединком с графом Камберлендом. Я посмотрела на Лестера. Прошло много лет с тех пор, как он в последний раз участвовал в чем-то подобном, но моя память услужливо воспроизвела его образ. Молодой, стройный, полный сил, с огненными отблесками в волосах — вот каким я его помнила. Однако мужчина, сидевший сейчас со мною рядом, был седой как лунь, надсадно кашлял и трясся в ознобе. Ему были совершенно необходимы целительные воды Бакстона.
— Для своих двадцати он искусный боец, вы не находите? — заметил Лестер.
Двадцать лет. Самый расцвет.
— Да, — согласилась я.
— Пока я буду в Бакстоне, пускай он поживет в моих покоях в Сент-Джеймсском дворце. Он употребит это время с пользой. Я хотел бы, чтобы вы поближе с ним познакомились.
— Прекрасно, — отвечала я. — Мы будем играть в карты, танцевать — и ждать вашего возвращения.
Он взял меня за обе руки и по очереди поцеловал их, не отрывая губ чуть дольше необходимого.
— Мы так много пережили вместе, любовь моя, — произнес он негромко. — Но последние события были лучшими.
Три дня спустя он уехал. Ему, разумеется, пришлось взять с собой жену Летицию. Путь до Бакстона, который от Лондона отделяли без малого две сотни миль, он собирался проделать в несколько приемов, не торопясь, и заодно заглянуть по пути к сэру Генри Норрису в Райкот. Я отправила ему туда маленький подарок — ликер, который приготовила одна из моих фрейлин из меда с капелькой мяты.
У меня не было никаких зловещих предчувствий, совсем наоборот. Я представляла, как он получит мой подарок. Я представляла, как он отдыхает душой, путешествуя на природе, в кои-то веки наслаждается праздностью вдалеке от своих обязанностей; как целебные воды восстанавливают его телесные силы. Ликование, радость нашей победы и его военные успехи должны были ускорить выздоровление.
А потом Бёрли обратился ко мне с просьбой принять его без посторонних глаз. Он медленно вошел в мои покои и упал в кресло. Лицо его было искажено страданием, руки, сжимавшие подлокотники, побелели.
— Вам следовало послать гонца, — упрекнула я его. — Вы совсем себя не бережете. Не назначайте ненужных встреч.
— Эта совершенно необходима.
— Секретаря вполне хватило бы. — Я покачала головой. — Ваше рвение делает вам честь, но...
Выражение его лица заставило меня прикусить язык.
— Ох, если бы только эту весть вам мог принести кто-то другой!
— Что такое?
Я почувствовала, как в душе шевельнулся ледяной страх.
— Роберт Дадли умер.
— Нет, — против воли вырвалось у меня.
Этого не могло быть. Этого не должно было случиться.
— Он умер через восемь дней после отъезда из Лондона, — сказал Бёрли. — Доехал до Райкота, оттуда двинулся дальше, в Корнбери-парк. Там ему стало хуже, и он слег. Шесть дней спустя он скончался от злокачественной лихорадки. В хижине лесничего. Мне очень жаль.
Он уставился в пол, как будто не мог заставить себя взглянуть мне в лицо:
— Говорят, с его ложа виднелись деревья. Последнее зрелище, представшее его взгляду, должно быть... красиво.
Красиво... Деревья... Наверное, листья там уже начинали желтеть? Или оставались зелеными?
— Деревья, — произнесла я. — Деревья.
И тут из глаз у меня хлынули слезы.
Два дня я не выходила из своих покоев. Я не впускала к себе никого — ни Марджори, ни Кэтрин, ни Бланш, ни даже горничных. Я никогда не чуралась демонстрировать на людях счастье, но горе свое была не намерена показывать никому. Поэтому я ждала, когда оно утихнет, зная, что притупится лишь острота, само же горе никуда не денется.
Робкий стук в дверь подсказал, что принесли еду. Я не стала открывать. Потом снова постучали и под дверь просунули письмо. Я мгновенно узнала почерк: рука Роберта Дадли.
Получить письмо от того, кто только что скончался... В этом есть что-то загадочное и пугающее, словно с тобой говорят из могилы прерывающимся голосом. Глубокая печаль затопила меня, когда я дрожащими руками вскрыла письмо и стала читать.
Райкот, 29 августа
Смиреннейше прошу Ваше Величество простить Вашего бедного старого слугу за ту дерзость, с какой он осмелился справляться о том, как поживает моя прекрасная госпожа и в чем она обрела избавление от недавней боли, ибо главное, о чем я молю Господа, — это о ее добром здравии и долголетии. Что же до бедственного положения Вашего скромного слуги, я продолжаю принимать присланное Вами снадобье и нахожу, что оно помогает мне куда лучше, нежели прочие средства, каковыми меня пользовали. Засим, в надежде найти исцеление на водах, продолжая возносить горячие молитвы за счастливейшее избавление Вашего Величества, смиренно лобызаю Ваши ноги, из Вашего старого домика в Райкоте, утром сего дня вторника, в готовности возобновить мое путешествие. Остаюсь верный и преданный Вам слуга,
Р. Лестер
Сразу же по написании сего письма я получил подарок от Вашего Величества, доставленный мне юным Трейси.
Это не было какое-то тайное послание. Это было самое обычное письмо, шутливое, ласковое, полное надежд на будущее и беспокойства о знаках внимания. Он не предчувствовал скорую смерть. «Посреди жизни мы смертны», — говорится в погребальной молитве. Но на самом деле верно противоположное: посреди смерти мы полны жизни.
Как же мы ошибались. Нечто неумолимое все-таки разлучило нас.
На следующий день Бёрли приказал выломать дверь. Он обнаружил меня сидящей в совершенном спокойствии. Я готова была встать и жить дальше.
— Его похоронят в усыпальнице церкви в Уорике, — сказал Бёрли. — Рядом с сыном.
С его младшим сыном от Летиции, умершим в возрасте шести лет.
— Ясно.
Я не смогу присутствовать на похоронах, не смогу проститься с ним.
— Ходят слухи... — деликатно заговорил он.
— Слухи какого рода?
Неужели злые языки не оставят Роберта Дадли в покое даже после смерти? Неужели эти грязные сплетни последуют за ним даже в могилу?
— Что это жена Летиция отравила его. Будто бы ей пришлось, потому что он намеревался отравить ее саму.
— Опять эти старые бредни! — (Враги Дадли давно называли его отравителем, приписывая его козням любую внезапную кончину.) — Зачем ему травить Летицию?
— Он якобы обнаружил, что она изменяла ему с Кристофером Блаунтом, юношей, которого он сделал конюшим. На добрых два десятка лет ее моложе.
— Вздор, — отрезала я.
Не стала бы она изменять Лестеру, ведь, чтобы заполучить его, она в свое время была готова на все.
— Утверждают, что она отравила его ядом, который он приготовил для нее, — с извиняющимся видом произнес Бёрли. — Я всего лишь пересказываю вам то, что болтают люди.
— Они не уймутся, пока не очернят его имя навсегда. Даже после смерти нет ему спасения от их яда.
— Ну, эти слухи очерняют скорее имя его вдовы, — заметил он.
— Ваша правда. Ваша правда.
Но даже Летиция не опустилась бы до такого. Хотя... первый ее муж очень уж кстати отправился на тот свет именно тогда, когда вскрылась ее связь с Робертом Дадли. Злые языки винили Роберта. Но кто оказался в наибольшем выигрыше? Летиция, а никак не Роберт. Летиция заполучила богатого и привлекательного мужа, уж всяко получше того недоразумения, за которым она была замужем прежде. А Роберт лишился даже призрачной надежды жениться на мне и влияния при дворе в придачу. Так кто же оказался в выигрыше?
Я усилием воли отогнала недостойные мысли. Они были мне не к лицу.
10
Последующие три месяца прошли для моей страны и подданных в круговороте торжеств. Впервые в нашей истории народное ликование было столь всеобщим. Битва при Азенкуре случилась в другой стране, и, хотя мы тогда наголову разгромили неприятеля, поражение не поставило бы под угрозу само наше существование. В то время как душу мою переполняли благодарность Господу и облегчение, на сердце камнем лежала боль личной утраты. Это было точное отражение самой жизни, смесь горечи и сладости в одном напитке.
Но ничто на свете не длится вечно, даже празднества. В ноябре я решила положить конец торжествам, устроив церемонию, которая по пышности могла соперничать разве что с моей коронацией.
Процессия выдвинулась из Сомерсет-хауса, величественного особняка на Стрэнде, посередине между Уайтхоллом и Темпл-черч, который я в свое время пожаловала лорду Хансдону. Мы с ним решили, что там будут размещаться иностранные послы и проходить пышные приемы. Сегодня он чествовал меня не просто как королеву и кузину — как соратницу в борьбе с армадой.
— Как же так, дорогая кузина, вы сегодня не в латах? — пошутил он.
— В них не подобает появляться в церкви.
— Не знал, — отвечал он. — Мне сейчас неподходящим кажется светский наряд.
Ему, без сомнения, не терпелось поскорее вернуться к себе на север, где он был попечителем Восточной марки.
В тот день я облачилась в платье с невероятной длины шлейфом, который должна была нести Хелена Ульфсдоттер ван Снакенборг, маркиза Нортгемптон, самая знатная женщина в стране. Я сделала ее таковой — или, вернее, позволила ей сохранить титул после того, как она овдовела и повторно вышла замуж за мужчину ниже по происхождению. Я считала ее своей собственностью, поскольку убедила ее остаться в Англии после того, как двадцать лет тому назад ее посольская миссия в свите принцессы Сесилии Шведской подошла к концу. Сесилия давным-давно вернулась домой, так и не выполнив возложенную на нее задачу убедить меня выйти замуж за ее венценосного брата, а ее очаровательная соотечественница стала украшением нашего двора и моей любимой фрейлиной.
— Шлейф тяжелый, Хелена, — предупредила я.
— Мне силы не занимать, — покачала она головой. — Разве я не Ульфсдоттер?
— Вы не похожи на волка, — сказала я. — Впрочем, меня всегда восхищали скандинавские имена, образованные от названий животных — волк, медведь, орел, — Ульф, Бьорн, Арне. Они имеют свое значение.
— Быть достойными их — дело не всегда легкое, — заметила Хелена, примеряясь к шлейфу. — Лучше уж быть Джоном или Уильямом.
Помещения и двор Сомерсет-хауса постепенно заполняли люди, которым предстояло пройти процессией по улицам Лондона, — всего таких насчитывалось около четырех сотен. Внутри собрались советники, знать, епископы, французский посол, фрейлины, дворцовая челядь, судьи и чиновные стражи порядка; снаружи толпились бесчисленные клерки, капелланы, парламентские приставы, глашатаи, церемониймейстеры и ливрейные лакеи. Все ожидали распоряжения выстраиваться в колонну.
Крышу кареты, запряженной двумя белыми конями, венчала точная копия моей короны. Я уселась внутри, и Хелена последовала за мной, придерживая шлейф, чтобы не волочился по мостовой. По условному знаку процессия пришла в движение. Первыми шли глашатаи, церемониймейстеры и герольды. Следом за каретой шагал граф Эссекс, ведя под уздцы моего скакуна. Я не могла не думать о том, что на его месте должен был идти Лестер.
Медленно-медленно наша процессия прошествовала по Стрэнду, миновала Арундел-хаус и Лестер-хаус — еще одно горькое напоминание о нем, темное и безлюдное, — и наконец вступила в Сити, на воротах на входе в который играли музыканты. Меня приветствовали мэр и олдермен в алых одеждах. Вдоль улиц, ведущих к собору Святого Павла, стояли члены городской гильдии в голубых мундирах. Все здания и оград
