автордың кітабын онлайн тегін оқу Эстоппель в гражданском судопроизводстве
Моим родителям
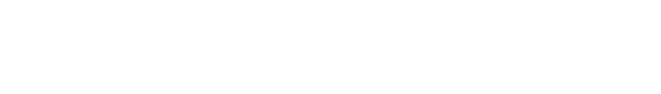
Anton Yakhimovich

Estoppel
in Civil Procedure
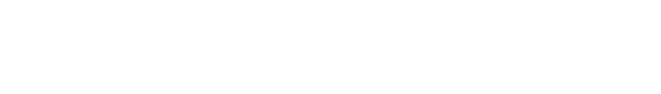
А.В. Яхимович

Эстоппель
в гражданском судопроизводстве
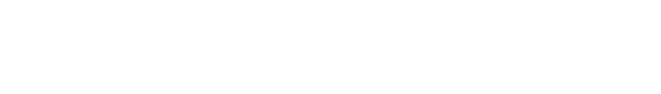
![]()
Издательский дом «Городец» благодарит за оказанную помощь
в выходе издания независимую частную российскую
производственную компанию «Праймлайн» (www.prime-l.ru)
ПРАЙМЛАЙН: КОМПЛЕКСНЫЕ ЕРС-ПРОЕКТЫ
![]()
© Яхимович А.В., 2023
© Издательский дом «Городец» —
оригинал-макет, 2023
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
@ Электронная версия книги подготовлена
ИД «Городец» (https://gorodets.ru/)»
![]()

По имеющимся данным, человек за всю жизнь не может прочитать больше двух процентов книжных произведений, созданных в этом мире. Каждому из нас рано или поздно приходит мысль, какими должны быть произведения, на которые мы тратим личное время и жизненную энергию, отдаем им часть себя. Общение с книгой должно приносить и удовольствие, и пользу, а в идеале — еще и полноценный диалог с автором.
Мы стоим перед выбором: что читать. Так, создается личная библиотека. На первых порах она складывается стихийно: человек учится чтению, привыкает к книге, а действующие образовательные программы, начиная с дошкольных учреждений и заканчивая высшими учебными заведениями, предлагают базовый набор произведений, с которыми следует познакомиться, осмыслить и понять. При вхождении в самостоятельную взрослую жизнь мы имеем уже багаж прочитанного — у нас есть начальная библиотека, но вряд ли кто-то этим объемом и ограничивается. Порой мы решаем задачу — стоит ли очередное произведение и его автор нашего внимания. Чем больше вариантов, тем сложнее выбор. Чем мы старше — тем жестче критерии отбора. И каждому последующему поколению приходится труднее предыдущего. Но никто еще не отказался от ее решения и может предложить на обсуждение свое как единственно верное.
Библиотека, созданная человеком, — уникальна, как уникален индивид и каждое произведение, ее составляющее. Вряд ли в мире найдутся две одинаковые библиотеки. Стремления, тревоги человека тот час же отражаются на выборе книг, которые требуются для чтения. Произведение литературы — это не только выражение психики его автора, но и выражение психики тех, кому оно нравится. Эта давняя мысль Эмиля Геннекена, подхваченная и развитая Николаем Рубакиным и его последователями1, кажется, годится не только для художественных произведений, но, вообще, для всех, включая научные труды (несмотря на их особенный язык и среду возникновения). Таким образом, собираемые и читаемые произведения становятся не только источником, но и отражением мировоззрения создателя коллекции, они способны показать неповторимость его опыта, знаний, ценностей. Собрание книг приобретает частичку личности, которая при определенных условиях способна пережить создателя.
Наверно не ошибемся, если сочтем, что срок жизни личной библиотеки равен в целом сроку жизни ее создателя. Период активного чтения у человека длится 50–60 лет, а в последние годы жизни он устает и практически не находит сил на чтение имеющихся книг, не говоря уже о поиске новых. В связи с этим обычно библиотека жива, пока жив ее владелец, в отличие от авторских произведений и научных открытий, способных пережить создателей на десятки и сотни лет.
Каждой личности хотелось бы передать «интеллектуальный тип», образ мира, читательскую среду последователям моложе и сильнее, чтобы продолжить начатое дело освоения и постижения этого мира. Автор продолжает жить в произведениях, ученый — в открытиях, а читатель — в своих книгах.
Миру Михаила Константиновича Треушникова были знакомы все три ипостаси, ему посчастливилось выступить в роли автора, ученого и читателя.
Михаил Константинович передал часть домашней научной библиотеки кафедре гражданского процесса МГУ имени М.В. Ломоносова. Но это ее статическая часть, собранная им лично.
Открываемая книжная серия «Библиотека М.К. Треушникова» — попытка издателя, родных, учеников, коллег и друзей Михаила Константиновича сберечь и посильно продолжить создание личной библиотеки, вселить в нее жизнь, продолжить то мировосприятие, которое было присуще Михаилу Константиновичу как человеку своей эпохи.
Антон Михайлович Треушников
Издательский Дом «Городец»
Кафедра гражданского процесса
Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
1 См.: Геннекен Э. Опыт построения научной критики: эстопсихология / Пер. Д. Струнина. 2-е изд. М., 2011. С. 5; Рубакин Н.А. Этюды о русской читающей публике. Факты, цифры, наблюдения. СПб., 1895. С. 3–4; Белянин В.П. Психологическое литературоведение. Текст как отражение внутренних миров автора и читателя. М., 2006. С. 4–5; Он же. Психолингвистика. 4-е изд. М., 2016. С. 175.
Предисловие
Институту эстоппеля в российском гражданском судопроизводстве посвящено немало научных публикаций. Интерес исследователей понятен. В его основе — желание поделиться знаниями о правотворческой деятельности судебных органов стран англо-американской правовой семьи, предпринять попытки применить эти знания на практике — в ходе судебной защиты гражданских прав, в законопроектной работе. При этом не всегда учитывается, что на любое исследуемое, сравниваемое правовое явление, а уж тем более такое сложное, как эстоппель, необходимо смотреть со всех сторон, принимая во внимание национальные — исторический, материально-правовой и процессуально-правовой — контексты.
Автору представляемой читателю монографии — Антону Владимировичу Яхимовичу — удалось избежать этой ошибки в силу следующего. Будучи магистром права Университета г. Эдинбурга, он погрузился в историю и теорию английского права, изучив огромный массив специальных источников, среди которых особое место занимает прецедентная практика английских судов. В качестве практикующего юриста не понаслышке знает о российской судебной практике в части применения знаний об эстоппеле и отражения их в судебных постановлениях по гражданским делам. Являясь соискателем степени кандидата юридических наук, автор подготовил на кафедре гражданского процесса юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова диссертационное исследование на тему «Эстоппель в гражданском судопроизводстве», которое с успехом защитил, получив искомую степень.
Основательность проведенного А.В. Яхимовичем исследования читатель сможет оценить самостоятельно. Хотелось бы лишь привлечь внимание к работе, акцентировав внимание на выводах автора, которые представляют особую теоретико-практическую ценность:
1) современная английская доктрина права и судебная практика отказались от идеи унификации и создания концептуально единого принципа estoppel. Разные виды estoppel имеют различный предмет и условия применения, а отличия в содержании их существенных элементов позволяют учесть специфику конкретных жизненных ситуаций;
2) классический estoppel, или estoppel by representation, — это estoppel в строгом смысле слова, который представляет собой правило доказывания, направленное на ограничение доказывания фактических обстоятельств дела путем исключения из предмета судебного исследования и оценки обстоятельства, имеющего значение для рассмотрения и разрешения дела.
В основе его применения лежит утверждение о факте, которое должно соответствовать, установленным в праве критериям: быть ясным и недвусмысленным, нацеленным на восприятие и совершение конкретных действий адресатом утверждения. Оно должно быть сделано в отношении определенного события или явления настоящего или прошлого и быть ложным по своему содержанию. Именно ложность утверждения есть основание для применения estoppel — лицу не дозволяется оспорить характер собственного изначального утверждения по мотиву его ложности;
3) при применении эстоппеля не идет речь о запрете стороне что-либо заявлять в судебном процессе. Его действие состоит в том, что суд в процессе вынесения судебного решения не учитывает и не оценивает фактические обстоятельства, утверждаемые стороной с целью опровержения факта, установленного с помощью эстоппеля. Лишение или ограничение процессуальных прав участников дела допускается только на основании закона, а не по распоряжению суда.
Уверена, что издание книги «Эстоппель в гражданском судопроизводстве» позволит восполнить тот недостаток в теории, который образовался в результате фрагментарных, разрозненных исследований по обозначенной теме, привлечь внимание к проблеме судебной защиты гражданских прав (в том числе и законодательного регулирования), еще раз обратить внимание на невозможность заимствования иностранных правовых институтов без учета социальных, экономических, культурных и иных факторов, определяющих специфику национального правового регулирования.
Принимая во внимание изложенное, хотелось бы выразить надежду, что книга Антона Владимировича Яхимовича «Эстоппель в гражданском судопроизводстве» не только займет достойное место среди имеющихся научных исследований проблем гражданского, арбитражного процесса России, но и послужит основой для дальнейшего научного творчества, станет полезной в учебном процессе, а, возможно, и в процессе по конкретному гражданскому делу.
Е.А. Борисова,
доктор юридических наук,
профессор кафедры гражданского процесса
юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
ВВЕДЕНИЕ
В советском гражданском процессе правовая категория estoppel («эстоппель») была предметом научного интереса советских компаративистов, изучавших правовые системы Англии, США. В современном российском гражданском процессе эстоппель является главным образом предметом анализа деятельности российских судов по рассмотрению и разрешению гражданских дел. Заимствование зарубежного (в первую очередь английского, поскольку именно в английской правовой системе эстоппель возник как правовое явление) опыта судебного применения эстоппеля без учета особенностей его содержания, обусловленного спецификой исторического развития английского права и процесса, неизбежно приводит к проблемам теоретико-практического характера.
Недостаточность всестороннего научного исследования этой сложной и многогранной правовой категории, охватывающей понятия гражданского и гражданского процессуального права, приводит к упрощенному пониманию эстоппеля. Заимствование происходит без учета особенностей разных видов эстоппеля таких, как: классический эстоппель, являющийся правилом доказывания, не позволяющим в судебном процессе оспаривать определенные фактические обстоятельства дела; эстоппель как институт обязательственного права, цель которого придать юридическую силу одностороннему негативному обязательству лица; эстоппель как аналог института законной силы судебного решения. Законодательное регулирование российского судебного применения эстоппеля отсутствует. В результате применение эстоппеля полностью зависит от усмотрения суда. Ориентация на обобщенное понятие эстоппеля приводит к терминологической путанице и попыткам увидеть эстоппель в давно известных институтах науки гражданского процессуального права. Все это в совокупности отрицательно влияет на уровень гарантий доступа к правосудию, создает угрозу нарушения права на судебную защиту.
В современной отечественной юридической литературе и судебной практике преобладает понимание эстоппеля как принципа права, в основе которого лежит идея о необходимости стимулирования последовательного и непротиворечивого поведения субъектов правоотношений: сторона не должна извлекать преимущества из своего непоследовательного поведения.
Такое понимание, как представляется, стало следствием утвердившегося в практике и научной литературе суждения, что эстоппель есть частный случай проявления материально-правового принципа добросовестности, установленного в ст. 1 ГК РФ и соответственно в качестве такового не требует формализации. Типичное определение эстоппеля судом основывается на использовании таких оценочных понятий, как «последовательность», «непротиворечивость», «преимущество (выгода)», «правовая ситуация», «сохранение справедливого баланса интересов спорящих сторон», «обычная коммерческая честность». Именно эти внутренне неопределенные понятия в том или ином варианте представляют собой содержание определения эстоппеля, в том числе так называемого процессуального эстоппеля. Однако именно в этой части возникают сложности с «наполнением» судами обоснованным, т.е. установленным на основании доказанных обстоятельств дела, содержанием этих абстрактных оценочных понятий.
Проблема в том, что за указанными характеристиками не стоит сколь-либо конкретного объяснения их содержания в судебных актах. Неясно, в чем именно состоит негативная сторона «противоречивости» действий лица и в чем заключается «преимущество (выгода)», препятствование которому объявляется «главной задачей принципа эстоппель».
Такое понимание не учитывает особенности непрофессионального гражданского судопроизводства, а также не соответствует сути классического эстоппеля, содержание которого раскрывается через доказывание совокупности обязательных элементов, где само поведение — один из элементов.
Особенностью современного подхода к обоснованию применения эстоппеля в российском гражданском судопроизводстве является, с одной стороны, отсутствие исследований этого явления в родной для него английской системе права, а с другой — своего рода забвение емких, но и поныне актуальных в своем основном содержании научных работ классиков отечественной процессуальной науки. Среди указанных трудов следует выделить: «Судопроизводство и гражданский процесс капиталистических государств» А.Д. Кейлина (М., 1958); «Ответственность морского перевозчика за груз по английскому праву» К.Ф. Егорова (М., 1961); «Английский гражданский процесс. Основные понятия, принципы и институты» В.К. Пучинского (М., 1974) и «Основные черты буржуазного гражданского процессуального права» М.Г. Авдюкова, А.Ф. Клейнмана, М.К. Треушникова (М., 1978).
Важнейшая особенность этих исследований — справедливый вывод о необходимости разграничения разных видов эстоппеля и определения классического эстоппеля как процессуального правила доказывания, а не выражения абстрактного материально-правового принципа добросовестности. При этом авторы обоснованно не смешивали в одно целое эстоппель в качестве правила доказывания и эстоппель как выражение законной силы судебного решения и свойства преюдициальности, поскольку справедливо полагали, что единый термин в названии не может сам по себе свидетельствовать о тождестве явлений, им обозначаемых.
Характер сложившегося понимания и применения эстоппеля в отечественной судебной практике делает необходимым анализ прежде всего классического эстоппеля, представляющего правило доказывания в английской правовой системе, с последующим выводом о необходимости и возможности заимствования английского правового явления. В связи с этим вопросы, относящиеся к применению формальных видов эстоппеля и estoppel per rem iudicatam, в данной книге не рассматриваются. Исключение составляет освещение проблемы терминологической путаницы, связанной с попытками анализировать отечественный институт законной силы судебного решения с позиции обобщенного понимания эстоппеля и наличия термина “estoppel” в наименовании аналога института законной силы судебного решения в английском праве.
Предваряя дальнейшее повествование, автор выражает глубокую признательность научному руководителю доктору юридических наук, профессору Е.А. Борисовой за руководство и поддержку в написании и защите диссертации, заведующему кафедрой гражданского процесса МГУ имени М.В. Ломоносова, доктору юридических наук, профессору В.В. Молчанову, доктору юридических наук, профессору В.М. Шерстюку, доктору юридических наук, профессору Е.В. Кудрявцевой, кандидату юридических наук, доценту С.В. Моисееву и всему профессорско-преподавательскому составу кафедры за участие в обсуждении диссертации, положенной в основу настоящей монографии. Отдельные слова благодарности доктору юридических наук, профессору Д.Б. Абушенко, доктору юридических наук, профессору О.Н. Шеменевой и кандидату юридических наук, доценту И.И. Черных за содержательную дискуссию и ценные замечания.
Особую благодарность автор выражает родителям — Владимиру Николаевичу и Людмиле Павловне, без их всемерной помощи, поддержки и вдохновения не было бы этой книги.
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Учитывая отсутствие устоявшегося понимания ряда терминов и понятий, связанных с эстоппелем, приводятся следующие пояснения:
- estoppel — в тексте работы слово estoppel, если из контекста не следует иное, опосредует английский институт классического эстоппеля, имеющий конкретные элементы и условия применения;
-
классический (доказательственный) эстоппель — правило доказывания, направленное на ограничение установления фактических обстоятельств дела. Лицу, чье утверждение о факте дает основание адресату такого утверждения совершать определенное действие, полагаясь на это утверждение, не дозволяется впоследствии (в ходе судебного процесса) ставить под сомнение правдивость своего утверждения, если в результате у адресата утверждения возникнут неблагоприятные последствия.
В общем случае основным видом классического эстоппеля выступает estoppel by representation (estoppel in pais), но под этим же термином могут скрываться такие наименования, как estoppel by conduct, by silence, evidential estoppel, common law estoppel. Различие в названии обусловливается либо указанием на форму, в которую облекается утверждение лица, либо на роль эстоппеля в гражданском процессе, либо необходимостью отграничения этого вида эстоппеля от эстоппеля по праву справедливости;
- representation — юридически значимое утверждение о факте действительности, существующем на момент утверждения или существовавшем в прошлом. Учитывая этимологию слова, имеется в виду не просто утверждение о факте, а подтверждение (re-presentation) того, что было или существует. Эффект подтверждения сохраняется в течение всего времени, пока адресат утверждения основывает свои действия на нем. Может быть выражено в словесной форме или в виде действия (бездействия);
- consideration — встречное предоставление, которое необходимо для создания простого обязательства, имеющего юридическую силу. Оно предоставляется не в отношении договора в целом, а в отношении каждого отдельного (простого) обязательства стороны. Фактически выполняет доказательственную функцию определения волеизъявления сторон;
- warranty — первый вид договорного обязательства по английском праву, суть которого состоит в гарантировании существования определенного факта в прошлом или настоящем;
- promise — второй вид договорного обязательства по английском праву, суть которого состоит в добровольно принятой на себя обязанности совершить либо воздержаться от совершения определенных действий в будущем.
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Глава 1
Понятие, содержание
и виды эстоппеля
в гражданском процессе Англии
Предваряя рассмотрение, необходимо сделать два общих замечания в отношении объективной сложности, связанной с пониманием эстоппеля1 и историей его развития и применения в английском гражданском процессе.
Первое замечание — в английском праве практически отсутствуют доктринальные источники, посвященные доказательственному праву и доказыванию, вплоть до XIX в.2
Второе замечание — в английской специальной литературе неоднократно отмечалась необходимость учитывать, что эстоппель — собирательное понятие, которое объемлет разные институты, причем как материального, так и процессуального права, в основе которых лежат разные идеи и правила применения. Это привело к осознанному отказу в английской судебной практике и доктрине от разработки идеи некоего единого принципа estoppel, который потребовал бы унифицированного правила как для доказательственного, так и для обязательственного и вещного права3.
Но даже если бы это удалось, то неясно, каким образом этот принцип смог бы объединить еще и формальные виды эстоппеля и estoppel per rem iudicatam4, аналогом которому в отечественном правопорядке выступает институт законной силы судебного решения5. В основе применения этого вида эстоппеля лежит обязательность ранее вынесенного решения суда или иного органа, осуществляющего судебные полномочия, по спору между одними и теми же лицами в отношении одного и того же предмета спора. И в связи с этим Barnes отмечает, что, вообще говоря, отнесение этой правовой категории с точки зрения ее содержания к понятию эстоппеля сомнительно6. Обоснование этой правовой категории существенным образом отличается от иных видов эстоппеля, которые зиждутся на идее связанности собственным поведением, являющимся основанием для действий иных лиц. Estoppel per rem iudicatam оправдывается, во-первых, соображениями публично-правового характера о заинтересованности государства в окончательности судебного процесса, и, во-вторых, интересом частного лица не быть по одному и тому же поводу подвергнутым судебному процессу дважды7. Использование термина estoppel в названии — частично дань исторической традиции, а частично отражение правового эффекта этой категории, применение которой также приводит к запрету определенного рода.
Далее, следует сказать, что решение выдающегося английского судьи XX в. Lord Denning по делу The High Trees8, наиболее частого цитируемое в отечественной литературе в качестве пояснения принципа «эстоппель», во-первых, касалось не всеобъемлющего единого принципа эстоппеля, а только такого вида эстоппеля, который впоследствии стал именоваться promissory estoppel9. А во-вторых, тот же Lord Denning спустя 30 лет и, будучи уже в должности Master of Rolls (вторая значимости должность в судебной системе Великобритании) в свойственной ему метафоричной манере пояснил, что, несмотря на общий термин, используемый в названии разных видов эстоппеля, а также общей черты (запрет лицу что-либо отрицать, делать или опротестовать), речь идет о разных правовых явлениях, не сводимых к общему принципу с едиными условиями его применения10.
Справедливости ради нужно отметить, что уже спустя два года Lord Denning все же попытался сформулировать определение общей черты эстоппеля, на которое иногда ссылаются как на понятие принципа эстоппеля: «когда стороны договора действуют на основании лежащего в его основе предположения, не важно факта или права, которое является следствием либо ложного утверждения о факте, либо ошибки и которым они руководствовались в своих взаимоотношениях, ни одной из них не будет позволено отказаться от этого предположения, если это было бы нечестно или несправедливо»11.
Но необходимо учитывать, что предложенное им определение общего понятия эстоппеля не было воспринято ни доктриной, ни практикой12. Оно не раз становилось предметом обсуждений в ходе вынесения судебных решений, но своего подтверждения именно в качестве единого принципа не нашло13. Высшая судебная инстанция в лице Lord Goff of Chieveley, непосредственно рассмотрев определение, предложенное Lord Denning, отвергла возможность существования единого принципа, сказав, что разнообразие жизненных обстоятельств, дающих основание для применения эстоппеля, не позволяет объединить их в единой формуле14. В связи с этим целесообразно отметить в целом настороженное отношение судебной практики и судей, в том числе высшей судебной инстанции, к абстрактным, общим принципам, высокая степень обобщения которых дает мало пользы для решения конкретных жизненных ситуаций15.
На сегодняшний день господствующим мнением как в доктрине, так и в судебной практике является отказ от «утопической»16 идеи унификации и создания концептуально единой доктрины эстоппеля ввиду нежелательных последствий, возникающих в результате игнорирования особенностей применения разных видов эстоппеля17. В основе такого подхода лежит понимание, что разные виды эстоппеля имеют самостоятельные предметы, результаты применения, а также отличия в содержании их существенных элементов18. Это рассматривается как их несомненное достоинство, поскольку позволяет учесть специфику конкретных жизненных ситуаций19.
В частности, в основании estoppel by representation и promissory estoppel находится утверждение о факте и простое обязательства соответственно, которые должны обладать свойством ясности и недвусмысленности до степени прецизионности (unequivocal and precise). Но, например, то же самое одностороннее обещание в качестве основания proprietary estoppel должно быть лишь в достаточной степени ясным и понятным (clear enough)20. В свою очередь, требования, предъявляемые к внешней форме выражения и восприятия предположения (assumption), на основе которого применяется estoppel by convention, в значительной степени отличается от доказывания наличия утверждения о факте или простого обязательства в estoppel by representation и promissory estoppel соответственно21. Что же касается, например, результата применения эстоппеля, то, например, в отличие от estoppel by representation, результат применения которого носит постоянный характер, последствия от применения promissory estoppel не имеют «классического» преклюзивного свойства, а имеют, как правило, лишь отлагательный эффект22.
Учитывая изложенное, а также учитывая отечественную судебную практику и те виды estoppel, которые обсуждаются в литературе23, в основу сравнительно-правового исследования положен анализ estoppel by representation и promissory estoppel.
Первый из указанных estoppel относится к общему праву (common law estoppel), второй — к категории estoppel права справедливости (equitable estoppel)24. В отечественной литературе предлагается именовать их под общим названием «частноправовых»25, что в принципе допустимо, если этот термин использовать для их отграничения от estoppel per rem iudicatam, в основе применения которого лежит не поведение лица, а, как было сказано, решение суда или иного органа, осуществляющего судебные полномочия. Но при этом такое общее наименование опять-таки не должно вводить в заблуждение: в основе их применения лежат не просто разные идеи, но они принадлежат разным отраслям права, о чем еще будет сказано. У указанных видов эстоппеля разные цели, содержание и объект применения.
1.1. История возникновения и развития
понятия «эстоппель»
Сложность с определением места эстоппеля в системе права может объясняться тем, что в основе развития английской системы права вплоть до второй половины XIX в. лежала система исков и судебных приказов (writs)26, подобная римскому формулярному процессу27.
Вместе с тем, несмотря на совпадение во времени процесса оформления общего права как системы (конец XII в.28) и начала активного изучения наследия римского права в университетах Европы29, в том числе и в Оксфорде, и Кембридже, и знакомство английских судей с его концепциями, отмечается, что этот факт не оказал значимого влияния на развитие общего права30. Общее право формировалось и развивалось вплоть до начала XVIII в. вне стен университетов, которые, в свою очередь, напротив, занимались изучением и обучением только римского и канонического права31 и не были заинтересованы в изучении национального права32.
Право формировалось вокруг развития правил ведения судебного процесса, правильного составления иска и знания соответствующих исковых форм и судебных приказов, которыми дозволялось начать процесс. При этом все указанные элементы юридического знания, а равно система королевских судов и феодальное вещное право уже существовали к моменту значимого влияния университетских юридических школ на общее право33. Эти элементы юридического знания были описаны в первом письменном источнике общего права — Трактате о законах и обычаях королевства Англии, или Glanvill Treatise (Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae) в 1187–1189 гг.34
В конце XIII в. юридическая практика становится закрытой профессией, занятие которой требовало получения специального разрешения. При судах формируется гильдия юристов (serjeants-at-law)35, профессиональное обучение которых состояло в изучении форм исков и судебных приказов, вещного права и способов ведения процесса. Отмечается, что как само изучение, так и повседневная практика в судах были на французском языке и, соответственно, никакой необходимости в знании латинского языка, который мог дать возможность для изучения римского права, для юристов не было. Соответственно, практикующие юристы не были знакомы с римским правом36. Но, как отмечает Milsom, дело даже не в языковом барьере как причине незнания римского права, а в том, что они объективно не рассматривали право как совокупность норм материального права37: в их мировоззрении единственный способ для юриста понять право — через процедурные формы38.
Как пишет Wilmot-Smith, «процессуальный формализм был основой мышления юриста», который не мыслил существования самостоятельных субъективных прав в отсутствие процессуальных средств защиты, определяемых конкретной формой иска39. Основание иска выводится из формы иска, а не определяет ее40. В результате каждая отдельная форма иска предполагала не только особый вид и способ ведения процесса, порядок заявления требований и возражений, судебного рассмотрения и вынесения решения41, но и в значительной степени отличие в применяемом материальном праве, содержание которого также зависело от выбранной формы иска42.
В связи с этим рассмотрение предлагаемых причин развития понятия эстоппеля неизбежно будет затрагивать развитие институтов материального права.
Начиная с XII в. происходит постепенный отход от древней формы судебного процесса, при которой спор решался «судом божьим» на основании принесения клятвы и поединка или испытания сторон. Происходит развитие современной формы ведения процесса, в которой функция выявления «победителя» в споре постепенно переходит от божественных сил, провозглашающих решение спора через результат поединка или испытания, к группе из 12 человек — присяжных, живших в той же местности, что и участники спора.
У ищущего защиты лица возникает возможность в качестве способа доказывания принесенной им клятвы выбрать рассмотрение дела присяжными вместо поединка или испытания43. Именно на них возлагается выяснение фактов и провозглашение правды44.
Эти изменения в понимании судебного процесса, в котором судебное рассмотрение основывается на фактах, подлежащих доказыванию, по мнению Holdsworth, обусловили возникновение современной идеи, лежащей в основе понятия estoppel45. Одновременно вследствие развития системы учета прошений и ведения официальных записей королевским судом возникает первый вид estoppel — estoppel by record, впоследствии трансформировавшийся в estoppel per rem iudicatam, или res iudicata46.
Уже в XIII в. идея окончательности и неоспоримости сведений, изложенных в официальных записях суда, скрепленных королевской печатью, дает возможность распространить свойство неопровержимости и на заявления лица, оформленные в письменном виде и скрепленные его личной печатью (deed).
Как отмечает Wigmore, придание свойства неопровержимости письменному документу, удостоверенному печатью, не было одномоментным процессом. В отношении операций и документов профессиональных торговцев это правило сформировалось к началу XIV в. Что касается основного населения, в массе своей незнакомого с письменностью, то применительно к их сделкам, в особенности с правами на земельные участки, вплоть до конца XV в. возможны были исключения как в отношении необходимости формального документа, так и неопровержимости оформленного документа47.
Формирование следующего вида estoppel — estoppel by deed положило начало развитию института представления и рассмотрения дела в суде на основании письменных доказательств48. Оно также привело к постепенному осознанию, что в основе применения этого estoppel лежит не «сакральное» свойство печати и формы документа, а действия самого лица по удостоверению документа49.
В результате к концу XV в. появляется третий вид эстоппеля — estoppel in pais.
Фактические действия лица, о которых известно людям той местности, в которой он проживает (из которых и назначаются присяжные), приобретают тот же эффект, что заявления, облеченные в форму письменного документа, скрепленного печатью50.
Термин in pais произошел от франц. “pays” и буквально означал «в той же местности»51 либо «люди той же местности»52. Соответственно, лицо лишалось возможности оспаривать свои действия, известные проживающим по соседству людям, которых в случае спора привлекут в процесс в качестве присяжных.
Объектом estoppel in pais были как раз те исключения в отношении сделок с правами на земельные участки, которые заключались без оформления письменного документа, скрепленного печатью. В качестве оснований для применения estoppel in pais указывались, в частности, предоставление зависимого феодального права на земельный участок, вступление в фактическое владение землей путем реализации права доступа на свой участок и принятие ренты53. Об этом свидетельствует наиболее авторитетный трактат по английскому праву XVII в54. — труд английского судьи Edward Coke «Комментарии к трактату Littleton’а», опубликованный в 1628 г.55 Это наиболее ранний из известных доктринальных источников, в которых не просто описывается три известных на тот момент вида estoppel56, а предлагается их обоснование и описываются условия их применения.
Для иллюстрации применения estoppel in pais в отношении действий лица, которые влияют на его вещное право на земельный участок, целесообразно обратиться непосредственно к трактату судьи Littleton.
Работа судьи Thomas Littleton о правах феодального или зависимого владения является первой печатной английской книгой и содержит ряд параграфов с описанием случаев применения estoppel57. Книга написана на так называемом юридическом французском и была опубликована уже после смерти автора в 1481–1482 гг. В ней, в частности, описывается ситуация58, когда лицо, имеющее право свободного потомственного владения (freehold, seisin)59, лишается фактического владения участком, но впоследствии становится нанимателем (leasehold) этого же участка в силу заключения формального договора, скрепленного печатью.
В этой ситуации, если бывший владелец вместо оформления договора воспользовался вещным правом доступа на свой участок60, обладание которым он сохранял несмотря на лишение фактического владения, и физически попал на него, то его вещное право на земельный участок считалось бы восстановленным. В случае же нового выдворения с земельного участка он уже получал владельческую защиту в суде (подобие римского владельческого интердикта61) без необходимости ведения отдельного гораздо более длительного и затратного процесса о вещном праве62. Эта процедура возникла ориентировочно в XII в. и получила свое распространение в XIII–XIV вв. как способ защиты свободного потомственного владения от посягательств феодала63.
Но если вместо указанного способа защиты своего владения, бывший владелец заключает договор найма в отношении спорного земельного участка, то он лишается своего изначального вещного права на землю и взамен получает обязательственное право аренды из договора (используя современную терминологию), которое не имело до конца XV в. вещно-правовой защиты64. При этом основанием лишения вещного права в этом случае выступал факт того, что лицо не может оспаривать собственные действия по оформлению формального договора, скрепленного печатью (deed), или в силу применения estoppel.
1.2. Возникновение и развитие современных форм
estoppel by representation и promissory estoppel
Развитие классического эстоппеля, или эстоппеля как правила доказывания. Дальнейшее развитие estoppel in pais в рамках системы судов общего права было затруднено в силу уже отмеченной выше особенности английского права как системы формальных исков и судебных приказов, которыми дозволялось начать процесс. Но оно продолжилось в судах справедливости, в которых формальная система исков и судебных приказов не действовала, но существовала единая форма иска, а процедура рассмотрения не зависела от предмета спора и имела следственные начала.
Процесс рассмотрения в этих судах был значительно проще и дешевле, в них не применялся институт присяжных65. Суд не был ограничен рамками заявленного в иске спора, а истец имел возможность изменять свой иск, в том числе после получения возражений от ответчика66. Важным отличием также была возможность использования истцом информации, предоставляемой ответчиком в качестве доказательства (в судах общего права показания сторон подлежали исключению67). К заявлению истца прилагался опросник, на который ответчик обязан был давать ответы под присягой. При этом у истца сохранялось право заявить о неоглашении показаний ответчика и представить взамен доказательства, подтверждаемые показаниями иных свидетелей68.
Кроме того, процедуры рассмотрения дела в судах справедливости и общего права имели еще одно принципиальное отличие. Центральной стадией в рассмотрении спора судами общего права было определение основного (главного) вопроса о материальном факте, лежащем в основе спора69. Определялся он на основании процедуры заявлений (прошений) сторон (pleadings)70, проходившей изначально в присутствии суда, а к началу XVII в. на основании письменных документов, которые входили в содержание официальных записей суда и становились неопровержимыми доказательствами. Как только вопрос об искомом материальном факте был определен, он направлялся на решение присяжных. Соответственно, отмечают как минимум два важных момента.
Во-первых, формальная ошибка в исковом заявлении или в последующей стадии обмена заявлениями (прошениями) сторон, а равно несоответствие между исковым заявлением и представленными доказательствами, вело к проигрышу дела, несмотря на весьма вероятную правоту лица по существу71. Во-вторых, после того как присяжные разрешали вопрос факта, он уже, как правило, не был предметом судебной оценки72.
Напротив, в судах справедливости, как было отмечено, дозволялось вносить изменения в исковое заявление. Более того, процедура обмена взаимными заявлениями (прошениями) сторон не была нацелена на установление единственного спорного материального факта, а все собранные доказательства по делу собирались служащими суда и представлялись для рассмотрения и оценки непосредственно судом справедливости73.
В результате суды справедливости, действуя в рамках процедуры, имеющей следственные черты, имели больше возможностей для применения судебного усмотрения и разрешения дел об умышленном обмане (fraud), а также в целом с преддоговорными утверждениями, что непосредственно повлияло на развитие понятия estoppel74. Именно в судах справедливости расширяется применение идеи, лежащей в основе estoppel in pais, что позволит впоследствии развить, как говорит Barnes, ключевой (он же классический) вид estoppel, а именно estoppel by representation75.
Начиная с XVI в. происходит десятикратное увеличение количества дел, рассматриваемых в судах, что было обусловлено социально-экономическим развитием общества76. Заметную роль стали играть споры, связанные с ответственностью за преддоговорные заявления, в особенности если они были сделаны третьим лицом, не участвующим в заключении договора. В качестве примера можно привести дело середины XVII в. Hunt v Carew and His Son77, в котором идея, лежащая в основе estoppel in pais была применена к преддоговорным заявлениям ответчика.
Истец, руководствуясь ложным заявлением ответчика о том, что его отец имеет «полное» право собственности на земельный участок, заключил с отцом ответчика договор аренды. Впоследствии истец, узнав, что у отца ответчика было только право пожизненного владения, а у самого ответчика — выжидательное право владения78, обратился к ответчику c требованием подтвердить заключенный договор. В результате суд, обязав ответчика подтвердить заключенный договор, не позволил ответчику опровергнуть его же собственное первоначальное утверждение. Суд обосновал свое решение тем, что истец положился на утверждение ответчика и тем самым понес убытки.
Это дело примечательно тем, что, по мнению Holdsworth, оно явилось одним из первых дел, заложивших основу для современного estoppel by representation79. Но не менее важно и то, что оно демонстрирует процессуальные особенности юрисдикции судов справедливости.
Во-первых, они могли присуждать к исполнению в натуре, в отличие от судов общего права, в которых основным средством защиты было присуждение убытков.
Во-вторых, в суде справедливости было более широкое понимание материального интереса, лежащего в основе признания лица ответчиком по спору из договора80. Как видно на примере данного дела, суд присудил к исполнению в отношении лица, которое формально не являлось участником спорного правоотношения: лицо, сделавшее преддоговорное заявление, не было стороной по договору о предоставлении права аренды.
Следующим важным этапом в развитии estoppel стало принятие в 1677 г. закона о мошеннических действиях81. Его положения предписывали обязательную письменную форму, в частности, для договоров об отчуждении прав на землю и договоров об имущественных предоставлениях при заключении брака, а также купли-продажи товаров стоимостью выше 10 фунтов стерлингов (если только стоимость товара не оплачивалась сразу либо был предоставлен задаток).
Суды общего права строго следовали требованию закона о соблюдении письменной формы договора. Что же касается судов справедливости, то их практика не изменилась, поскольку они толковали расширительно указанные положения закона. В понимании судов справедливости требование закона о письменной форме было направлено исключительно для предупреждения фактов лжесвидетельствования в случае заключения договора в устной форме. Если же суд мог без сомнения установить истинные намерения сторон и содержание договора, то он считал, что норма закона о письменной форме соблюдена82. Тем самым опираясь на идею, лежащую в основе estoppel in pais, суд нивелировал возможную несправедливость от применения закона о мошенничествах.
Об этом свидетельствует, например, дело Hobbs v Norton83. Истец, желая приобрести у ответчика право получения ренты, до заключения договора обратился к старшему брату ответчика за дополнительной информацией. Его интересовали следующие вопросы: основания права получения ответчиком ренты, обладал ли отец полным правом собственности в момент составления завещания и были ли ему известны факты отзыва или изменения завещания.
Руководствуясь устными утверждениями старшего брата ответчика, истец приобрел указанное право. В дальнейшем выяснилось, что на момент составления завещания земля уже находилась в трасте в пользу именно старшего брата, что фактически аннулировало право младшего брата на получение ренты и соответственно право истца. Но по итогам рассмотрения дела суд, учитывая утверждения, сделанные старшим братом, обязал последнего подтвердить наличие права ренты у истца.
Другим важным фактором в XVII в. была проблема рассмотрения и разрешения дел о соглашениях об имущественных предоставлениях при заключении брака. Суды справедливости формируют обширную и значимую для дальнейшего развития права практику по этим делам, которая сделала возможным расширение сферы применения будущего estoppel by representation. В этих делах анализировалась правовая природа отношений на стадии заключения договора, причем на 100 лет раньше, чем этот вопрос стал занимать общее право84.
В основе рассмотрения указанной категории дел лежали преддоговорные заявления о финансовом состоянии жениха либо о предоставлении новобрачным какого-либо имущества. Заявления эти делались, как правило, кем-либо из родственников или родителей жениха, но иногда и со стороны невесты85. В основе этих устных заявлений лежало не обещание предоставить что-либо, а утверждение о фактическом наличии того или иного имущества у будущего супруга. Иначе говоря, заявление о реально существующем факте на момент утверждения86.
Подобное развитие ответственности за преддоговорные заявления не прошло не замеченным в судах общего права. В 1762 г. представился случай привнести в общее право идею, лежащую в основе estoppel by representation87: одно из подобных «брачных» дел фактически попало на рассмотрение к одному из авторитетнейших судей в истории общего права — Lord Mansfield88.
Изначально рассмотрение дел о преддоговорных заявлениях по соглашению об имущественных предоставлениях при заключении брака не было в компетенции судов общего права, поскольку сами эти соглашения не имели судебной защиты по общему праву. Но в описываемом случае это стало возможным в связи с отказом ответчика добровольно исполнить решение третейского суда, в котором спор был рассмотрен по существу.
Некто, по имени Moses, выдал своему брату, Joseph, простой вексель на большую сумму с тем, чтобы последний мог предстать перед семьей будущей жены состоятельным человеком. Соответственно после женитьбы Joseph отказался вернуть вексель своему брату. По результатам третейского разбирательства Joseph был присужден к возврату векселя брату, но отказался это сделать добровольно. В результате Moses возбудил в суде общего права процесс о принудительном исполнении решения третейского суда, в рамках которого Joseph подал встречное заявление о неправильном применении права третейским судом.
В итоге суд общего права получил возможность рассмотреть спор по существу. Решение было вынесено в пользу ответчика (Joseph) на том основании, что утверждение о факте, данное с осознанием того, что оно не соответствует действительности и пониманием, что на него будет полагаться ничего не подозревающий субъект, не может быть опровергнуто.
Указанное развитие права оказалось по вполне понятным причинам востребованным коммерческим оборотом89, который, возможно, еще в большей степени, чем частные лица, зависел от возможности его участников полагаться на заявления друг друга90.
Вплоть до XVIII в. условия о праве продавца на вещь, качестве и свойствах приобретаемой вещи по умолчанию не входило в содержание договора91. Для того чтобы получить статус договорного обязательства, оно должно было быть явным образом обговорено сторонами. При этом простое заявление продавца о свойствах товара не имело юридически обязывающего эффекта для него. Для того чтобы получить защиту на основании договорного иска, покупателю необходимо было в момент заключения договора требовать от контрагента не простого подтверждения, а гарантирования соответствия вещи определенным требованиям, что приводило к возникновению дополнительного по отношению к основному договору обязательства (warranty)92.
В случае же, если вещь оказывалась ненадлежащего качества или вообще не тем, о чем заявлял контрагент, а другая сторона по договору не требовала в момент заключения договора предоставления гарантии, действовал принцип caveat emptor — «покупатель должен покупать на свой страх и риск, и его глаза и чувства должны быть ему судьей»93. Иными словами, стороны договора несли полную ответственность за собственное суждение при принятии решения о вступлении в договорные отношения на оговоренных между ними условиях.
В этой ситуации в случае нарушения условия о качестве товара было два возможных иска.
Покупатель мог предъявить иск из деликта по факту обмана (мошенничества), который требовал доказывания злого умысла на стороне продавца94. Но этот иск не давал защиты в случае, если, во-первых, основанием требования было не утверждение о факте, а выражение личного мнения продавца; и, во-вторых, если истец не мог доказать вины в форме умысла на стороне ответчика (например, намеренного умолчания на стороне продавца или нераскрытия информации)95. Следует также сказать, что вплоть до второй половины XX в. в общем случае отсутствовала возможность привлечь лицо к ответственности и взыскать убытки за ложное преддоговорное утверждение, повлекшее за собой заключение договора, если оно было сделано без какого-либо умысла либо небрежно (innocent misrepresentation)96. Такая возможность появилась только с принятием высшей судебной инстанцией решения по делу Hedley Byrne v Hellers97 и последующего законодательного закрепления указанной позиции98. Соответственно, до этого ответчику для того, чтобы избежать ответственности за ложное утверждение, достаточно было доказать, что он искренне верил в правдивость собственного утверждения, поскольку cуды исходили из того, что обязанность не обманывать контрагента заключалась не в высказывании исключительно правдивых заявлений, а в высказывании того, что контрагент полагал правдивым99.
В итоге покупатель мог предъявить договорный иск, но для этого ему нужно было доказать на стороне контрагента наличие отдельного обязательства, гарантирующего, например, оспариваемые свойства товара или вещи. Сделать это было непросто, поскольку доказывание отдельного договорного обязательства требовало демонстрации наличия самостоятельного встречного предоставления (consideration).
Активный рост гражданского оборота с конца XVIII в.100 и возрастание роли договорного права привело к осознанию необходимости сглаживания особенностей регулирования договорных отношений в общем праве, в частности, общего принципа caveat emptor и условий формирования договорного обязательства — warranty.
Необходимость предоставления эффективной защиты в указанных случаях, которая бы отвечала запросам развивающегося торгового оборота, фактически привела к формированию дополнительного, наряду иском из договора и деликтным иском, средства защиты — estoppel by representation.
В 1787 г. в ходе рассмотрения дела Lickbarrow v Mason101 estoppel by representation был введен в практику рассмотрения коммерческих споров102.
Дело касалось перепродажи в пути следования судна груза с кукурузой. При оформлении отправки продавец составил бланковую передаточную надпись на ордерном коносаменте, чем сделал возможным неограниченную перепродажу груза пока тот находился пути. Во время транзита груза грузополучатель успел его перепродать третьему лицу, в то время как сам не успел расплатиться с грузоотправителем (продавцом) и впал в банкротство. Суд встал на сторону конечного покупателя, сказав, что отправитель груза не может оспаривать собственные действия, которые для любого третьего лица свидетельствуют о праве грузополучателя перепродавать груз в пути.
Спустя же 50 лет, в 1837 г., институт estoppel by representation получил свое окончательное оформление и современное понимание в деле Pickard v Sears103. Это решение было уточнено в деле Freeman v Cooke в части квалификации намерения лица, делающего утверждения о факте, как не требующего установления его субъективной вины104. Для применения эстоппеля важны не субъективные намерения утверждающего, а то, может ли воспринять любой разумный человек подобное утверждение как правдивое и направленное на побуждение его к конкретному действию105.
В итоге на сегодняшний день в английской литературе и судебной практике предлагается следующее определение классического эстоппеля:
лицу, чье утверждение о факте дает основание адресату совершить определенное действие, полагаясь на это утверждение, не дозволяется впоследствии в судебном процессе ставить под сомнение правдивость своего утверждения, если в результате у адресата возникнут неблагоприятные последствия106.
Как видно из определения, применение эстоппеля в судебном процессе требует установления следующего юридического состава107: 1) наличие утверждения108; 2) его восприятие адресатом; 3) разумное ожидание автора утверждения, что адресат его воспримет; 4) реальные действия адресата, совершенные под влиянием утверждения; 5) наступление неблагоприятных последствий, если их автору будет дозволено от них отказаться109.
При этом отмечается, что неблагоприятные последствия — это абсолютно необходимый элемент, доказывание которого носит принципиальный характер, поскольку, даже если все вышеназванные элементы фактического состава будут присутствовать, но результат не «шокирует совесть»110, у суда нет оснований для применения эстоппеля. Соответственно, неблагоприятные последствия должны носить реальный111, а не чисто гипотетический характер и находиться в причинно-следственной связи с действиями (воздержанием от действий) лица, воспринявшего и положившегося на утверждение. По своему содержанию эта категория шире понятия убытков и охватывает также потерю возможности совершить какое-либо иное действие, выгодное для адресата утверждения, которое не всегда возможно оценить в денежном эквиваленте112.
С точки зрения роли в гражданском процессе estoppel by representation, или estoppel в строгом смысле этого слова113, — это правило доказывания, направленное на ограничение доказывания фактических обстоятельств дела
