автордың кітабын онлайн тегін оқу Мы были почти счастливы
сергей
авилов
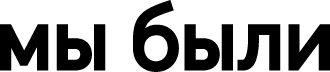
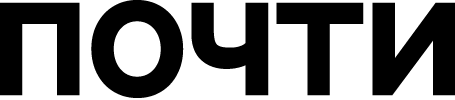
![]()
© С. Авилов, 2026
© ИД «Городец», 2026
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
@ Электронная версия книги подготовлена
ИД «Городец» (https://gorodets.ru/)
Бой с головой затевает еще один витязь,
в упор не признавший своей головы.
А. Башлачёв
— поцелуй меня, — попросила она с доверчивостью маленького ребенка, и голос ее звучал чуть громче шелеста прошлогодних листьев. Двор, где мы стояли, был наполнен ранней весной. В лужах плавали окурки. Стены вокруг нас уходили вверх, почти касаясь неба цвета грязного снега. Она стояла, опустив вниз руки, в тонких пальцах обреченно роняла пепел тающая сигарета.
— Нет, Света, — ответил я ей, глядя сверху вниз на крашеную ярко-рыжую макушку. — Я знаю, чем это закончится.
— Извини, если я смутила тебя, — отвела она влажный взгляд и медленно двинулась обратно к двери студии, где я уже год занимался у нее живописью. В лохматом полупальтишке ее фигура казалась совсем маленькой.
Ей было тридцать четыре, и она в девятнадцать лет приехала в Питер с Урала. Мне — сорок три, и я родился в Петербурге. Итак, начнем с начала.
***
К своим сорока трем я имел за спиной четыре написанных книги, семнадцатилетнего сына, разваливающийся брак и левосторонний инсульт. Весь этот багаж стоит пояснить по отдельности. Инсульт, страшный, геморрагический, свалился на меня в достаточно юном для инсульта возрасте. Мне исполнилось тридцать два. В то несчастное, позорное для меня время я сильно пил. Не просто лихо выпивал, изображая из себя подгулявшего гусара, нет. Я пил серьезно и целенаправленно, уничтожая свою жизнь, мне казалось, что я делал это от несбывшихся надежд, на деле это была обыкновенная, знакомая каждому наркологу зависимость. Как-то, проснувшись ранним утром, я не нашел примитивного опохмела — больше обращаться было не к кому. Зная эту мою беду, соседи не давали мне денег. Я нервничал. Меня трясло, и я курил на лестнице одну сигарету за другой. Какая-то по счету оказалась роковой для одного из сосудов головного мозга. Он лопнул, как камера в перекачанном мяче. Этого я не помню. Первое воспоминание после — реанимация, где над моей головой врач произнес такую фразу: «Допился до инсульта». «Вот, — подумал я, — теперь ты прошел и это». Потом были нелепые, но очень четкие оранжевые сны и паралич правой половины тела. Рука скрючилась, как сухая ветка. Нога за несколько дней сделалась тонкой и неуправляемой. Из угла рта тонкой, липкой ниточкой текла слюна. На моем теле не было никакой одежды, кроме памперсов, застегивающихся на шершавые липучки по бокам. Подробности, мне кажется, можно опустить. Первое время мне виделось, что будущее не состоится. Вернее, оно состояло для меня из завтрака, обеда, ужина, пахнущих отчаянием, и снотворного укола на ночь в ужасающей больнице, больше похожей на барак, с хамскими пергидролевыми санитарками, одна из которых с видом барыни, жалующей шубу, достала для меня где-то ходунки. Раму с четырьмя ногами для инвалидов с повреждением двигательного аппарата. Она не учла одного — того, что я не мог держаться за раму обеими руками. Не желая казаться обреченным, я спустил ноги с кровати, кое-как схватился за ходунки и тут же с грохотом оказался на полу, едва перенеся тяжесть тела на неустойчивую раму. Эту картину мне уже, наверное, не забыть никогда. Я, метр девяносто три ростом, лежу на полу больницы в одном подгузнике.
А после я понял, что время лечит даже тех, кто этому сопротивляется. Моя надежда на то, что все функции сломанного тела восстановятся, таяла с каждым днем. И вместе с тем крепла надежда на то, что люди вполне могут жить и с такими увечьями. В конце февраля, во время санаторного лечения, где я закрутил трогательный и безобидный роман с санитаркой, рука уже не скрючивалась, как раньше, и ходил я по снегу, густо лежащему возле корпуса, похудевший и растроганный маленькой влюбленностью, с определенной уверенностью. На Восьмое марта я подарил санитарке фрукт помело из санаторной лавки. Это было самым небезобидным поступком в наших с ней отношениях.
Вернувшись домой в середине марта, я, протрезвевший, снова бросился в литературу, хотя слово «бросился» здесь звучит несколько преувеличенно. Как броситься в лужу. У меня было пять-шесть скверных рассказов, из которых один напечатали даже в толстом журнале. Это был аванс, выданный мне мэтром на литературной конференции, куда меня занесло лет в тридцать. Тогда мне казалось, что деньги и слава много ближе, чем смерть. Как жестоко я ошибался! Уже потом, когда литература стала для меня делом каждодневным и серьезным, стало понятно, что и деньги, и славу на литературе делают единицы, а вот смерть… Ну понятно.
Вернувшись домой в середине марта, я принялся дописывать свой первый осмысленный рассказ под названием «Живое и мертвое». Он состоял из двух частей, первую из которых — «Живое» — я писал до инсульта. После инсульта я дописывал «Мертвое». Жизнь зачастую занимательней литературы.
Рождение сына сделало меня лучше. Я вдруг стал понимать, что мой эгоизм распространялся и на него. Я хотел, чтобы сын был первым в учебе, спорте и даже в бестолковых детских играх. От этого своего, личного эгоцентризма как будто бы становилось меньше. Так и случилось, но об этом позже. Однажды мы с ним, еще совсем крошечным, неуверенно выговаривающим многие слова, поехали на трамвае в местный Дом культуры. Когда-то, еще в моей юности, в фойе этого учреждения был огромный вольер с желтыми, зелеными и синими волнистыми попугаями. Трепеща крыльями, попугаи перелетали с одной искусственной ветки на другую, при этом во всем фойе стоял веселый щебет. Я надеялся на то, что птички так и живут на своем месте, и хотел показать их сыну. Когда я открыл тяжелую дверь Дома культуры, нас встретила холодная тишина пустых помещений. Мы вошли внутрь. Никаких попугаев, конечно, не было. Я даже не смог определить место, где находился вольер.
— Нет попугаев, — извинительно сообщил я сыну.
— Нет попугаев, — повторил он с той же растерянной интонацией и развел руками.
Подкатило.
Так я понял, что я не только ответственен за сына, я понял, что я его люблю.
Разваливался брак. Как будто с каждым годом домик, выстроенный на берегу океана, понемногу подмывала вода и он достиг того состояния, когда вот-вот может рухнуть в морскую пучину. Последней каплей стал секс. А точнее, его отсутствие.
***
— Поцелуй меня, — попросила она с доверчивостью маленького ребенка.
Не знаю, с чего все началось. Все шаталось, как трухлявое дерево на ветру. Океан лизал ступени хрупкой лачужки.
Я все больше пропадал в студии, куда пошел скорее для самоутверждения, чем от желания научиться рисовать. Попробуйте-ка заново выучиться живописи левой рукой, когда едва умели делать это правой. Я всегда любил вызовы — после инсульта я бросил курить и записался в спортивный зал.
За год занятий в студию приходили заниматься и заканчивали курс множество разных людей. Некоторые из них становились друзьями. Да что там — скорее подругами. Курсы живописи пользовались особой популярностью у женского пола. Я чувствовал там себя как рыба в воде.
С моей инвалидностью и крошечной пенсией я приобрел самое важное — свободное время. И тратил его так, как мне заблагорассудится. Работал я на дому. Расписывал военную миниатюру на заказ, выучившись этому тоже с нуля и тоже под предлогом вызова самому себе.
Короче, студия стала моим вторым домом. Я все реже смотрел в глаза жене.
Не знаю, с чего и когда все началось. На праздновании Нового года в студии, когда мы со Светкой вдвоем, немного пьяненькие, ходили за вином? А потом я продолжил празднование в караоке-баре, в компании ужасно глупой, но офигительной красавицы, при этом все время с теплом думая о Светке.
Или когда я выходил со Светкой, чтобы она покурила, в начале марта? На ней был надет свитер с длинным рукавом, и один из рукавов, левый, задрался, обнажив Светкино ломкое запястье. Там, на тыльной стороне запястья, там, где голубыми ручейками протекают вены, я увидел грубый шрам, перерубающий ручейки. Я поймал ее руку, потом зубами подтянул свитер на своей левой руке. Шрам-близнец перерубал и мои вены. Времена юношеского максимализма и максимальной дури в голове одновременно. И еще: я знал ту, у которой был третий точно такой же шрам-близнец. Точно такой же! Обладательницей шрама-тройняшки была моя самая первая, самая-самая трагическая любовь, после которой мне было уже ничего не страшно.
Позже, уже в середине марта, когда я за неимением лучшего варианта поехал праздновать выход книги «Капибару любят все» к ней в студию? Празднично нагрузившись по дороге пивом, я припер на нашу низенькую кухню с коротконогими обеденными столами и мячом-пуфом три бутылки шампанского? Потом мы со Светкой бегали за водкой и ели винегрет из одной тарелки, а потом я упал на капот такси, которое вызвала мне она. Не знаю. Но что-то настаивалось между нами, непонятное, как брага, поставленная на томатной пасте.
Она и понравилась-то мне не сразу. Разве что на круглом лице с узким подбородком обитали невероятно живые, быстро меняющие выражение зеленые глаза — еще минуту назад они смотрели с глубокой печалью куда-то вдаль (непременный антураж этого выражения глаз — сигарета у рта), и вот уже от них расходятся морщинки смеха, и глаза приобретают задорный блеск. Особый, чистый блеск глаза приобретали с приемом алкоголя. Этот чистый блеск мне потом пришлось видеть слишком часто, и он перестал вызывать у меня умиление.
Вся ее остальная фигурка — анорексичная фигурка худенького, тоненького подростка. Из женского — большая грудь, будто бы слепленная Создателем для другой, более крупной женщины. Достоинства фигуры я понял позже, а тогда, в студии, в брюках, замасленных краской, в непонятном балахоне, мне было скорее жаль того, что для такого лица не нашлось более знакомых глазу, женственных форм. Особенно меня смущало отсутствие таза — в брюках это как-то особенно бросалось в глаза. Через полгода нашего знакомства, когда я узнал, что у Светки есть муж, я даже удивился, наивно полагая, что с таким узким тазом женщина обречена на одиночество.
Преподавала она здорово. Так здорово, что спустя два месяца посещения школы я стал посещать только ее занятия, благо посещение было свободным. Сначала мы даже немного стеснялись друг друга. Пройдя неудобство, побросав кисти в растворитель, вели долгие беседы о живописи на кухне, уничтожая дармовой кофе. Она неплохо разбиралась в стихах, зная наизусть что-то из Бродского. С ней было интересно, как ни с кем другим. А после Нового года началось вот что: она появлялась в студии к одиннадцати пятнадцати, давя ровными зубками мятную резинку, и за запахом мяты легко читался запах свежего перегара. Я недоуменно молчал, тем не менее замечая, что резинка и запах сопровождают каждое ее появление.
Как-то мы сидели на кухне вдвоем, и я мягко спросил ее об этом. С моим алкогольным опытом я знал, что это звоночек и это серьезно. Она высокомерно огрызнулась: «Я что, должна отчитываться?» Я улыбнулся ей в ответ. Светка смягчилась: «Пахнет?»
Пахло. Каждый раз. Мне было ее жаль.
***
В моем доме тоже было несладко. Если мы с женой встречались глазами — тут же отводили их, словно ожегшись. Жена не задавала вопросов так, будто ответы мои ее не интересовали. Секс между нами, и так дышавший на ладан, пропал совсем. Я стал забывать о том, как выглядит ее тело без ежевечерней пижамы.
Лечь в постель в пижаме, отвернуться и ждать, что мое желание, которое должно было возникнуть непонятно откуда, пробудит нашу общую страсть, — теперь ей хотелось, чтобы было только так. Я честно пытался с ней говорить. В припадке злости вынес на помойку все ни разу не надеванное белье, что я покупал ей последнее время. Я стал скрытен и придирчив.
Довершая неурядицы, настоящим несчастьем стала фатальная болезнь нашей не старой еще собаки. Жена называла Феню домовенком. Домовенок породы чихуа медленно, очень медленно приближался к гибели, хотя тогда еще лекарства и уколы поддерживали в нем вполне полноценную жизнь. У меня останавливалось сердце, когда я думал о том, что должно случится с Феней в скором времени. Впоследствии все так и случилось — если болезнь домовенка совпала с началом наших с женой конфликтов, то смерть — с полным распадом семьи.
Только психически уравновешенный сын спокойно готовился к выпускным экзаменам. Отношения родителей — это отношения только родителей, так мы его научили, и он усвоил урок на «отлично».
От этого ужаса я бежал в студию. Пока еще не к Светке, нет, и к другим преподавателям, Светка работала два раза в неделю. Скоро я буду ходить только к ней.
К тому же стал понемногу выпивать, прячась в водке от неконтролируемого мною хаоса. Это, понятное дело, тоже не укрепляло наших с женой отношений. А пока на дворе был март — мы со Светкой стали делиться личным.
***
Она накидывала на худенькие плечи бесформенный пуховик, и мы выходили курить. Точнее, выходила она — я просто стоял рядом. Светка прикуривала сигарету, глубоко затягивалась со звуком «с-с-с-с» и, выдохнув, говорила:
— Ты мне рассказывал про свою жену. У меня же то же самое. Меня, Серёжа, муж не хочет.
— Это как? — честно недоумевал я, топчась у входа в студию в мартовской луже.
— Он говорит, что мое тело его совершенно не возбуждает.
Она снова затягивалась, смотрела куда-то вдаль, и глаза ее были теми самыми, что я полюбил сразу и сильно, — глубокими и печальными.
— И как вы живете? — допытывался я, чувствуя внутри подлую радость от такого ее несчастья.
— Я уже смирилась, что я для него не женщина. Мы друзья.
Тогда еще даже такого факта мне было не понять. Потом же я узнал о том, что это были цветочки. Васильки небольшого размера.
— Понятно, — врал я.
— Вот так вот, — помедлив, отвечала она и снова делала «с-с-с-с».
***
Мою «Капибару…», которую я ей, конечно, подарил, она, по ее признанию, проглотила за три дня. Пришла на работу, принеся на губах пахнущую перегаром, загадочную улыбку.
На обложке стоял комментарий: «Под обложкой — Генри Миллер с русской хтонью». И если с Генри Миллером я бы поспорил, то вот «русской хтони» там было хоть отбавляй! И слово «хтонь» сразу стало нашим со Светкой словом!
«Капибара…» писалась кровью. Герой в романе был моим двойником, разве чуть более холодным. Герой уходил из семьи и ехал с молоденькой проституткой на Север, где пытался обрести временное счастье. Книга заканчивалась групповым сексом — ничего такого, даже в описании этого я попытался держать себя в общепринятых нравственных рамках. Но! Герой предает свою проститутку, и Светкины васильки небольшого размера вдруг, удобренные книгой, стали немного распускаться.
Она курила, нервничая, я это заметил. Потом спросила, стараясь не смотреть на меня:
— У тебя в книге последняя сцена — это все мужчины такие?
Вопрос был неловок, задан топорно, у нее бы хватило ума сформулировать его как-то иначе, но между нами до сих пор было расстояние, пусть оно и сократилось даже не до вытянутой руки, а до того, что мне стоило нагнуться, и я мог бы дотронуться губами до ее щеки.
— Нет, — ответил я, логично ожидая следующего вопроса.
Светка помялась, выпустила дым.
— Когда у нас с мужем был секс, — и продолжила смело, словно сделав важный шаг в пропасть между нами, — он мне всегда шептал, что хочет посмотреть, как меня трахают несколько человек.
Сказав это, она заняла рот сигаретой и нервно ожидала моей реакции.
— Это чудовищно.
Васильки понемногу расцветали, но были еще васильками.
— А мне это противно слушать.
— Неудивительно! — Теперь топтался на краю пропасти я, понимая, что еще чуть-чуть — и расстояния между нами не останется.
— Как же ты с ним живешь?
— Он мой самый близкий друг!
Хорош друг, нечего сказать. В моем окружении друзья вели себя иначе.
Как-то она пришла в студию, и на лице ее была написана очевидная тревога. Я долго допытывался, в чем дело, пока Светка не произнесла:
— У меня первый муж умер.
Нынешний муж, понятное дело, был вторым.
— Держись, — коротко ответил я.
На большее тогда я не имел права.
***
— Поцелуй меня.
Это было в апреле, сразу после моего дня рождения. За полдня до этого, с утра, когда она открыла дверь своими ключами, мы вошли в ставший родным полуподвал. Как и всегда, в нос ударил химический запах уайт-спирита и — сладковатый — непросохшего масла. И еще третий, ставший постоянным, который доносился от Светы.
Мне уже было ее не просто жаль, как любого человека, мне стало жаль ее как женщину, а жалость к женщине во мне очень похожа на жалость к ребенку.
Светка была хмурая, тяжело похмельная, сидела на кухне, держа кружку с кофе обеими руками. На тонких белых пальчиках с обрезанными ногтями виднелись следы засохшей краски.
— Я читала рецензии на твою «Капибару…», — сдержанно поделилась она. От постоянного курева у нее всегда был очень хриплый голос. — По-моему, чушь.
Той весной редакция подала мою книгу на крупную премию, и в интернете то и дело появлялись рецензии на мое детище. На одну из них мой приятель отреагировал так: «По-моему, когда этот критик пишет — он пьет». «Мне кажется, что он пьет даже тогда, когда не пишет», — отреагировал я.
— Ты думаешь, чушь? — Приятно, когда тебе говорят, будто ругань в твой адрес несостоятельна.
— Конечно. — Светка поежилась, поставила кружку на стол, вынула из кармана пачку сигарет. — Такое впечатление, что критики читают начало и конец.
Отчасти это было правдой, я немного знал эту кухню.
До окончания курсов мне оставалась финальная работа. Конечно, научиться живописи за год практически невозможно, так же невозможно, как сделаться, например, врачом или музыкантом, но у меня появились определенные навыки, с которыми жизнь в прямом смысле обрела новые краски. Финальной работой был натюрморт: лампа, ваза с засохшими цветами, мобильный телефон, пара женских серег и кухонный нож, никак не вязавшийся с прочими предметами. Создавалось ощущение того, что на картине сейчас произойдет что-то нехорошее. Среди кухонной утвари нож был бы просто ножом для нарезания овощей или фруктов. В ноже рядом с мобильным телефоном было много зловещего. Идею подсказала, конечно, Светка.
Работа была выполнена на треть. Мне она нравилась.
Светка сидела, нахохлившись, на преподавательском месте. Я и еще три или четыре человека с переменным успехом писали свои нетленки. Время от времени она выходила курить, и я стоял вместе с ней.
— Ты чего такая грустная? — спросил ее я.
— С мужем поругалась опять. Сплошная хтонь, — невесело и отчужденно ответила она.
— Помиритесь, — фальшиво успокоил ее я. По неясной причине меня радовали ее супружеские раздоры.
— После ссоры я вчера ушла из дома, сижу под окном на лавочке, пью пиво. Хоть бы вышел.
— Так и не помирились?
— Нет.
После обеда я заметил, что Светка зачастила в учительскую каморку. И запах перегара стал превращаться в запах только что выпитой водки.
Мы снова вышли курить.
Она смотрела на меня — невысокий подросток с чудесными, почти мокрыми от накатывающих слез глазами. Там, где у меня было сердце, стремительно теплело.
— Поцелуй меня.
Целовать я ее не стал. Тогда мне показалось это слишком жестоким — как подобрать на улице умирающего котенка и, накормив, выбросить его обратно.
— Извини, если я тебя смутила, — извинялась она зря — смущена была она.
В десять вечера студия закрывалась. К девяти мы остались с ней вдвоем. Между нами поселилось какое-то неудобство, заместившее собой расстояние. Я чувствовал свое сердце, чувствовал, как оно сжимается в груди на невидимых нитях. Писать я уже не писал, так — возился у мольберта, добавляя картине ненужные штришки.
Светка, еще хорохорившаяся в присутствии других людей, теперь совсем притихла. Я не знал, как сломать ее отчуждение.
— Хочешь выпить? — вдруг предложила она, хрипло и тихо.
И я знал — этот способ растопить неудобство самый действенный.
В низких окнах студии была чернота, как если бы кто-то заклеил окна черной бумагой. Наш с ней мирок сузился до ярко освещенной маленькой студии, где мы остались одни, и между нами что-то происходило.
Светка принесла из учительской маленький рюкзачок, поставила на преподавательский стол. Когда молния рюкзачка разъехалась, я увидел на дне две четвертинки водки — одна из них была пустой. Светка со знанием дела решительно отвернула пробку и сделала глоток, даже не поморщившись. Сделал глоток и я.
— Как ты ее без запивки-то, а? — глупо спросил я.
— Нормально. Это как горькое лекарство — просто принял и проглотил.
Я-то знал, какое это лекарство.
— У меня есть комната в коммуналке, — рассказывала она, когда мы сидели нос к носу за столом, — но муж не хочет жить отдельно, он не хочет уходить из своего дома, поэтому мы живем с его родителями и братом. Коммуналку можно было бы сдавать, а квартиру снимать. А так тусим все вместе на «Старухе».
— Где? — не понял я.
— На «Старой Деревне». Серёжа, я бы сделала в коммуналке ремонт, если бы он мне помог, но ему вообще фиолетово. А так она стоит пустой и только каждый месяц ест квартплату. О господи, как все надоело.
Губы ее были очень близко, но я не смел к ним прикасаться. Я еще врал себе, будто фатального можно избежать.
Ровно в десять мы поставили студию на сигнализацию и вышли во двор. Вокруг было тепло и тихо. Освещенные окнами верхних этажей тополя выглядели так, будто их силуэты нарисовали углем. Спала бездетная школа напротив. Блестели лужи. Расходиться казалось невозможным.
— Может, возьмем еще и посидим на лавочке? — просто предложила она.
— Уже десять. Не продадут, — грустно ответил я.
— Пойдем, продадут, меня там все знают.
И я взял ее за руку, чувствуя по отдельности каждый пальчик, перемазанный краской.
Мы молча шли вдоль забора школы, потом пересекли площадку с лавочками, белеющими вокруг почти невидимой в темноте клумбы. Лавочки были пусты — местные алкаши еще не отреагировали на резкое потепление.
Магазин находился метрах в ста, под аркой, и да, ее там все знали. Молодой нерусский продавец поприветствовал ее как знакомую.
— Пол-литра «Алтайской», пачку Winston — скороговоркой выдала она. — Мы запивать будем?
Я кивнул.
Создавалось ощущение, что это ее ежедневный рацион. Хотя, скорее всего, так оно и было. И еще я заметил интересную штуку: в магазине она вдруг стала уверенной женщиной, которую жалость может даже оскорбить.
— По карте, — бросила Светка, пикнул и зашипел, выдавая чек, терминал, она сложила покупки в рюкзачок, и мы вышли на улицу.
— Пойдем на лавочки?
— Ага.
***
Я вливал водку, пытаясь заглушить в себе ощущение того, что все происходящее — правда. Потом выдохнул, осторожно взял Светку за затылок и провел языком по ее мокрым, холодным губам. Она откликнулась. И даже тогда, когда почувствовал ее жаркий язык, в случившееся верилось с трудом.
Я помню, что мы болтали и целовались одновременно. Такого опыта у меня еще не было. Вокруг стояли нарисованные углем тополя и желтым светились окна домов. Скудный свет человечьих жилищ не достигал того места, где мы со Светкой творили большое и важное дело поцелуев.
Стоял апрель.
Нам было жарко.
— Пойдем в студию, — предложила она. Глаза ее светились в темноте, вокруг губ поблескивала моя слюна.
— А сигнализация?
— Главное — свет не включать.
Как так?
Мне было наплевать, что закроется метро и как я попаду домой на другой край города, мне было наплевать, что правая моя рука висит, как плеть, наплевать на хромоту и подло наплевать на то, что дома ждет жена и, конечно, беспокоится.
Мы проделали обратный путь по укладывающемуся спать кварталу, по дороге, блестящей от луж, мимо спящей школы и вернулись в теплую, темную теперь студию. Мы почти на ощупь, освещая путь фонарем телефона, пробрались на кухню, где кроме мяча-пуфа для сидения был еще угловой топчан, на котором теоретически можно было устроиться лежа, и, едва скинув верхнюю одежду, набросились друг на друга с пьяной яростью. Фонарик телефона, лежащий на столе, своим синеватым светом придавал нашим действиям какую-то нереальность.
Я почти не видел ее тела тогда, в студии. Все было темно и тесно. Прихотливая память оставила лишь ощущение моей ладони на ее груди — Светка лежала на спине, и грудь растеклась по грудной клетке в разные стороны.
То, что Светка знает толк в любви, я понял уже тогда.
Было тесно, пьяно, жарко. По всем вышеперечисленным причинам ничего полноценного не получалось.
Мы сели на топчан и допили водку.
Расставаться казалось невозможным.
— Поехали ко мне в коммуналку! У меня есть ключи! — предложила она, ставя на стол пустую бутылку. Бутылка нежно звякнула в темноте.
— Поехали, — ответил я. Мне было все равно, куда ехать, лишь бы с ней.
— Только там ничего нет.
Мне было наплевать. Только бы с ней.
— Ерунда.
— Серёжа, ты не понял — там вообще ничего нет. Только шкаф. Придется спать на полу.
— И трахаться на полу?
Она кивнула.
Вдруг воцарилась полная тьма — экран ее телефона потух. Села батарея. Минут за пятнадцать до этого села она и у моего аппарата. Источников света больше не было — мы сидели нагие, как пещерные люди, в абсолютной темноте, и я различал только тепло, излучаемое ее близким телом.
Через некоторое время из темноты абсолютной мы выбрались в темноту относительную.
— Надо вызвать такси. — В Светке, пьяной, вдруг прорезался уральский говорок, о котором она как-то рассказывала: гласные буквы произносятся с почти сомкнутыми губами. Впоследствии я наблюдал это очень часто.
— У нас нет телефонов, — заметил я.
— Тогда пойдем на проспект.
И мы, обнявшись и немного пошатываясь, двинулись прочь от студии.
***
Такси мы поймали легко. Недолго ехали по ярко освещенному ночью проспекту, потом свернули на тихие улицы возле Фонтанки.
— Серёжа, нам надо купить алкоголя, — со знанием дела сообщила Светка, когда мы, расплатившись, вывалились из автомобиля.
И я, конечно, согласился, совершенно не представляя, где можно купить алкоголь в такое время.
Улица была узкая, пустая, по обеим ее сторонам плечом к плечу, как солдаты какого-нибудь канувшего в прошлое Семёновского полка, несли службу красивые старые дома. Пятна фонарей, мокрый асфальт и черные, кротовьи норы арок.
— Вот в этом доме моя коммуналка, а нам туда. Тут есть ночник — попробуем договориться.
