автордың кітабын онлайн тегін оқу Ветер крепчает
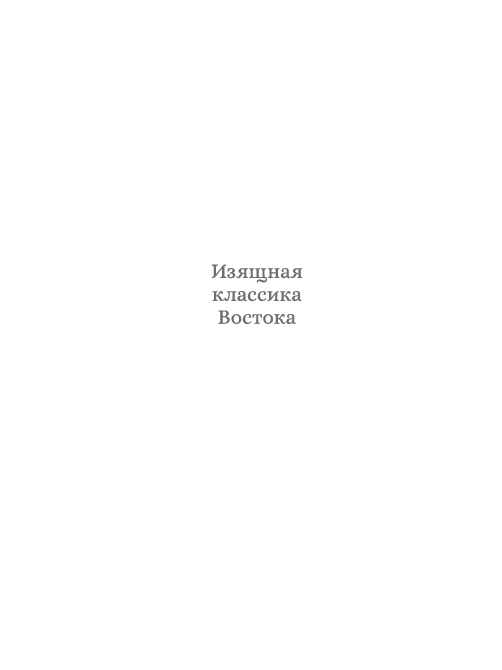

Перевод с японского Екатерины Юдиной
Серийное оформление и оформление обложки
Вадима Пожидаева-мл.
В оформлении использованы
фрагменты гравюр японских художников
Охары Косона, Кацусики Хокусая,
Утагавы Хиросигэ и других
Хори Т.
Ветер крепчает : романы, повести, рассказы / Тацуо Хори ; пер. с яп. Е. Юдиной. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2025. — (Изящная классика Востока).
ISBN 978-5-389-29445-5
16+
Тацуо Хори — признанный классик японской литературы, до сих пор малоизвестный русскому читателю. Его импрессионистскую прозу высоко оценивал Ясунари Кавабата, сам же Хори считал себя учеником и последователем Рюноскэ Акутагавы.
Главные произведения писателя — «Ветер крепчает», «Красивая деревня», «Наоко», «Дом под вязами» — были созданы в период между 1925 и 1946 годами, когда литературную жизнь Японии отличало многообразие творческих направлений, а влияние западной цивилизации и вызванное им переосмысление национальной традиции порождали в интеллектуальной среде атмосферу постоянного философского поиска. Эта атмосфера и трагичные обстоятельства личной жизни Тацуо Хори предопределили его обостренное внимание к конечности человеческого существования, смыслу, ценности и красоте жизни. Утонченный эстетизм его прозы служит способом задать весьма непростые вопросы, не произнося их вслух. В то же время среди произведений Хори есть вещи, настолько переполненные любовью к окружающему миру, что всякая мысль о смерти бесследно тает в искрящемся восторге земного бытия.
Большинство произведений, вошедших в настоящий сборник, впервые публикуются на русском языке.
© Е. А. Юдина, перевод, послесловие, 2025
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2025
Издательство Азбука®
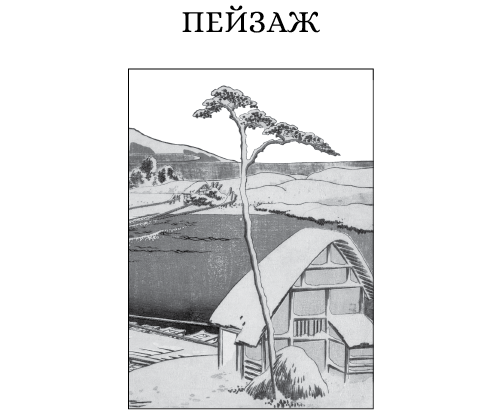
На пристани, как всегда, было людно: повсюду толкались матросы, от которых разило спиртным, рабочие деловито разгружали судно. Я не полез в толчею, а, напротив, пошел искать тишины и уединения. По пути забредал то в один уголок, то в другой и, когда совсем уже заплутал, оказался вдруг в довольно чуднóм месте.
Но стоило только подумать о том, что выглядит оно весьма странно, как ощущения переменились: меня охватило волнение. Подобное чувство испытываешь, когда открываешь для себя новый, невиданный ранее пейзаж.
Вокруг было невероятно тихо. Я не очень хорошо понимал, где оказался, но поскольку попал сюда, когда бесцельно гулял вокруг пристани, то мог предположить, что и этот закуток находится в ее окрестностях. В одном я не сомневался: сама пристань осталась где-то в стороне. Долетавшие отзвуки ее разноголосицы были настолько слабыми, что не нарушали, а лишь подчеркивали царившую здесь тишину.
На берегу, в широком кольце высокой ограды, возвышалось обветшалое здание. Других построек рядом не было, но и оно одно сильно ограничивало обзор, полностью скрывая береговую полосу: с того места, где я стоял, можно было любоваться лишь морем. Мне подумалось, что передо мной, должно быть, самый край набережной и я, похоже, забрел во внутренний двор этого дома. Впрочем, обычного для таких мест садика я не наблюдал: в ограде не росло ни единого деревца. Просто участок голой земли, из которой кое-где торчали редкие сорняки. Ничего похожего на береговую насыпь тут тоже не было: двор внезапно обрывался прямо в воду.
На волнах, посреди лоскута водной поверхности, что попадал в мое скромное поле зрения, покачивался одинокий пароход. Он выглядел таким старым, словно достался этому берегу в наследство от прошедших эпох. И хотя в облике его было что-то от детских игрушечных корабликов, размеры поражали воображение. Возникало даже чувство какой-то дисгармонии: будто огромному судну на этом пейзаже не хватало места и оно стремилось вырваться за рамки картины. Это ощущение, похоже, усиливалось оттого, что его освещенный косыми солнечными лучами корпус отбрасывал на воду чудовищно длинную тень.
Какое-то время я, как ребенок, с восторгом разглядывал пароход, а затем вниманием моим завладело небо. Там что-то сияло, словно мелкие стеклышки. Над пароходной мачтой парили стайкой бессчетные белоснежные облачка. Одни, неспешно двигавшиеся вперед, походили на рыб. В других было что-то от медуз. А третьи, застывшие неподвижно на месте, напомнили мне красивые ракушки. Как будто в небесах зеркально отразились все сокровища морских глубин. Поначалу мне казалось, что вдали я различаю полоску суши и даже вижу там группу похожих на игральные кости зданий в европейском стиле, но, пока глядел в небо, далекий оазис уплыл ввысь — к мачте корабля. Эти замки тоже оказались воздушными...
Я был пленен не живописностью берега. В нем чувствовалось что-то иное, что-то сверхживописное, превосходящее красоту любых пейзажей. Первое мое впечатление — то изумление, которое испытываешь, когда открываешь новые виды, — все еще жило во мне, до сих пор не утратив своей свежести. Так что же это такое? Забыв на время о пароходе и облаках, которыми любовался до сих пор в каком-то детском упоении, я пустился в философские рассуждения об истинной природе представшей передо мной картины. И пришел к мысли, что красота этой местности сродни очарованию некоторых выражений на самых обычных и простых человеческих лицах. Точнее было бы сказать, что весь этот пейзаж выглядел как будто чрезвычайно смущенным — так могла бы повести себя впечатлительная барышня, ощутив чересчур пристальный взгляд. Непрестанное колебание волн выдавало учащенное биение взволнованного сердца...
Неожиданно внимание мое привлекло какое-то движение на палубе корабля. Я прищурился, пытаясь разглядеть, что там происходит. Когда от напряжения уже заболело между глаз, я наконец заметил матроса: тот стоял, облокотившись на фальшборт, и вкусно, со смаком попыхивал цигаркой.
Увидев струйку дыма, я и сам захотел курить. Достал из портсигара сигарету и зажал ее в зубах. Но под руку постоянно задувал сильный ветер и никак не давал зажечь спичку. Мне вдруг вспомнились облака, плывшие в вышине, словно рыбы. «Э-э, гиблое дело, на таком ветру...»
Я непроизвольно огляделся вокруг. Взгляд мой упал все на ту же обветшалую постройку. «Вот и славно, там точно можно укрыться от ветра», — решил я и без промедления направился к ней. Но, когда вплотную приблизился к запыленной стене, обнаружил одну удивительную вещь. От ее обшарпанной на вид поверхности явственно пахло свежей краской. Посчитав, что меня подводит обоняние, я не придал своему открытию особого значения и попытался прикурить, но оказалось, что ветер здесь, напротив, задувает еще сильнее — как будто у стен он только разгонялся. Я упорно кружил возле здания, переходя с места на место, но лишь впустую, одну за другой изводил спички.
Неожиданно раздался резкий звук — мне словно швырнули в голову пригоршню гальки. Я в растерянности оглянулся на постройку. Оказалось, это со стуком распахнулись оконные створки: в стене, прямо надо мной, виднелось застекленное оконце, на которое я прежде совершенно не обратил внимания. В следующее мгновение в раскрытом окне показалось перекошенное от гнева лицо какого-то мужчины европейской наружности.
— Здесь курить нельзя! — ни с того ни с сего закричал он на меня.
Я опешил, совершенно не понимая, что происходит, и в ответ на окрик адресовал ему лишь полный недовольства взгляд. Но тут в его облике, особенно в похожих на две сигары коричневых усах, мне почудилось что-то смутно знакомое. Впрочем, дежавю длилось не более секунды. Потому что лицо мужчины почти сразу скрылось за створками, которые с тем же невообразимым звуком захлопнулись.
Так я вместе с моей незажженной сигаретой был выдворен из-под окна и вообще за пределы этого пейзажа. Мало того, в какой-то момент я по рассеянности сигарету прикусил и в конце концов, измусолив тонкую бумагу, ощутил во рту странную горечь, источаемую табачными листьями.
Когда я, смирившись с неизбежным, покидал двор, взгляд мой случайно упал на нечто, отдаленно напоминающее ворота. Ветхая деревянная конструкция уже почти рассыпалась в щепу. Неудивительно, что по пути сюда я совершенно не обратил на нее внимания. Мне вдруг стало любопытно, что же это за здание, и я принялся осматривать ворота в поисках какой-нибудь таблички. Таковая нашлась довольно скоро. Вот только некоторые символы на ней совсем уже выцвели и надпись читалась с трудом. В итоге мне удалось не то разобрать, не то угадать написанное: «...таможня».
«Вот оно что! Так здесь располагается таможня? Да уж, курить в таком месте — это, конечно, как-то... Постойте-ка! А вдруг этот похожий на европейца господин, отчего-то показавшийся мне знакомым, тот самый Таможенник Руссо? Я никогда не видел этого человека вживую, только на автопортретах, но мужчина, внезапно выглянувший из окна, буквально сошел с одной из тех картин».
Пока в голове моей вертелись эти мысли, я внезапно вспомнил, что от здания пахло свежей краской. Уж не был ли это запах красок, которые использовал в своей мастерской Руссо? А если так, то художник, очарованный тем же видом, что пленил меня, наверняка запечатлевает его сейчас на полотне. Вот он стоит, погруженный в свою работу, и вдруг гробовую тишину его мастерской нарушают доносящиеся из-за окна звуки «шурх-шурх, шурх-шурх»: кто-то без остановки чиркает спичками. Поначалу художник не обращает на эти шорохи особого внимания, но они не стихают. Ему начинает казаться, что над ним издеваются, он понемногу теряет терпение и в конце концов решительно подходит к окну. Распахивает створки и, когда видит снаружи какого-то мужчину, тут же разражается криком...
Как только фантазия разыграла описанную сценку до конца, на меня будто снизошло озарение. Может ли быть, чтобы необыкновенное внутреннее волнение пейзажа, на который я смотрел, происходило оттого, что он осознавал: в этот самый момент внутри этого самого таможенного здания его запечатлевает Анри Руссо? Должно быть, меня, стороннего наблюдателя, так глубоко тронула именно красота, порожденная осознанием момента?
Столь неожиданный вывод вернул мне бодрость духа. Во мне боролись, без конца сменяя друг друга, свет и тьма, радость и печаль. Как соперничали, кажется, в тот день и лето с осенью. Стараясь двигаться как можно тише, я ушел от ворот таможни, так и не прикурив.

Это был угольно-черный автомобиль.
Подъехав к главному входу станции Каруидзава [1], автомобиль остановился, и из него вышла девушка, по виду немка.
Молодой человек подумал, что такое шикарное авто не может быть обычным такси, но тут заметил, как укрывшаяся под желтой шляпой девушка, выходя, что-то между делом передала водителю, поэтому прошагал мимо нее — прямиком к машине.
— В город, пожалуйста.
Сел. Огляделся: в салоне все было белоснежным. Едва уловимо пахло розами. Он снова подумал о девушке в желтой шляпе, с которой только что совершенно бездумно разминулся. Автомобиль резко повернул.
Ощутив внезапный прилив любопытства, молодой человек обвел взглядом салон. И обнаружил на слабо вибрирующем полу непросохшие капли слюны. Открытие было неожиданным, но доставило необъяснимое удовольствие. Он прикрыл глаза, и пятнышки слюны представились ему осыпавшимися цветочными лепестками.
Спустя какое-то время он снова открыл глаза. Увидел затылок шофера. Затем приблизил лицо к оконному стеклу. За окном проплывали луга успевшего выпустить метелки мисканта. Как раз в этот момент в противоположном направлении — к станции — пронеслась другая машина. Похоже, люди уже покидали нагорье.
На самом въезде в город рос высокий каштан.
Молодой человек попросил водителя остановиться возле него.
* * *
Машина, обремененная одним лишь его чемоданом, помчала к отелю, стоявшему на некотором удалении от городка.
Глядя, как постепенно оседает поднятая колесами пыль, он неспешно зашагал по главной улице.
Там было намного тише, чем он ожидал. Даже слишком тихо — он едва узнавал знакомые места. А все потому, что до сих пор из года в год приезжал на этот летний курорт в самый разгар сезона.
Впрочем, очень скоро он приметил памятное здание почты.
Перед почтой собралась компания дам-европеек в нарядах всех возможных цветов.
Когда он на ходу издалека поглядывал в их сторону, они сливались для него в радугу.
Это зрелище оживило в нем воспоминания года минувшего.
Вскоре он уже вполне отчетливо различал, о чем дамы беседуют. А когда поравнялся с ними, почувствовал, будто идет под кроной дерева, на котором щебечет стая птиц.
И в этот момент случайно заметил, как чуть дальше по улице сворачивает за угол девушка.
Не может быть! Неужели она?
С этой мыслью он немедля прошел до нужного поворота. Там начиналась тропинка, убегавшая в сторону холма, который европейцы прозвали Креслом Великана: по этой тропинке и удалялась теперь от него девушка. Но ушла пока не слишком далеко — он опасался, что расстояние между ними окажется больше.
Да, это, несомненно, она.
Он тоже свернул на тропинку, уводившую в противоположную от отеля сторону. Никого, кроме девушки, на тропе не было. Он хотел ее окликнуть, но почему-то не решился. Его вдруг охватило странное чувство. Показалось, будто вместо воздуха весь окружающий мир наполнился водою. Идти стало тяжело. Он то и дело ненароком натыкался на что-то похожее на рыбу. Были там крошечные рыбки, что скользили мимо, едва задевая морские раковины его ушей. Но были и другие — почти как велосипед. Он слышал лай собак, петушиные крики, но все это доносилось словно с далекой поверхности водного зеркала. И над головой его не стихал неясный шум, в котором угадывался не то шелест листвы, не то плеск набегающих друг на друга волн.
Он решил, что пора уже окликнуть девушку. Но стоило об этом подумать, как рот ему словно заткнуло пробкой. Шум над головой все усиливался. И тут вдруг впереди показалось знакомое бунгало цвета охры.
Домик со всех сторон окружали густые заросли, и фигура девушки растворилась среди буйно разросшейся зелени.
Едва это случилось, как сознание его мгновенно прояснилось. Он решил, что идти с визитом в дом сразу вслед за ней будет не совсем хорошо. Поэтому, не зная, чем еще себя занять, принялся бродить по тропинке взад и вперед. Благо, других путников в тот момент не наблюдалось. Когда же через некоторое время послышались шаги — кто-то приближался со стороны подножия Кресла, — он, сам не понимая, что творит, спрятался в высокой траве недалеко от тропы. И оттуда, из укрытия, проследил за тем, как мимо широким, энергичным шагом прошел какой-то европеец.
А девушка все еще стояла в саду. По пути к домику она обернулась и увидела, что он идет следом. Однако останавливаться и ждать его не стала. Ей было немного неловко. Всю дорогу она чувствовала его взгляд, устремленный издалека ей в спину, и по коже пробегали мурашки. Она представляла, как красиво переплетаются у нее на спине непрестанно сменяющие друг друга тени листвы и солнечный свет.
Девушка в саду ждала. А он все не шел. Ей казалось, она понимает, почему он колеблется и тянет время. Наконец спустя несколько минут она увидела, как он входит в ворота.
Не соразмерив своих сил, гость слишком резко сдернул шляпу. Получилось до того забавно, что даже на губах девушки промелькнула очаровательная задорная улыбка. А заговорив с молодым человеком, она почти сразу невольно отметила в нем удивительную свежесть и обостренную чувствительность, свойственную оправившимся после болезни людям.
— Как ваше самочувствие? Вы уже вполне здоровы?
— Да, совершенно!
Отвечая, он чуть прищурился, будто спасаясь от слепящего света, и вгляделся в ее лицо.
Лицо это было классически прекрасно. Розовая кожа выглядела слегка набрякшей. Когда девушка улыбалась, блуждающая улыбка лишь скользила по лицу тенью. Про себя он всегда втайне именовал ее Фантазией а-ля Рубенс.
Пока он, прищурившись, любовался ею, ему действительно открывалось нечто совершенно новое. Казалось, он чувствует то, чего прежде никогда не чувствовал. Он смотрел только на ее зубы. На ее бедра. И не предпринимал ни малейшей попытки поддержать разговор о болезнях. Вовсе ни к чему вспоминать об этой досадной стороне реальности: что в ней примечательного? Вместо этого он с воодушевлением принялся описывать незнакомку в желтой шляпке и доставивший ее черный автомобиль с белоснежными сиденьями, утверждая, будто видение это по красоте не уступало сценам из европейских романов. А затем с нескрываемым удовольствием добавил, что и сам приехал на этом автомобиле, в салоне еще ощущался запах девушки.
О следах слюны на полу роскошного авто он умолчал. Решил, что так будет лучше. Но, обходя молчанием эту деталь, почувствовал, что приятное удовлетворение, которое испытал, увидев в пятнышках слюны опавшие лепестки, как ни странно, до сих пор в нем не ослабло. «Нехорошо», — подумал он. И с этого момента начал все чаще спотыкаться на полуслове. Наконец речь его стала совсем невнятной. Девушке, в свою очередь, тоже было тяжело наблюдать смущение гостя. Не зная, что предпринять, она спросила:
— Не хотите пройти в дом?
— Да, пожалуй.
Хотя на самом деле оба были бы рады подольше постоять в саду. Но чтобы произнесенные секунду назад слова не обратились явной нелепицей, им в конце концов пришлось направиться к дому.
В этот момент они заметили мать девушки: женщина наблюдала за ними сверху, с балкона, — словно ангел с небес. Жмурясь от света, они подняли на нее глаза и невольно зарделись.
* * *
На следующий день дамы пригласили молодого человека на автомобильную прогулку.
Автомобиль с бодрым рычанием несся по опустевшему к концу лета горному плато.
Трое пассажиров почти не разговаривали друг с другом. Но молчание их не тяготило, поскольку каждый из них в равной степени наслаждался сменой видов за окном. Изредка тишину нарушал чей-нибудь негромкий голос. Однако звуки моментально тонули в глубокой тишине, вновь повисавшей в салоне, так что закрадывалось сомнение: неужели и правда кто-то что-то говорил?
— Взгляните! До чего прелестное облачко... — Проскользив взглядом вдоль указующего перста старшей из дам, можно было увидеть над одной из красных крыш небольшое облако, формой напоминающее морскую раковину. — Вам так не кажется?
После этого, вплоть до самого прибытия к расположенному у подножия вулкана Асама [2] отелю «Грин», молодой человек попеременно разглядывал то изящные, тонкие пальцы матери, то пухлые пальчики дочери. Царившее в машине безмолвие благоприятствовало подобному занятию.
В «Грин» не было ни души. Бой сказал, что отель думали уже закрывать, поскольку все гости разъехались.
Они вышли на балкон: сезон был на исходе, и открывшаяся взгляду картина поражала блеклой неприглядностью. Лишь поблескивали плавно очерченные глянцевитые бока вулкана Асама.
Снизу балкон подпирала плоская кровля какой-то постройки: казалось, стоит только переступить через низенькие перильца, и окажешься на крыше. Кровля была до того плоской, а перила до того низкими, что девушка, оглядев их, призналась:
— Я хочу попробовать пройтись там.
Мать возражать не стала, но посоветовала ей спускаться вместе с молодым человеком. Тот без промедления сошел с балкона на крышу. Девушка с улыбкой последовала за ним. Они добрались до самого края, и тут молодой человек ощутил беспокойство. Кровля все-таки имела некоторый уклон, отзывавшийся в теле легким чувством неустойчивости, но дело было не только в этом.
Встав у края крыши, молодой человек случайно бросил взгляд на руки девушки — и внезапно обратил внимание на кольцо. Ему представилось: вот она делает вид, будто скользит вниз — в действительности подобной опасности ей здесь, конечно, не угрожало, — хватает его за руку и сжимает ее так крепко, что кольцо больно впивается ему в пальцы. Картина эта вызвала в нем удивительную тревогу. Чуть заметный уклон кровли показался вдруг весьма ощутимым. И когда девушка предложила: «Давайте вернемся», он невольно испытал облегчение. Она первой поднялась обратно на балкон. Он уже собирался последовать за ней, когда услышал, как дамы переговариваются между собой.
— Ну что, разглядела что-нибудь занятное?
— Видела, как наш шофер там, внизу, качается на качелях.
— Только и всего?
Донесся тихий звон тарелок и ложек. Молодой человек, покраснев, в одиночестве поднялся на балкон.
Прозвучавший вопрос: «Только и всего?» — долго не шел у него из головы, он вспоминал о нем за чаем и на обратном пути, пока ехал в автомобиле. В самом вопросе, в том, как он был задан, слышалось беззаботное веселье женщины. И еще что-то сродни беззлобной иронии. И еще — как будто безразличие: подумаешь, какой пустяк...
* * *
На следующий день он дошел до их коттеджа, но никого не застал: дамы получили приглашение на чай и отправились в гости.
Он решил в одиночку подняться на Кресло Великана. Но очень скоро передумал, разочаровавшись в затее, и вернулся в город. Неспешно пошел по центральной улице. И тут приметил впереди знакомую особу. Барышня была дочерью одного именитого барона и каждый год проводила летний сезон на горном курорте. В прошлом году он не раз встречал девушку в окрестных лесах и на дороге через перевал, где она любила кататься верхом. Во время таких прогулок вокруг нее всегда вилось пять-шесть юношей, в жилах которых текла, судя по всему, не только японская кровь. Они мчали вперед, погоняя своих коней — четвероногих или двухколесных.
Сам он тоже находил, что дочь барона прелестна, словно татуированная узорами бабочка. Но тем и ограничивался, не уделяя барышне особого внимания. Хотя окружавшие ее мальчики-полукровки вызывали у него безотчетное раздражение. Из чего можно было заключить, что определенный интерес — достаточный для такого легкого укола ревности — он к барышне все-таки испытывал.
Не задумываясь о том, что делает, он пошел вслед за девушкой, но вскоре разглядел среди двигающихся навстречу редких пешеходов некоего юношу. Это был один из мальчиков-полукровок, прошлым летом повсюду сопровождавший красавицу и неизменно составлявший ей пару на танцевальных вечерах и теннисном корте. Мелькнула отразившаяся недовольством во взгляде мысль, что лучше будет побыстрее ретироваться. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. А именно: баронесса и ее кавалер разошлись посреди улицы, проигнорировав друг друга. Лишь на одно мгновение — то мгновение, когда они, двигаясь каждый в свою сторону, оказались рядом, — черты лица юноши исказились, словно заслоненные кривым стеклом. Чуть позже выпал шанс украдкой глянуть в лицо баронессы: та была страшно раздражена.
Эта сцена произвела на молодого человека необыкновенное впечатление. Он даже нашел в жестокосердии красавицы какое-то извращенное очарование. Сочувствовать мальчику-полукровке он, разумеется, не мог.
Вечером, когда он уже лег в кровать, его долго не покидал навязчивый образ баронессы, то и дело возникающий под опущенными веками и вновь исчезающий — словно мотылек, который кружит, раз за разом подлетая к одной и той же точке. Стараясь прогнать видение, он попытался представить свою рубенсовскую Фантазию. Но при сравнении с баронессой она показалась не более чем выцветшей репродукцией, и это открытие лишь усугубило мучения.
* * *
Тем не менее с наступлением утра загадочная притягательность видения пропала, как пропали куда-то с рассветом и ночные мотыльки. Пришло чувство необъяснимой свежести. В первой половине дня молодой человек предпринял длительную прогулку. Ближе к полудню решил немного отдохнуть и остановился выпить в путевом домике холодного молока. Подумалось даже, что если он в таком бодром расположении духа возьмется излагать вчерашний инцидент Фантазии и ее матери, дамы, пожалуй, не воспримут этот случай сколько-нибудь серьезно.
До города было еще довольно далеко, вокруг раскинулась лиственничная роща.
Он сидел за деревянным столом, подперев рукой щеку, а над головой у него болтал попугай, подражавший человеческой речи.
Однако птичья болтовня его не интересовала. Он самозабвенно рисовал в воображении свою рубенсовскую Фантазию. Образ наполнялся непривычно сочными красками, и это было приятно...
Тут он услышал, как по узкой тропинке, которая с его места была не видна — обзор перекрывали ветви деревьев, — к домику подъехала пара велосипедистов. Вслед за тем раздался звонкий голос: разглядеть, кто говорит, все еще не представлялось возможным, но голос несомненно принадлежал девушке.
— Может быть, зайдем выпьем чего-нибудь?
Услышав этот голос, молодой человек удивился.
— Опять? Мы уже третий раз останавливаемся, — отозвался мужской голос.
Молодой человек со смутным беспокойством посмотрел на пару, которая зашла в путевой домик. И, против ожиданий, увидел встреченную накануне баронессу. Спутник ее, весьма элегантный, с изящными чертами лица, был ему незнаком.
Бросив взгляд в сторону молодого человека, спутник баронессы направился к столику в противоположном конце зала. Но барышня предложила:
— Сядемте лучше поближе к попугаю.
И пара села за ближайший к молодому человеку столик.
Барышня повернулась к нему спиной — как ему показалось, нарочно. Попугай, изображая человеческую речь, кричал все громче. Барышня время от времени изгибала стан, оборачиваясь, чтобы взглянуть на птицу. И каждый раз, когда она так делала, молодой человек спешил отвести нацеленный ей в спину взгляд.
Барышня щебетала не умолкая, обращаясь то к своему спутнику, то к попугаю. И голос ее порой звучал точь-в-точь как голос Фантазии а-ля Рубенс. Это-то сходство и удивило молодого человека, когда он услышал, как она говорит.
Спутник баронессы не только чертами лица, но и утонченностью манер разительно отличался от прошлогодних мальчиков-полукровок. Все в нем было в высшей степени деликатно и аристократично. В столь резком контрасте между кавалерами молодому человеку почудилось что-то почти романическое, в духе тургеневской прозы. Должно быть, барышня вошла в тот возраст, когда начала наконец осознавать собственное положение в жизни и обществе.
...Рассуждая вот так, свысока, о сидящей рядом девушке, молодой человек ощутил тревогу: стоит зазеваться, и его самого, не ровен час, затянет в тот же роман.
Какое-то время он колебался, раздумывая, посидеть ему в домике еще немного или покинуть это место. Попугай все так же подражал человеческим голосам. Но птичья речь была невнятной: разобрать ничего не получалось, сколько ни вслушивайся. И это как будто вносило путаницу в мысли и чувства.
Молодой человек резко поднялся из-за стола и неловкой походкой вышел из домика.
Снаружи дожидалась пара упавших в траву велосипедов: сцепившиеся рули — словно сплетенные руки — придавали им весьма любопытный вид.
В это время за спиной послышался заливистый смех баронессы.
Он почувствовал, как в ответ на эти звуки внутри занимается что-то вроде нескладной фальшивой мелодии.
Неблагозвучие. Именно так. Не иначе, приглядывающий за ним пустоголовый ангел-хранитель временами начинал бренчать на расстроенной гитаре.
Бестолковость собственного заступника неизменно повергала молодого человека в изумление. Ни разу еще ангел не сдал ему хорошей карты — той, что подходила бы случаю.
Дело было как-то вечером.
Молодой человек, испытывая странное, неодолимое чувство опустошенности, возвращался темной дорожкой из коттеджа девушки к себе в отель.
По пути он заметил, что кто-то движется из темноты ему навстречу: молодая европейская пара.
Мужчина светил вниз, на дорожку, электрическим фонариком. Но иногда направлял луч на свою подругу. И тогда в маленьком круге яркого света вспыхивало ослепительное женское лицо.
Мужчине приходилось глядеть на подругу почти снизу вверх — она была намного выше. С такого ракурса лицо ее выглядело ликом святой или божества.
Секунда — и мужчина вновь направлял луч себе под ноги, в непроглядную темноту.
Расходясь с ними на дорожке, молодой человек обратил внимание, что руки их переплетены, точно инициалы в вензельке. После этого, оставшись один, во тьме, он испытал пугающе сильное возбуждение. Захотелось даже умереть. Ощущения были чрезвычайно похожи на те, какие возникают после прослушивания бездарного музыкального опуса.
На этот раз, пытаясь избавиться от подобного же рода гармонического потрясения, он принялся бесцельно бродить по округе. И вскоре вышел на незнакомую тропинку.
Возможно, потому, что прежде ему ходить по ней не доводилось, он предположил, что ушел уже довольно далеко от городка.
Ему вдруг показалось, будто кто-то зовет его по имени. Он огляделся вокруг, но так и не понял, кто мог его окликнуть. Подумал, что все это очень странно, и тут же снова услышал свое имя. На этот раз оклик прозвучал несколько отчетливее, поэтому молодой человек повернулся на голос: в той стороне, на поросшем густой травой пригорке, примерно в трех сяку [3] над тропинкой, он увидел стоящего перед холстом мужчину. Пригляделся — и узнал одного из своих друзей.
С немалым трудом пробрался наверх и подошел к приятелю. Однако тот ничего ему не сказал: все его внимание было посвящено холсту. Молодой человек решил, что лучше, пожалуй, друга не отвлекать. Поэтому просто присел рядом и стал молча изучать недописанную картину. Время от времени он пытался найти тот фрагмент открывающейся с пригорка панорамы, который служил основным мотивом картины. Однако ничего похожего в окрестных видах распознать не мог. Возможно, потому, что различал на полотне лишь цветной водоворот из объектов, отдаленно похожих на рыб, мелких пташек и цветы.
Полюбовавшись какое-то время на это непонятное творение, он наконец тихонько поднялся на ноги. Друг, оторвавшись от работы и подняв на него взгляд, сказал:
— Ладно, перед смертью не надышишься. Я сегодня возвращаюсь в Токио!
— Сегодня? Но ведь картина еще не закончена?
— Не закончена. И все-таки мне обязательно нужно ехать.
— Почему?
Вместо того чтобы ответить, друг снова посмотрел на холст. Какое-то время взгляд его, похоже, оставался прикованным к одной-единственной точке на картине.
* * *
Он первым вернулся в отель и сел в салоне дожидаться друга, с которым они договорились вместе пообедать.
Высунувшись из окна салона, задумчиво разглядывал подсолнухи, которые цвели во внутреннем дворике. Подсолнухи вытянулись выше рослых европейцев.
С расположенного позади отеля теннисного корта слышались бодрые удары ракеток, похожие на хлопки, с какими откупоривают шампанское.
Внезапно он встал. Пересел к столику у окна. Затем взял ручку. К сожалению, писчей бумаги в дополнение к ручке на столике не нашлось, поэтому он набросал несколько кривых, расплывающихся строк на заботливо положенном рядом листе промокательной бумаги.
Отель — попугай.
Из птичьего уха выглядывает лицо Джульетты,
вот только Ромео нет — он,
должно быть, на теннисном корте, играет.
Попугай открывает рот —
и вот пожалуйста: перед вами затянутый в черное
кукловод.
Он хотел перечитать написанное, но чернила окончательно расплылись, и он не смог разобрать ни слова.
Тем не менее, когда подошедший с небольшим опозданием приятель мимоходом заглянул в исписанную промокашку, тут же перевернул ее.
— Мог бы и не прятать.
— Это так, ерунда.
— Я все отлично знаю!
— О чем ты?
— Кто-то позавчера любовался отменными видами.
— Позавчера? А, ты об этом...
— Так что сегодня угощаешь!
— Не выдумывай! Из мухи слона делаешь...
«Мухой» была совместная поездка с Фантазией и ее матерью к подножию вулкана Асама.
Та самая поездка, «только и всего». Опять вспомнились слова, сказанные тогда матерью Фантазии. И кровь сразу бросилась в лицо.
Друзья перешли в обеденный зал. Пользуясь возникшей паузой, молодой человек сменил тему разговора.
— К слову, а что ты думаешь делать со своей картиной?
— С картиной? Оставлю как есть.
— Не жалко?
— Ничего не поделаешь. Хорошие тут места, первый сорт, но писать их замучаешься! В прошлом году тоже приезжал сюда на пленэр — и все впустую. Воздух слишком чистый. На самом дальнем дереве каждый листочек в мельчайших подробностях различить можно. И все, встает моя работа!
— Хм, вот, значит, как...
Рука, черпавшая ложкой суп, замерла: молодой человек задумался о своем. Возможно, одной из причин, по которой отношения с Фантазией развивались совсем не так, как чаялось, была как раз излишняя чистота здешнего воздуха, позволявшая им наблюдать друг в друге малейшее движение сердца? Хотелось бы верить, что все дело в этом.
Затем пришла другая мысль. Быть может, ему самому в скором времени не останется ничего иного, как вновь покинуть нагорье, удовольствовавшись — по примеру товарища, который отбывает нынче в Токио с недописанной картиной в руках, — незавершенной Фантазией а-ля Рубенс, ибо едва ли что-то изменится в ближайшие дни.
После обеда он проводил друга до окраины городка и в одиночестве отправился к коттеджу дам.
Дамы как раз пили чай. Глядя на молодого человека, мать Фантазии, будто что-то неожиданно вспомнив, предложила дочери:
— Не покажешь свои фотографии? Где ты в той люльке.
Девушка с улыбкой вышла в соседнюю комнату за снимками. Тем временем в его глазах уже разливался рыжевато-коричневый, грибной оттенок старинных фотографических карточек ее детских лет. Вернувшись из соседней комнаты, девушка протянула ему две фотографии. Но обе выглядели настолько свежими, что он растерялся: похоже, они были сделаны совсем недавно. Девушку запечатлели сидящей в глубоком плетеном кресле; снимали, судя по всему, этим летом, в разбитом возле коттеджа садике.
— Какая вышла удачнее? — спросила она.
Молодой человек, слегка сконфуженный, близоруко сощурился и попытался сравнить карточки. Потом по какому-то наитию ткнул в одну из них. При этом палец его слегка коснулся щеки изображенной девушки. А почудилось ему, будто он коснулся розовых лепестков.
Мать Фантазии, забирая у него вторую фотографию, спросила:
— Но здесь, мне кажется, она больше похожа на себя, вы не находите?
Стоило об этом заговорить, и он тоже заметил, что второй снимок обладает бóльшим портретным сходством. Тогда как первый, понял он, в точности воспроизводит грезу, порожденную его воображением, — его Фантазию а-ля Рубенс.
Спустя немного времени ему вспомнился давешний рыжеватый флер старины, который сам собою исчез вместе с появлением снимков.
— Вы упомянули люльку. А где же она тут?
— Люльку?
На лице женщины отразилось непонимание. Но озадаченное выражение почти сразу ушло. Его сменила обычная, весьма узнаваемая улыбка — ласковая и одновременно слегка насмешливая.
— Я имела в виду это плетеное кресло!
Во все последующие послеполуденные часы между ними царила столь же приятная, неизменно спокойная атмосфера.
Но были ли это часы счастья, которых он ждал с таким нетерпением?
Когда он находился вдали от дам, ему отчаянно хотелось их видеть. Желание это было настолько сильно, что он в конце концов из личной прихоти создал свою собственную Фантазию а-ля Рубенс. А после загорелся желанием понять, насколько созданный образ похож на реальную девушку. Отчего стремление видеться с дамами постепенно лишь усиливалось в нем.
Однако, оказываясь, как теперь, в их компании, он получал удовольствие от одного лишь соседства с ними: о большем мечтать было невозможно. Вплоть до настоящего момента все тревоги и заботы, как то: похожа ли придуманная девушка на реальную, — в их присутствии забывались сами собой. А все потому, что он хотел как можно полнее прочувствовать, что находится подле них, вместе с ними, и ради этого приносил в жертву все прочее, включая, разумеется, выданный самому себе загодя урок выяснить, насколько полно образ отражает реальность.
И все же порой его посещало чувство — правда, весьма смутное, — что сидящая перед ним девушка и девушка, нарисованная его воображением, — два совершенно разных существа. Возможно, живому человеку недоставало той самой нежности кожи, что отличала главную героиню его недописанной Фантазии а-ля Рубенс, — нежности, свойственной розовым лепесткам.
Эпизод с двумя фотографиями позволил ему несколько отчетливее уловить это отличие.
Спустились сумерки; он в одиночестве возвращался по слабо освещенной дорожке в отель.
В это время внимание его привлекло движение за росшими вдоль дорожки деревьями: какое-то непонятное существо забиралось на ветку высокого каштана и беспрерывно ее раскачивало.
Вспомнив вдруг о своем бестолковом ангеле-хранителе, он обеспокоенно поднял голову, и в этот момент с дерева неожиданно спрыгнул темно-бурый зверек. Это оказалась белка.
— Глупый грызун! — невольно пробормотал молодой человек.
Закинув хвост на спину, белка в панике помчалась по темным зарослям прочь. Он провожал взглядом зверька до тех пор, пока тот не пропал из виду.
[1] Каруидзава — один из старейших и наиболее известных японских курортов в европейском стиле. Расположен на горном плато, в префектуре Нагано. Современные транспортные пути были проложены в стороне от поселения (в 1923 г. получившего городской статус), поэтому одноименная станция железной дороги, функционирующая с конца XIX в., также расположена на удалении от него.
[2] Асама — действующий вулкан, расположенный в центральной части острова Хонсю, на границе префектур Гумма и Нагано, в непосредственной близости к курортному городку Каруидзава.
[3] Сяку — традиционная мера длины, равная 30,3 см.

1
В кафе «Сяноару» [4] яблоку негде упасть. Толкнув стеклянную дверь, я захожу внутрь, но приятелей своих замечаю не сразу. Ненадолго замираю у порога. Джаз обрушивается на мои пять чувств сырой сочной плотью. В это время взгляд мой выхватывает из толпы смеющееся женское лицо. Я подслеповато вглядываюсь. Женщина поднимает белую руку. И вот тогда — под ее рукой — я наконец обнаруживаю своих товарищей. Двигаюсь в их сторону. И даже когда прохожу мимо той женщины, линии наших взглядов пересекаются, но не совпадают.
Вокруг столика сидят трое молодых людей; все трое молчат — оркестровая музыка их явно не радует. Когда я подхожу, они приветствуют меня лишь короткими взглядами. На столике в сигаретном дыму холодно поблескивают стаканы с виски. Я подсаживаюсь и присоединяюсь к их молчанию.
Каждый вечер я встречаюсь с ними здесь, в этом кафе.
Мне двадцать. До сих пор я жил почти в полном одиночестве. Но в силу возраста оставаться дольше в покое, который позволяет вести настолько замкнутую жизнь, уже не мог. К исходу нынешней весны, когда она начала превращаться в лето, мне сделалось совсем невыносимо.
Как раз тогда друзья, собиравшиеся в кафе «Сяноару», позвали меня с собой. Мне хотелось произвести на них хорошее впечатление. И я согласился. В тот вечер я повстречался с девушкой, от которой был без ума один из моих приятелей, Маки, мечтавший «сделать ее своей».
Девушка звонко смеялась под звуки оркестровой музыки. Ее красота напомнила мне вызревший плод, готовый в любую секунду упасть с ветки дерева. Его нужно было сорвать до того, как он упадет.
Она находилась на грани, и это привлекало.
Маки желал ее с жадностью измученного суровым голодом. Его страстное желание пробудило и во мне зачатки страсти. С этого начались мои злоключения...
Неожиданно один из друзей откидывается на спинку стула и поворачивается ко мне. Губы его шевелятся — он что-то говорит. Но из-за музыки я ничего не могу разобрать. Поэтому наклоняюсь к нему поближе.
— Маки думает передать сегодня этой мэдхен [5] письмецо, — повторяет он чуть громче.
На его голос оборачиваются Маки и еще один наш товарищ, смотрят на нас. Улыбаются серьезно. А затем все возвращаются к прежнему занятию: умолкают. Я один меняюсь в лице. Пытаюсь скрыть это за сигаретным дымом. Однако молчание, до того момента казавшееся приятным, внезапно становится удушающим. Джаз удавкой стягивает шею. Я хватаю стакан. Собираюсь выпить. Но пугаюсь собственного лихорадочного взгляда, отразившегося в стаканном донце. Сидеть тут дольше невозможно.
Я сбегаю на веранду. Царящий там сумрак остужает возбужденные глаза. И я, оставаясь незамеченным, принимаюсь издалека разглядывать девушку, стоящую под вентилятором. Подставляя лицо направленному потоку воздуха, она хмурится, и это неожиданно придает ей что-то возвышенное. Внезапно черты ее лица приходят в волнение. Она оборачивается в мою сторону и улыбается. Несколько секунд я пребываю в уверенности, что она улыбнулась, потому что заметила меня, наблюдающего за ней с веранды. Но очень скоро понимаю, что ошибся. С того места, где она стоит, мою застывшую в полутьме фигуру не разглядеть. Должно быть, ее жестом подозвал кто-то из гостей. Я гадаю: может, Маки? Девушка решительным шагом движется прямо на меня.
Чувствую, как тяжелы мои руки — словно налившиеся плоды. Опускаю их на перила веранды. К ладоням пристает покрывающая перила пыль.
[5] Девушка, девочка (нем.).
[4] «Черная кошка» (искаж. от фр. Chat noir).
2
В тот вечер сердце мое потерпело мгновенное крушение: так переворачивается разогнавшийся до предельной скорости велосипед. Это она задавала темп моему сердцу. А теперь скорость мгновенно упала до нуля. И похоже, собственными силами подняться я уже не способен.
— Тебя к телефону, — сообщает мать, заходя ко мне в комнату.
Я не отзываюсь. Мать недовольно ворчит. Наконец поднимаю голову и гляжу на нее. Изображаю на лице немую просьбу: «Оставь меня, пожалуйста, в покое». Мать смотрит с беспокойством и выходит из комнаты.
Стемнело, но я не собираюсь идти в кафе «Сяноару». Не спешу больше туда, где эта девушка, где мои друзья-приятели. Замер посреди комнаты, не шевелюсь. И прилагаю все усилия к тому, чтобы ничего не делать. Сижу, опершись локтями о стол, — голова покоится в ладонях. Под локтями книга, вечно открытая на одной и той же странице. Там, на этой странице, изображено чудовище. У него такая тяжелая голова, что оно само не способно ее удерживать. И потому она вечно катается по земле вокруг него. Периодически оно разжимает челюсти и сметает языком раскисшую от его дыхания траву. Однажды, не соображая, что творит, оно сожрало собственную ногу... Ничто и никогда не вызывало во мне более светлой грусти, чем это чудище.
И все же особенно долго — вот так, мучаясь, — человек жить не может. Это мне известно. Но тем не менее я даже не попытался избавиться от боли; а почему? В действительности я, сам того не сознавая, ждал... Ждал чуда: что кто-нибудь из приятелей придет и, удивленный, порадует известием, дескать, предмет ее страсти нежной — не Маки, а ты.
Как-то в предрассветный час мне приснился сон. Привиделось, будто мы вдвоем с Маки спим, растянувшись на спине посреди зеленой лужайки, кажется, где-то в парке Уэно [6]. Я неожиданно открываю глаза. А Маки по-прежнему спит — не добудишься. Я между тем вижу, как на краю лужайки откуда ни возьмись появляется она в компании еще одной официантки: тихо переговариваясь, они неспешно движутся в нашу сторону. Она рассказывает подруге, что на самом деле любит меня и что поначалу не поняла Маки: думала, он передает ей мое письмо, а оказалось — свое собственное. Девушки проходят прямо перед нами, но нас при этом не замечают. Я несказанно счастлив. Украдкой гляжу на Маки. А тот, оказывается, проснулся.
— Крепко же ты спал, — говорю.
— Я? — На лице Маки появляется странное выражение. — Разве это я спал, не ты?
Глаза мои закрыты — я сам не заметил, как веки опустились.
— Ну вот, снова засыпаешь, — доносится до меня голос Маки, и я стремительно погружаюсь в сон...
Потом я проснулся уже по-настоящему — в своей постели. Этот сон представил передо мной в полной красе мою подспудную надежду на чудо. Надежда заново разжигала тлеющую внутри боль и одновременно с тем крепла. Она же, объединившись с подступающим по вечерам невыносимым одиночеством, погнала меня против воли в «Сяноару».
Кафе «Сяноару». Тут все по-прежнему, ничего не меняется. Та же музыка, те же разговоры, те же грязные столы. И я надеюсь, что посреди неизменных декораций обнаружу ее и Маки точно такими, какими они были до сих пор, надеюсь, что я — единственный, в ком произошла перемена. Но меня сразу охватывает недоброе предчувствие. Она избегает глядеть мне в глаза — все остальное проходит мимо моего внимания.
— Эй, что за траурный вид?
— Что случилось?
Я отвечаю, старательно воспроизводя обычные интонации и жесты:
— Болел, ничего серьезного.
Маки внимательно смотрит на меня. А затем говорит:
— К слову, тем вечером тебе, кажется, было на редкость скверно.
— Да.
Я гляжу на Маки настороженно. Не люблю демонстрировать боль окружающим — опасаюсь этого. Однако раненый не успокоится, пока не проведет пальцами по своей ране, и я подчиняюсь тому же инстинкту: мне хочется точно знать, что именно причиняет мне боль. Безуспешно ищу глазами ее лицо, затем снова перевожу взгляд на Маки и спрашиваю:
— А что там с мэдхен?
— Мэдхен?
Маки делает вид, будто не понимает, о чем я. Затем вдруг лицо его кривится — он расплывается в улыбке. Его ухмылка перетекает и на мое лицо. Я чувствую, что теряю из виду собственные ориентиры.
Молчание неожиданно прерывает голос одного из приятелей:
— Маки наконец-то ее сцапал, буквально на днях.
Другой подхватывает:
— Только нынче утром первое рандеву было!
Меня с головой накрывает чувство, которого я никогда раньше не испытывал. Не понимаю, больно мне или нет. Друзья безостановочно шевелят губами. Но с этого момента я уже не могу разобрать ни слова. Замечаю вдруг, что на лице моем все еще гуляет подцепленная у Маки усмешка. Вот уж чего никак от себя не ожидал. Впрочем, я осознаю, насколько в данный момент далек от всего поверхностного — даже от того, что написано на моем собственном лице. Я, словно ныряльщик, замеряю глубину залегания своей погрузившейся на дно боли. Но как раздающийся на поверхности моря плеск волн достигает морских глубин, так и меня в конце концов настигают звуки музыки и стук тарелок.
Я пытаюсь по возможности воспрянуть со дна, призвав на помощь силу алкоголя.
— Хлещет, словно бездонный.
— Тяжко, видать.
— Да у него губы дрожат.
— С чего ему так плохо?
Постепенно приходя в себя, я наконец начинаю улавливать встревоженные взгляды друзей. Но они не понимают, что со мной происходит. Я вполне успешно убеждаю их, будто болен и мне дурно. Оставшихся душевных сил не хватает даже на то, чтобы отыскать в зале ее лицо.
Выйдя из кафе «Сяноару» и простившись с приятелями, я в одиночестве сажусь в такси. Бессильно покачиваясь в салоне, смотрю на широкие плечи водителя. Снаружи внезапно темнеет. Чтобы срезать путь, водитель ведет машину сквозь рощу парка Уэно.
— Послушайте! — Я собираюсь тронуть водителя за плечо. Поскольку его широкая спина неожиданно напоминает мне спину Маки. Но отяжелевшая рука почти не поднимается с колен. Мое сердце сжимается от тоски. Передние фары освещают крошечный фрагмент газона. И этот фрагмент вызывает вдруг в памяти сон, посетивший меня нынче утром. Во сне она настолько приблизила свое лицо к моему, что почти меня касалась. Однако приближалось ее лицо в неловкой попытке меня утешить.
[6] Высочайше пожалованный парк Уэно — обширный парк, один из старейших и наиболее известных в столице. Был основан в 1873 г. по приказу императора Мэйдзи. Расположен в центральной части Токио (на территории специального района Тайто), к северо-востоку от императорского дворца.
3
Разгар лета.
В пронизанном лучами аквариуме золотую рыбку толком не разглядеть, так и с моей сердечной печалью: под палящим солнцем она почти не заметна. К тому же зной притупляет все чувства. Я почти не различаю того, что меня окружает. Пребываю в оцепенении посреди сковородных запахов, сияния свежевыстиранного белья и рокота проносящихся под окном автомобилей.
Но когда опускается вечер, моя печаль становится прекрасно мне видна. В памяти, одно за другим, воскресают разные воспоминания. Доходит черед до парка. И видение это внезапно разрастается — все прочие скрываются за ним. Меня оно ужасно пугает. Пытаясь сбежать от него, я начинаю метаться, будто сумасшедший.
Иду куда-нибудь — не важно куда. Иду просто потому, что не желаю погружаться в себя. Мне хочется скрыться не только от нее или от приятелей, мне нужно сбежать куда-нибудь подальше от себя самого. Я боюсь любых воспоминаний — равно как боюсь совершить какой-нибудь поступок, который породит новые воспоминания. Поэтому стараюсь совсем ничего не делать, только мараю без конца тротуары своей тенью.
В один из вечеров мимо меня, одарив на ходу улыбкой, проплыла молодая женщина, опоясанная желтым оби [7]. Я с приятным волнением последовал за ней. Но, когда женщина завернула в магазин, я даже не подумал дождаться ее и ушел. Очень скоро я о ней забыл. А несколько дней спустя вновь приметил в толпе опоясанную желтым оби молодую даму. Ускорил шаг. Но, когда догнал и глянул на нее, не смог понять, та ли эта женщина, которую я видел на днях, или уже другая. Осознание того, насколько я рассеян, меня не смутило: глубокая задумчивость хорошо гармонирует с минорным настроем.
Время от времени меня затягивает в небольшой бар, обращенный фасадом к прогуливающимся. В зале, сумрачном от табачного дыма, я мараю столик сигаретным пеплом и пятнами спиртного. Так что под конец испачканная столешница начинает напоминать длинную-длинную пешеходную дорожку, которую я целый вечер марал своей тенью. Наваливается невероятная усталость. Выходя из бара, я сразу ныряю в такси, а из такси отправляюсь прямиком в кровать. И камнем проваливаюсь в сон.
Как-то вечером, шагая в толпе, я ненароком задержал взгляд на одном молодом человеке, который двигался мне навстречу. А тот взял и остановился передо мной. Оказалось, это один из моих приятелей. Я рассмеялся и пожал ему руку.
— Вот дела! Ты?
— Что, успел позабыть меня?
— И правда, совсем позабыл.
Я говорил с нарочитым воодушевлением. Хотя не мог не заметить, что моя невнимательность, судя по всему, огорчила приятеля: я был настолько погружен в свои мысли, что даже не признал его.
— Почему не приходил к нам?
— Я вообще ни с кем не виделся. Не хотел.
— Понятно... Так ты и про Маки, наверное, не знаешь?
— Нет, не знаю.
Ничего не добавив, приятель зашагал вперед. Я догадывался: то, что он собирается рассказать про Маки, вне всякого сомнения, снова вывернет мне душу наизнанку. И все-таки, точно собачонка, побрел за ним следом.
— Оказалось, девочка — чистый ангел! — Слово «ангел» он произнес с нескрываемым сарказмом. — Маки постоянно ее куда-нибудь водил — то на бейсбол, то в кино. И поначалу девочка, по его словам, была абсолютно шарман. Но как-то раз он намекнул ей, дескать, не пора ли прилечь вдвоем. И она к нему вмиг переменилась. Стала холодная как ледышка, измучила беднягу чуть не до смерти. Разберись тут, то ли она вообще не понимает, что у мужчин на уме, то ли поиздеваться над нами любит. То ли норовистая, то ли совсем дура... Эй, виски сюда! Ты что будешь?
— Ничего не нужно. — Я покачал головой. Мне показалась, что голова на плечах чужая.
— А потом, — продолжил приятель, — Маки внезапно куда-то пропал. Мы уже начали задумываться, не случилось ли чего, и тут — вчера это было — объявляется. Выяснилось, что он почти неделю пробыл в Кобэ, кружил все эти дни по тамошним барам: говорит, сбивал раздувшийся аппетит — гонял себя, чтобы уже ни рукой ни ногой. И похоже, со всем, что его глодало, разделался. Не ожидал от него такого прагматизма.
Пока приятель рассказывал, я молчал, прислушиваясь к гулу пчелиного роя, постепенно наполнявшему мою голову. Время от времени я поднимал глаза и глядел на приятеля. Мысленно возвращаясь сначала в тот момент, когда смотрел на него, шагающего в толпе, и даже не мог сообразить, что это он — до того был погружен в себя, — а затем еще дальше: мне вспоминались все терзания, погрузившие меня в подобное состояние.
[7] Оби — название, относящееся к разным вариантам матерчатых поясов, составляющих часть традиционного японского костюма, как женского, так и мужского. Женские оби отличаются обычно большей длиной и шириной (в наше время могут достигать в ширину 30 см).
4
Последние несколько дней я вырабатывал в себе новую привычку: не вспоминать ее лицо. Так было легче поверить в то, что ее больше не существует. Впрочем, с тем же результатом, привыкнув и перестав замечать вечный беспорядок в комнате, я мог убедить себя, что не существует, например, какой-нибудь курительной трубки, зажатой под внушительной стопкой книг. Достаточно разобрать книги — и трубка явит себя миру.
Так же и здесь. Стоило ей вновь появиться передо мной, как мгновенно проснулись прежние чувства, ничуть за истекшее время не изменившиеся. Разум возвел между нами целую гору из терзаний уязвленной гордости и прочих болезненных воспоминаний. Но, несмотря ни на что, преодолевая все преграды, в душу мою вместе с неким щемящим чувством просочилось сомнение: быть может, на самом деле она с самого начала любила именно меня? Сие есть верный признак влюбленности. Признав это, я испытал чувство отчаяния больного человека, которому никак не удается избавиться от своего недуга.
Время разъедает душевные раны. Но источник боли не отсекает. Я же мечтал, скорее, об оперативном вмешательстве. Мое нетерпение подсказало весьма дерзкое решение: я один, без приятелей пойду в «Сяноару» и увижусь с ней.
Осматриваю зал, точно посетитель, который заглянул сюда впервые. Лица нескольких знакомых официанток, расплывающиеся при виде меня в удивленной улыбке, перекрывают обзор, заслоняя объект моих поисков. Но вот наконец блуждающий взгляд выхватывает среди прочих силуэтов ее. Она стоит недалеко от входа, облокотившись об оркестровую площадку. По неестественности ее позы я догадываюсь, что она знает о моем появлении и просто делает вид, будто меня не заметила. Как готовящийся к операции пациент с беспокойством следит за каждым движением хирурга, так и я не свожу с нее глаз.
Внезапно оркестр начинает играть. Она тихонько отходит от площадки. Не глядя на меня, как ни в чем не бывало идет в мою сторону. Затем, не доходя шагов пять или шесть, приподнимает голову. Взгляды наши встречаются. Тогда она, улыбаясь, подходит еще ближе; шаги ей даются как будто с трудом. Она молча останавливается передо мной. Я тоже ничего не говорю. Потому что не в силах ничего сказать.
Удушливая тишина, повисающая во время операций.
Я сосредоточенно разглядываю ее руку. Вглядываюсь, наверное, чересчур напряженно — глаза, похоже, устают, поскольку мне вдруг начинает казаться, будто рука ее дрожит. Вслед за тем накатывает слабость: кружит голову, все мешает, но в конце концов проходит.
— Ой, пепел с сигареты посыпался! — Ее тактичное замечание напоминает мне, что операция окончена.
Сам процесс операции совершенно удивителен. Передо мной внезапно появляется ее лицо, полное жизни и, по ощущениям, совершенно необозримое; больше оно меня уже не покидает. За ним теряется факт существования Маки, теряются все воспоминания и все перспективы: так скрывает на экране прочие объекты лицо, поданное крупным планом. Интересно, операция действительно в этом и заключается? Или это какой-то временный побочный эффект? Впрочем, не важно. Передо мной лишь женское лицо, огромное и прекрасное. И еще вызванное этим лицом болезненное наслаждение, жить без которого я, кажется, отныне уже не смогу.
И вот — я снова ежевечерний гость кафе «Сяноару». Никто из моих приятелей здесь больше не показывается. Но это, напротив, придает мне мужества, какого я никогда не проявляю, находясь в их компании; оно-то и управляет моими действиями.
И еще она...
Как-то вечером я сидел и ждал, когда мне принесут заказанный напиток, а она прибирала соседний столик — занимавший его посетитель только что ушел. Неотрывно наблюдая за ней, я обратил внимание, до чего плавные у нее жесты: она перемещала тарелки и ножи такими мягкими движениями, словно все совершалось под водой. Казалось, плавность жестов рождалась у нее сама собой из основанной на остром чутье уверенности, что я смотрю, что я люблю ее. Эта плавность, казавшаяся мне чем-то сверхъестественным, исподволь убеждала меня в том, что она ко мне неравнодушна.
В другой вечер со мной заговорила одна из официанток кафе.
— Совершенно непонятно, что вы такое творите!
Говоря «вы», женщина, очевидно, имела в виду меня и Маки. Но я предпочел воспринять ее фразу иначе: как будто она говорила обо мне — и о ней. Меня раздражало, как эта женщина улыбалась, поблескивая золотыми зубами. Я глянул на нее с пренебрежением и ничего не ответил.
Пока я вот так, под ненавязчивым присмотром товарок девушки, ловил знаки ее симпатии, на меня по временам приступами накатывало желание. Ее гибкие руки и ноги заставляли грезить о сладостном моменте, когда они накрепко, как в тугом галстучном узле, сплетутся с моими руками и ногами. Порою я не мог глядеть на ее зубы, не представляя при этом тихого звука, с каким они встретятся с моими.
Всякий раз, когда я вспоминал о том, что Маки водил ее по паркам и кинотеатрам, мне делалось тошно, но вместе с тем эти воспоминания дарили надежду на то, что грезы мои не вовсе несбыточны. Вот только как подступиться к ней с предложением?
Я подумывал о способе, который избрал Маки. О любовном письме. Но неудача предшественника сделала меня суеверным. Я стал искать другой путь. И среди множества вариантов выбрал один. Ждать подходящего момента.
Самый подходящий момент. Мой стакан опустел. Я зову официантку. Ко мне собирается подойти она. В то же время к моему столику поворачивает еще одна официантка. Они быстро замечают друг друга, и обе, улыбаясь, растерянно замирают. Затем она решается и делает шаг в мою сторону. Тем самым вселяя в меня несвойственную храбрость.
— Кларету! — говорю я ей. — А еще...
Отступив на полшага от столика, она останавливается, и лицо ее приближается ко мне.
— Не согласишься ли завтра утром выйти в парк? Хочу кое о чем с тобой поговорить.
— Вот оно что...
Лицо ее слегка розовеет и отдаляется от меня. Она принимает прежнее положение — первый шаг в сторону от столика давно уже сделан — и, не поднимая головы, уходит. Я жду с легким сердцем, как человек, который отпускает прирученную птаху, будучи твердо уверен в том, что она скоро к нему вернется. И она действительно возвращается — с кларетом. Я подаю ей глазами знак.
— Около девяти — подойдет?
— Да.
Мы немного лукаво улыбаемся друг другу. И она отходит от моего столика.
Покидая кафе «Сяноару», я совершенно не представлял, чем занять время до завтрашнего утра. Оно казалось абсолютно пустым. Лег в постель, хотя спать не хотел. Перед глазами неожиданно всплыло лицо Маки. Но его тотчас скрыл от меня новый образ, нарисовавшийся поверх прежнего: ее лицо с лукавой улыбкой. После чего я ненадолго уснул. Когда поднялся с постели, было еще раннее утро. Я бродил по дому, беззастенчиво заговаривал с каждым в полный голос и к завтраку почти не притронулся. Мать смотрела на меня как на сумасшедшего.
