автордың кітабын онлайн тегін оқу Младший сын. Князь Даниил Александрович Московский. Серия «Собиратели Земли Русской»
Д.М. Балашов
Младший сын.
Князь Даниил Александрович Московский
Научное предисловие
доктора исторических наук
К.А. Аверьянова
Приложение
Труд Д.И. Иловайского
Информация о книге
УДК 94(47)"13/14"
ББК 63.3(2)43
Б20
Исторический роман Д.М. Балашова (1927–2000) «Младший сын», впервые опубликованный в 1975 г., посвящен эпохе Даниила Московского, младшего сына Александра Невского, ставшего родоначальником московских великих князей и царей. Он открывает знаменитый цикл «Государи Московские», который представляет собой уникальную историческую хронику-эпопею, охватывающую почти двухвековой период русской истории. Именно в нем впервые в отечественной литературе с уникальной степенью точности и полноты, исторической достоверности воссоздан мир русского Средневековья.
Произведение Д.М. Балашова дополняют фрагменты из труда историка и публициста XIX столетия Д.И. Иловайского «История России».
Проект «Собиратели Земли Русской» реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке партии «Единая Россия».
Изображение на обложке:
репродукция гравюры «Даниил Александрович. Князь Московский»,
рис. Л.-Н. Леспинаса, грав. Э. Фессара, 1783 г.
На форзаце — карта Руси при Андрее Александровиче (1281–1283, 1294–1304);
Ахматов И. Атлас исторический, хронологический и географический Российского государства,
составленный на основании истории Карамзина: в 2 ч. СПб., 1829–1831.
На нахзаце — карта Руси при Михаиле Ярославиче (1305–1318);
Ахматов И. Атлас исторический, хронологический и географический Российского государства,
составленный на основании истории Карамзина: в 2 ч. СПб., 1829–1831.
УДК 94(47)"13/14"
ББК 63.3(2)43
© Балашов Д.М., наследники, 2023
© Аверьянов К.А., науч. предисловие, 2023
© Меньшикова Ю.А., иллюстрации, 2023
© Российское военно-историческое общество, 2023
© Оформление. ООО «Проспект», 2023
ПРЕДИСЛОВИЕ К СЕРИИ
Дорогой читатель!
Мы с Вами живем в стране, протянувшейся от Тихого океана до Балтийского моря, от льдов Арктики до субтропиков Черного моря. На этих необозримых пространствах текут полноводные реки, высятся горные хребты, широко раскинулись поля, степи, долины и тысячи километров бескрайнего моря тайги.
Это — Россия, самая большая страна на Земле, наша прекрасная Родина.
Выдающиеся руководители более чем тысячелетнего русского государства — великие князья, цари и императоры — будучи абсолютно разными по образу мышления и стилю правления, вошли в историю как «собиратели Земли Русской». И это не случайно. История России — это история собирания земель. Это не история завоеваний.
Родившись на открытых равнинных пространствах, русское государство не имело естественной географической защиты. Расширение его границ стало единственной возможностью сохранения и развития нашей цивилизации.
Русь издревле становилась объектом опустошающих вторжений. Бывали времена, когда значительные территории исторической России оказывались под властью чужеземных захватчиков.
Восстановление исторической справедливости, воссоединение в границах единой страны оставалось и по сей день остается нашей подлинной национальной идеей. Этой идеей были проникнуты и миллионы простых людей, и те, кто вершил политику государства. Это объединяло и продолжает объединять всех.
И, конечно, одного ума, прозорливости и воли правителей для формирования на протяжении многих веков русского государства как евразийской общности народов было недостаточно. Немалая заслуга в этом принадлежит нашим предкам — выдающимся государственным деятелям, офицерам, дипломатам, деятелям культуры, а также миллионам, сотням миллионов простых тружеников. Их стойкость, мужество, предприимчивость, личная инициатива и есть исторический фундамент, уникальный генетический код российского народа. Их самоотверженным трудом, силой духа и твердостью характера строились дороги и города, двигался научно-технический прогресс, развивалась культура, защищались от иноземных вторжений границы.
Многократно предпринимались попытки остановить рост русского государства, подчинить и разрушить его. Но наш народ во все времена умел собраться и дать отпор захватчикам. В народной памяти навсегда останутся Ледовое побоище и Куликовская битва, Полтава, Бородино и Сталинград — символы несокрушимого мужества наших воинов при защите своего Отечества.
Народная память хранит имена тех, кто своими ратными подвигами, трудами и походами расширял и защищал просторы родной земли. О них и рассказывает это многотомное издание.
В. Мединский, Б. Грызлов
ДАНИИЛ МОСКОВСКИЙ:
ЗАГАДКИ БИОГРАФИИ
Исторический роман Дмитрия Балашова «Младший сын», рассказывающий о московском князе Данииле Александровиче, охватывает сорокалетний отрезок русской истории: с 1263 по 1304 г. Как писал сам автор в послесловии к роману, «период этот обычно проходит мимо внимания историков. Даже в серьезных учебниках зачастую от Александра Невского сразу перескакивают к Ивану Калите, забывая, как кажется, что названных деятелей разделяют три четверти столетия, срок и сам по себе немалый». Во многом это объясняется крайней скудостью исторических источников, дошедших от эпохи Даниила Московского. По сути дела, в нашем распоряжении лишь отдельные скупые летописные записи, два-три обрывочных документа того времени — вот, пожалуй, и все.
Между тем именно исторические источники являются тем фундаментом, на котором исследователь воссоздает картину ушедшей жизни. Их серьезный недостаток ощущали выдающиеся историки. В. О. Ключевский (1841–1911), говоря о первых московских князьях, вынужден был констатировать: «Исторические памятники XIV и XV вв. не дают нам возможности живо воспроизвести облик каждого из этих князей. Московские великие князья являются в этих памятниках довольно бледными фигурами, преемственно сменявшимися на великокняжеском столе… Всматриваясь в них, легко заметить, что перед нами проходят не своеобразные личности, а однообразные повторения одного и того же фамильного типа. Все московские князья до Ивана III, как две капли воды, похожи друг на друга… Наблюдателю они представляются не живыми лицами, даже не портретами, а скорее манекенами; он рассматривает в каждом его позу, его костюм, но лица их мало что говорят зрителю»1.

В.О. Ключевский
Между тем ныне ситуация выглядит не столь удручающе, как ее нарисовал историк. Роман Д. М. Балашова впервые был издан в 1975 г., или, иными словами, почти полвека назад. За это время появились новые исследования, а самое главное — было обнаружено несколько новых источников того времени. Это позволяет по-иному взглянуть на Даниила Московского.
Из четырех сыновей Александра Невского — Василия, Дмитрия, Андрея и Даниила, только относительно одного из них известно, когда он родился. Лишь о младшем из них, Данииле, древнейшая из сохранившихся — Лаврентьевская — летопись под 6769 годом отметила: «родися Олександру сынъ, и наре[ко]ша имя ему Данилъ»2. Историки, отмечая сам этот факт, делали предположение: «Почему не отмечены в летописи годы рождения трех старших братьев Даниила, остается загадкой. Возможно, потому, что в послебатыево лихолетье просто прекратилось составление летописных записей, и только к моменту появления на свет Даниила такие записи возобновились»3. Между тем разгадка оказывается чрезвычайно простой. Вплоть до начала XX в. в России существовала традиция составления манифестов российских императоров о рождении у них детей. Они рассылались по всем городам страны. Это было не случайно, поскольку рождение у монархов детей, и в первую очередь сыновей, было не только личным, но и общественным делом. Об их появлении на свет широко оповещались подданные. К примеру, манифест 1827 г. о рождении у Николая I второго сына сообщал: «Объявляем всем верным Нашим подданным, что в 9 день сего сентября любезнейшая Наша супруга, Государыня Императрица Александра Федоровна разрешилась от бремени рождением Нам сына, нареченного Константином». Этот же документ официально провозглашал младенца «высочеством», тем самым встраивая его в фамильную иерархию династии4.

Рождение Даниила. Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI в.
Данный обычай был крайне устойчив. Сохранилась, к примеру, грамота царя Алексея Михайловича от 1 июня 1661 г., направленная пермскому и соликамскому воеводе С. П. Наумову: «В нынешнем во 169 году мая в 30 день за молитвы святых отец Бог простил царицу нашу и великую княгиню Марью Ильиничну; а родила нам сына царевича и великого князя Феодора Алексеевича всея Великия и Малыя России, а имянины ему июня 8 числа. И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б велел собрать в съезжую избу всяких чинов служилых людей, и нашу великого государя радость им сказать»5. Одновременно из Москвы духовными властями отправлялись «богомольные грамоты», которые зачитывались публично в церквях, после чего в храмах совершались благодарственные молебны. С этого момента имя новорожденного должно было поминаться во время церковных служб наряду с именами остальных членов царской семьи.
Судя по всему, подобные извещения подданным выпускались от имени князей и несколькими столетиями раньше. При этом можно полагать, что, в отличие от более позднего времени, они издавались только по случаю рождения сыновей. Об этом говорит тот примечательный факт, что в Лаврентьевской летописи имеются известия о рождении семи из восьми сыновей прадеда Даниила — великого князя Всеволода Большое Гнездо. Отсутствуют сведения о рождении еще одного сына — Глеба. Но в свое время еще В. Н. Татищевым было высказано предположение, что он был близнецом другого сына Всеволода — Бориса, известие о рождении которого в Лаврентьевской летописи имеется. Поскольку Глеб скончался в младенчестве, летописец не стал упоминать его, оставив лишь сообщение о рождении его близнеца Бориса. В то же время отсутствуют известия о появлении на свет княжеских дочерей, хотя по другим источникам известно о четырех дочерях Всеволода.
Судя по Лаврентьевской летописи, формуляр подобных извещений был довольно устойчивым и содержал следующие сведения: имя отца, дату рождения сына, приходившуюся на этот день церковную память того или иного святого, крестильное имя ребенка. К примеру, под 1194 г. читаем: «Того же лета родися оу благовернаго и христолюбиваго князя Всеволода, сына Гюргева, внука Володимеря Мономаха, сынъ, месяца октября въ 25, на память святаго Маркиана и Мартурья, в канунъ святаго Дмитрия, и нареченъ бысть в святемь крещеньи Дмитрии»6.
Лаврентьевская летопись создавалась при великокняжеском дворе. На это указывают заключительные строки памятника, где говорится, что монах Лаврентий закончил свою работу весной 1377 г. при великом князе Дмитрии Константиновиче Суздальском и епископе Дионисии7. При ее составлении летописец широко использовал отложившиеся в княжеском архиве материалы, среди которых были и грамоты о рождении великокняжеских детей.
Есть основания полагать, что указанные документы составлялись в соответствии с определенными правилами: они выпускались по поводу рождения только великокняжеских сыновей и первенцев в боковых ветвях княжеского дома. Именно этим обстоятельством объясняется то, что в летописи были отмечены факты рождения лишь двух из девяти сыновей деда Даниила — Ярослава Всеволодовича: первенца Федора и последнего — Василия, который родился уже после того, как Ярослав вследствие гибели братьев во время Батыева нашествия стал великим князем. Аналогичную ситуацию видим и в случае с сыновьями Александра Невского: летописец отметил рождение только младшего из них, родившегося, когда Александр стал уже великим князем.
Правда, в случае с Даниилом не указаны точная дата его рождения, память какого святого приходилась на этот день (это можно объяснить тем, что у летописца оказался в руках ветхий экземпляр подобного извещения). Поэтому дату рождения приходится вычислять самостоятельно.
Проще всего с определением года. Разница между 6769 годом «от сотворения мира» и нынешним календарным стилем «от Рождества Христова» составляет 5508 лет. В итоге выясняем, что Даниил родился в 1261 г.
Известно, что в Древней Руси детей называли в честь того святого, день памяти которого приходился на дату крещения. Становится понятным, что Даниила назвали так в честь святого с этим именем. Сложность заключается в том, что таких святых было несколько. Разгадку дала находка в Новгороде в 1979 г. свинцовой печати XIII в., на одной стороне которой был изображен святой, по сторонам которого читались вертикальные надписи «Столпникъ» и «Данилъ», а на другой стороне — скачущий всадник в короне и с мечом и надпись: «[Ал]ек[са]ндр». Это позволило установить ее принадлежность младшему сыну Александра Невского — Даниилу 8. Отсюда выяснилось, что Даниил был назван в честь святого Даниила Столпника, память которого отмечается 11 декабря (по старому стилю), а следовательно, князь Даниил родился в конце ноября — начале декабря 1261 г.

Прорись печати князя Даниила, найденной в Новгороде
Даниилу едва исполнилось два года, когда 14 ноября 1263 г., возвращаясь из Орды, в Городце на Волге скончался его отец великий князь Александр Ярославич Невский 9.
Поскольку по летописным известиям 80–90-х годов XIII в. Даниил значится московским князем, историки предположили, что Москва была выделена ему по завещанию отца 10. Однако никаких сведений о духовной грамоте Александра Невского до нас не дошло.
К сожалению, в нашем распоряжении сохранился лишь единственный комплекс подобных документов — завещания князей московского княжеского дома XIV–XVI вв., поскольку духовные грамоты других русских княжеских домов не уцелели. Несмотря на то что эти источники дошли до нас от времени довольно далекого от эпохи Александра Невского, их все же можно привлечь к исследованию, поскольку традиция и правила составления княжеских завещаний были чрезвычайно устойчивыми.
По этим материалам видно, что на Руси существовала традиция заблаговременного составления завещаний князей. Поскольку подобные документы затрагивали обширный комплекс имущественных отношений, связанных с судьбами значительного числа людей, они не переписывались с завидной регулярностью, как это бывает иногда у некоторых современных людей. Новые варианты завещаний составлялись в исключительных случаях: смерти прежних или появления новых наследников, существенного изменения состава наследственных владений и т. п. Кроме того, княжеские духовные грамоты составлялись перед военным походом или опасной поездкой, откуда можно было не вернуться. Традиция требовала от князей оставления распоряжений на случай печального исхода. Неудивительно, что обе свои духовные грамоты внук Александра Иван Калита составил перед поездками в Орду11.
Именно таким сложным и трудным оказался визит Александра Ярославича в Орду в 1262/1263 г.: великий князь вынужден был отправиться туда, чтобы попытаться смягчить реакцию хана Берке на антиордынские восстания во Владимире, Суздале, Ростове, Переславле, Ярославле и других городах Северо-Восточной Руси, когда были перебиты татарские откупщики дани. Кроме того, глава Орды потребовал провести принудительную мобилизацию жителей Руси в монгольское войско. Хан задержал Александра у себя на несколько месяцев. Во время пребывания в Орде князь заболел. Уже, будучи больным, он выехал на Русь.
Это обстоятельство позволило некоторым исследователям выдвинуть версию об отравлении Александра Невского медленно действовавшим ядом. При этом сторонники этого предположения разделились в вопросе — кто мог это осуществить: то ли сам хан, то ли, без его ведома, это осуществили лица из ханского окружения. Справедливости ради отметим, что летописцы отмечают болезнь великого князя, но о возможном отравлении не говорят.
Но независимо от того, составил Александр Невский или нет свое завещание, Даниил не фигурировал в нем: в одном случае духовная грамота могла быть составлена еще до его появления на свет, в другом — он был слишком мал, ибо еще не прошел «постригов», после которых мальчики могли считаться самостоятельными субъектами тогдашнего права и даже княжить (разумеется, под присмотром взрослых советников). Этот обязательный обряд проводился обычно в трехлетнем возрасте.
Тем не менее самый младший сын Александра в итоге получил свою долю в отцовском наследстве. Ее ему выделили старшие братья после смерти отца. Подобная традиция дожила до XIV в. В 1389 г. была написана духовная грамота правнука Александра Невского — великого князя Дмитрия Донского. Однако в ней в числе наследников не был указан младший из его сыновей — Константин, родившийся после составления завещания отца. Наделить его уделом пришлось старшему брату — великому князю Василию Дмитриевичу. В его первой духовной грамоте, датируемой 1406–1407 гг., читаем: «А брата своего и сына благословляю, князя Костянтина, даю ему въ оудел Тошню да Оустюжну, по душевнои грамоте отца нашего, великого князя»12.
Поскольку в момент смерти отца Даниил был слишком мал для самостоятельного княжения, его уделом должен был распоряжаться кто-то из родственников. На протяжении семи лет Москвой управлял дядя Даниила — Ярослав Ярославич Тверской, ставший после смерти своего старшего брата Александра Невского великим князем владимирским.
Данный факт выясняется из позднейшего сообщения Тверской летописи. Под 1408 г. она сообщает, что праправнук Александра Невского — великий князь Василий Дмитриевич — выступил в поход против литовцев. Василий I предложил участвовать в походе тверскому великому князю Ивану Михайловичу, но неожиданно получил отказ. Его причиной стало то, что двумя годами ранее, в 1406 г., тверской князь воевал вместе с московским против Литвы. На реке Плаве противоборствующие стороны заключили между собой перемирие.
Однако в договорной грамоте при перечислении князей, союзников Москвы, тверской князь упоминался одним из последних. Иван Михайлович счел такое оформление соглашения оскорбительным для себя и двумя годами позже отказался помогать своему соседу. При этом он обратился к Василию I с особым посланием, подчеркивая свое более высокое происхождение, указывая, что Даниила Александровича, предка Василия I, воспитал пращур Ивана Михайловича Ярослав Ярославич, тиуны (наместники) которого семь лет сидели в Москве: «По роду есми тебе дядя мой пращуръ великий князь Ярославъ Ярославичь, княжилъ на великомъ княжении на Володимерскомъ и на Новогородцкомъ; а князя Данила воскормилъ мой пращуръ Александровича, се(де)ли на Москве 7 летъ тивона моего пращура Ярослава. И по томъ князь великий Михайло Ярославичь, и по нем Дмитрей и Александр, вси сии дръжаша Новогородское и Володимерское великое княжение»13.
Как видим, главный упрек тверского князя заключался в том, что, признав тверского князя «братом», то есть равным себе, Василий I не написал в грамоте его имени сразу после своего.
Вплоть до смерти великого князя Ярослава Ярославича в 1271 г.14 Даниил являлся московским князем чисто номинально. Но даже и тогда десятилетний княжич был слишком юн для самостоятельного княжения. Поэтому известный знаток княжеских родословий А. В. Экземплярский (1846–1900) предположил, что опекуном Даниила стал еще один брат Александра Невского — Василий Ярославич, которому после смерти брата досталось Владимирское великое княжение 15.
Правда, Василий Ярославич прокняжил всего четыре года и скончался в январе 1276 г.16 Великокняжеский стол перешел в новое поколение Рюриковичей и достался по старшинству сыну Александра Невского Дмитрию. К этому времени Даниил достиг 15-летнего возраста, с которого юноши считались совершеннолетними и полностью годными к военной службе. Возможно, именно с этого времени он стал княжить самостоятельно.
Но полностью взрослым человек признавался в это время только после женитьбы. Князь Даниил Александрович был женат, в браке имел детей, но вплоть до самого последнего времени не было известно не только происхождение его супруги, но даже ее имя. Выяснить имя жены Даниила удалось только в 1995 г., когда С. В. Коневым (1958–2008) был введен в научный оборот уникальный Ростовский соборный синодик.
Термином синодик обозначают книги, куда записываются имена умерших для поминания в храме или монастыре. Согласно православному учению, молитвы об усопших — это продолжение наших отношений с ближними, которые перешли из временной жизни в жизнь вечную. Однако многие перед смертью не успели сподобиться таинства покаяния и святого причащения, умерли неожиданной или насильственной смертью. Но поскольку скончавшиеся уже не могут сами покаяться, только молитвы за них могут облегчить их загробную участь. Считается, что подобные молитвы особенно действенны в дни, имеющие особое значение для скончавшегося: дни рождения, крещения, упокоения, именин. Синодики прочитывались в церкви во время богослужений.
Историки обратили внимание на синодики еще в XIX в. прежде всего как на источники по генеалогии. Любому исследователю родословцев известны случаи, когда из них нередко выбрасывались целые ветви рода, «захудавшие» к моменту их составления. Причиной этого было характерное для русского Средневековья местничество, когда продвижение по карьерной лестницы зависело от прежних служб предков. В отличие от родословцев, синодики являются источником более достоверным, поскольку никому даже в голову не приходило вычеркивать из них своих предков или вписывать туда мифических родоначальников, что сплошь и рядом видим в родословцах, особенно поздних.
Однако первая попытка изучения синодиков оказалась неудачной. Простые перечни имен, без пояснений, практически ничего не давали исследователям. Известный источниковед Н. П. Лихачев (1862–1936) с горечью должен был констатировать, что синодики «дают материал малопригодный сам по себе»17. Академик С. Б. Веселовский (1876–1952), обратившись к изучению московского боярства, также затронул тему синодиков как исторического источника. Он отмечал, что синодики составлялись «по мере дачи вкладов, по родам». Когда синодики от ежедневного использования на службах ветшали и приходили в негодность, их переписывали. При этом «совершалась работа упорядочения и приведения в порядок и систему накопившегося материала». Лица, записанные в разное время, группировались по родам. «Это нарушало хронологию и приводило к частым ошибкам, к ошибочному соединению в роды или разъединению». Помимо ошибок переписчиков анализ синодиков осложняется тем, что «в одних случаях лиц записывали в порядке восходящем, в других в нисходящем, мешали боковые линии, родственников жен и т. п.». В итоге ученый пришел к выводу: «Данные синодиков, взятые сами по себе, в большинстве случаев совершенно непригодны. Но в соединении с родословными материалами, в случае, когда известно родословное древо, они являются очень ценным пополнением и коррективом для родословного материала как источник весьма достоверный… В общем синодики являются очень трудным с точки зрения исследования, но ценным источником, требующим особой осторожности и острой критики»18.
На этом фоне Ростовский соборный синодик выделяется своей исключительностью: он указывает не только имена, но и отчества записанных в него лиц, и к тому же составлен по семейным записям более ранним, чем имеющиеся в нашем распоряжении родословцы. Из него впервые узнаем имя жены Даниила Московского, а также неизвестных по другим источникам трех из девяти их сыновей. Читаем:
«Князю Данилу Александровичю Московскому и княгине его Агрепене и сыновомъ его Михаилу, Александру, Борису, Семиону, Василию, Афонасию, Данилу вечная память.
Великому князю Юрию Даниловичю скончавшемуся нужною смертию и княгине его Агафии вечная память.
Великому князю Ивану Даниловичю всея Руси скончавшемуся въ мнишеском чину и княгине его Елене вечная память»19.
Итак, жену Даниила звали Агрипиной20. Появление этого уникального источника вызвало у историков желание выяснить происхождение супруги Даниила. Московский исследователь А. А. Горский вспомнил известный обычай, когда имена детям нередко даются по именам близких родственников. При этом он указал, что из завещания внука Даниила — великого князя Семена Гордого — 1353 г. известно, что у последнего была тетка Анна21.
В этой связи историк задал вопрос — известны ли в княжеских семьях той эпохи такие же сочетания имен, как в семье Даниила Московского: Агрипина и Анна. И оно нашлось, правда, в обратной пропорции: Агрипиной звали дочь князя Ростислава Михайловича (сына Михаила Черниговского), обосновавшегося в Венгрии в 1245 г. после поражения в войне с Даниилом Галицким. Подобный выбор был не случаен — женой Ростислава и, соответственно, матерью Агрипины являлась Анна, дочь венгерского короля Белы IV. Он-то и приютил зятя в своих владениях. При этом подобное сочетание имен было единственным у Рюриковичей вплоть до конца XIII в.
Младшей сестрой дочери венгерского короля Анны была Констанция, вышедшая за Льва Даниловича, сына Даниила Романовича Галицкого. И хотя полного перечня детей Льва и Констанции в источниках нет, А. А. Горский предположил, что у Льва могла быть еще одна дочь по имени Агрипина. Именно она, на его взгляд, стала женой Даниила Московского. По его мнению, брак Даниила был заключен в 1282 г.
Но тут перед историком возникли сложности. Лев Данилович приходился двоюродным братом Александру Невскому (их матери были сестрами, дочерями торопецкого князя Мстислава Мстиславича Удалого). Соответственно, Даниил Московский и возможная дочь Льва Даниловича являлись бы родичами в шестой степени родства, а такие браки запрещались Церковью. Пытаясь обойти это препятствие, А. А. Горский указал на подобный прецедент — дочь Ярослава Тверского, брата Александра Невского, вышла замуж за Юрия Львовича, хотя они также являлись троюродными братом и сестрой, а значит, церковное согласие на их брак было получено. При этом ему пришлось выстроить достаточно сложную конструкцию, предположив, что брак Даниила был заключен в 1282 г. одновременно и в увязке с женитьбой Юрия Львовича на тверской Ярославне.
Однако исследователь не учел того, что большинство историков признают 1281 г. годом рождения старшего сына Даниила Юрия22. Справедливости ради отметим, что дата появления Юрия на свет неизвестна. Ее приходится вычислять косвенным путем. Известно, что в 1297 г. Юрий женился в Ростове на дочери князя Константина Борисовича Ростовского23. Юноши в средневековой Руси вступали в брак обычно в 15-летнем возрасте. Так, в 1366 г. в пятнадцать с небольшим лет Дмитрий Донской женился на дочери суздальского князя Евдокии24. Отсюда вытекает, что Юрий появился на свет в 1281 г.
Пытаясь доказать, что Даниил женился в 1282 г., исследователь выдвинул новое предположение: «В этом случае старший сын Даниила Юрий мог родиться не ранее 1283 г. и вступил в брак в 1297 г. максимум в 14 лет, что вполне возможно». Поскольку родство в 6-й степени, имевшее место в обеих парах, требовало церковной санкции, удобнее ее было просить для двух браков сразу. При этом он указал, что аналогичный случай — два матримониальных союза между троюродными братьями и сестрами, заключенных в одно время и в одном семействе (Рюрика Ростиславича), — имел место столетием ранее — в 1183 г.25
Но и здесь исследователь, строя свою версию, не учел одной детали: разрешение на подобные браки мог дать только митрополит «всея Руси», которого в тот момент не было: предшествующий митрополит Кирилл умер 6 декабря 1281 г., а следующий — Максим — прибыл на Русь только в 1283 г.
Самым же главным возражением против предполагаемого брака Даниила с дочерью Льва Даниловича является разница в их статусе. Если Лев Данилович являлся одним из сильнейших на Руси, то Московское княжество на тот момент было почти незаметным на политической карте своего времени, а младший сын Александра Невского явно терялся на фоне прочих русских князей. Между тем браки заключались, как правило, с равными по положению семьями. Поэтому жену Даниила следует искать среди соседей Москвы.
Самым ближним к будущей российской столице являлся Звенигород, небольшой городок на Москве-реке в полусотне километров от московского Кремля. По нему получили свою фамилию князья Звенигородские, происходившие из черниговского княжеского дома. По нашему предположению, женой Даниила Московского могла стать одна из звенигородских княжон. Судя по анализу родословия князей Звенигородских, она являлась сестрой князя Мстислава Михайловича Карачевского и Звенигородского, жившего приблизительно в то же время, что и Даниил Московский26.
Летописцы ничего не говорят о времени брака Даниила Московского. Во второй половине XIII в. московские и звенигородские князья были не самыми заметными князьями на Руси, и поэтому брак между ними прошел мимо внимания летописцев. Тем не менее у нас имеются основания хотя бы приблизительно вычислить его. Поскольку к 1276 г. он достиг 15-летнего возраста, с которого юноши могли жениться, возможной нижней датой женитьбы Даниила следует признать именно этот год. Что касается верхней даты, то ее следует связать с моментом рождения Юрия, старшего из сыновей Даниила. Большинство исследователей, как отмечалось выше, говорит о его рождении в 1281 г. Тем самым можно говорить, что Даниил женился в промежутке между 1276 и 1280 г.
В качестве приданого за своей женой Даниил получил пару волостей в Звенигородском уделе. У нас даже имеется возможность указать, какие именно. Судя по духовным грамотам московских князей XIV в., речь должна идти о Великой или Юрьевой слободе, лежавшей по среднему течению реки Рузы и получившей имя по старшему сыну Даниила, а также соседней Окатьевой слободки (к северо-западу от нынешнего города Рузы), название которой происходит от ее вероятного устроителя Окатия, родоначальника боярского рода Валуевых27.
Согласно Ростовскому соборному синодику, в браке у Даниила родились девять сыновей, тогда как Первая Новгородская летопись перечисляет лишь шесть: «Сынове Даниловы: Юрьи Великыи, Иванъ, Борисъ, Семеонъ, Александръ, Афанасии»28, а Симеоновская летопись пять: «Даниловы сынове: Юрьи, Александръ, Борисъ. Иванъ, Афанасеи»29. Поскольку летописцами в дальнейшем упоминаются только пять сыновей Даниила, следует полагать, что остальные сыновья умерли в младенчестве. Известно, что старшим из сыновей был Юрий, а относительно же последовательности появления на свет других у историков идут споры. Про дочерей Даниила никаких сведений нет.
Первыми шагами Даниила в качестве московского князя, судя по всему, стали меры по преодолению последствий Батыева нашествия. Во время штурма Москвы 20 января 1238 г. город сильно пострадал. По свидетельству летописца: «Люди избиша от старьца и до сущаго младенца, а град и церкви святыя огневи предаша, и манастыри вси и села пожгоша и много именья вземше, отъидоша»30. Очевидно, тогда же были разрушены и деревянные стены Кремля, заложенного еще Юрием Долгоруким в 1156 г. Археологами при раскопках были обнаружены следы разгрома московской крепости — слои пожарищ, погибшие жилища. Немыми свидетелями этих страшных дней явилась находка двух богатых кладов, обнаруженных на территории Кремля в 1988 и 1991 гг.31
Вероятно, Даниил восстановил городские укрепления. Прямых указаний в источниках на это нет, поскольку московское летописание возникает лишь при внуке Даниила — Семене Гордом — около 1340 г. Однако судить об этом можно на основании того, что в начале XIV в. Москва успешно отразила осаду тверских князей.
Одновременно в Кремле возводится и первый каменный храм. Правда, историками принято считать, что первой каменной церковью Москвы стал Успенский собор времен Ивана Калиты. Это утверждение основано на записи летописца конца XV в.: «6834 (1326) августа 4, пресвященыи митрополитъ Петръ заложи на Москве прьвую церковь камену Успение Богородица, при князи Иване Даниловиче…»32. Однако находки археологов показывают, что еще до этого на месте Успенского собора ранее существовал каменный храм, возведенный в конце XIII в. Его небольшие остатки обнаружили во время раскопок33.
В качестве московского князя Даниил впервые упоминается в летописях лишь под 1282 г., когда он оказался втянутым в междоусобную борьбу коалиции Новгорода, Твери и Москвы с великим князем Дмитрием Александровичем Переславским: «Идоша новгородци на Дмитриа к Переяславлю, и Святославъ со тферици, и Данило Олександрович с москвици; Дмитрии же изиде противу плъкомъ со всею силою своею и ста въ Дмитрове»34.
Но владел ли Даниил в этот период всей Москвой? Академик М. Н. Тихомиров (1893–1965) обратил внимание на известие Супрасльской летописи первой половины XVI в. о смерти Даниила Московского, которая добавляет, что он «княжив лет 11»35. Перед нами явно слова, пропущенные в других летописях. Поскольку известно, что Даниил умер в 1303 г., начало его московского княжения, исходя из данного сообщения, следует отнести к 1292 г.
Не зная, как разрешить данное противоречие, М. Н. Тихомиров писал: «Из противоречивых показаний летописей как будто можно сделать одно заключение — признать ошибкой или данные Супрасльской летописи, или противоречащее ей свидетельство Никоновской летописи, называющей Даниила московским князем уже в 1282 г. Но возможно и другое предположение — признание ошибки в дате, поставленной в Супрасльской летописи, особенно ценной для истории ранней Москвы. Вместо цифры 11 в ней могло стоять 21, так как буквы “
Правда, согласиться с тем, что перед нами описка, довольно трудно. Цифра 11 записывалась как «
Все становится на свои места, если вспомнить, что в Москве существовала традиция совместного владения городом и ближайшей округой, которая прослеживается по духовным и договорным грамотам московских князей XIV–XVI вв. Однако они дошли до нас только начиная с завещаний Ивана Калиты. Поэтому историки, говоря о совместном владении Москвой князьями, начинают его обзор именно с этих источников. Между тем благодаря случайной оговорке Супрасльской летописи становится понятным, что данная традиция, когда в Москвой владел не один князь, а по крайней мере два совладельца, возникла еще в XIII в.
При этом следует подчеркнуть, что главной обязанностью князей-совладельцев являлась совместная оборона города при нередких тогда вражеских нашествиях. Это требовало единоначалия в делах обороны княжества. Один из князей-совладельцев обязательно признавался «великим» по отношению к своим совладельцам. Подобная ситуация совместного владения была характерна и для других русских городов и княжеств этого времени. Москва в этом плане не представляла какого-то исключения.
Оговорка Супрасльской летописи показывает, что ее составитель не ошибался, когда говорил об 11 годах именно самостоятельного княжения Даниила в Москве, начиная с 1292 г. Данное обстоятельство позволяет выяснить имя московского совладельца Даниила. Под этим годом летописцы сообщают о смерти старшего сына великого князя Дмитрия Александровича — Александра: «Преставися у великаго князя у Дмитриа сынъ Александръ в татарехъ»37. Очевидно, именно он и был совладельцем Даниила в Москве. Только после его кончины Москва стала полной собственностью младшего сына Александра Невского.
На протяжении 80–90-х годов XIII в. Даниил активно участвует в политической жизни Северо-Восточной Руси. В это время развернулась борьба между двумя группировками князей: великим князем Дмитрием Александровичем Переславским, Даниилом Александровичем Московским и Михаилом Ярославичем Тверским, с одной стороны, и Федором Ростиславичем, князем ярославским и смоленским, вместе с Андреем Александровичем Городецким, будущим великим князем владимирским, с другой стороны. Эта борьба была порождена ордынским фактором. Коалиция переславского, московского и тверского князей ориентировалась на Ногая, правителя западной части улуса Джучи, тогда как их противники стояли за хана Волжской Орды Тохту.
В 1293 г. князю Андрею Александровичу Городецкому удалось получить у хана Тохты сильную ордынскую рать во главе с братом хана Дюденем, которая направилась на владения «проногайской» коалиции князей. Удар ордынцев был страшен, и еще долго на Руси вспоминали «Дюденеву рать». При этом земли союзников ордынцев — Федора Ростиславича и Андрея Александровича — не подвергались разорению. Летописец подробно перечисляет города, взятые ордынцами. В их числе названа и Москва38. В итоге Дмитрий Переславский вынужден был уступить великокняжеский стол брату Андрею. Вскоре после этого Дмитрий скончался.
При этом споры русских князей не прекратились. В 1296 г. во Владимире состоялся княжеский съезд. При этом его участники разделились на две партии. Во главе первой встал великий князь Андрей Александрович, которого поддержали Федор Ростиславич Ярославский и Смоленский и Константин Борисович Ростовский. Их противниками выступили Даниил Московский, Михаил Тверской и переславцы. Распри на съезде чуть не дошли до вооруженных стычек, но все же князьям удалось договориться и они разъехались восвояси39.
О напряженной ситуации в княжеских отношениях хорошо свидетельствует договорная грамота между Тверью и Новгородом. Обращаясь к новгородскому архиепископу Клименту, тверской князь Михаил Ярославич писал: «Поклонъ от князя от Михаила къ отьцю ко владыце. То ти, отьче, поведаю: с[ъ бр]атомь своимъ съ стареишимъ съ Даниломъ одинъ есмь и съ Иваномъ; а дети твои, посадникъ, и тысяцьскыи, и весь Новъгородъ на томъ целовали ко мне крьст: аже будеть тягота мне от Андрея, или от тат[ар]ина, или от иного кого, вамъ потянути со мною, а не отступите вы ся мене ни въ которое же веремя»40.
Следует объяснить, о чем идет речь в данном документе. Из него выясняется, что между Москвой, Тверью и Новгородом был заключен союз, направленный против великого князя Андрея Александровича. При этом союзники опасались военных действий как со стороны великого князя, так и со стороны татар, очевидно, поддерживавших Андрея. Хотя грамота не датирована, историки уверенно относят ее к 1296 г. на основании того, что «розмирье» между князьями, упоминаемое в ней, резко обозначилось на княжеском съезде во Владимире в этом году. В своем послании новгородскому архиепископу Михаил Тверской упоминает своих союзников: Даниила (это, без сомнения, московский князь) и Ивана. В нем историки полагают Ивана Дмитриевича, сына великого князя Дмитрия Александровича, после смерти которого ему досталось Переславское княжество.
Однако в этом усомнился В. А. Кучкин. Поводом для этого стала запись в одной из новгородских книг — в пергаменной ноябрьской Служебной минее. В ней на полях имеется запись конца XIII в.: «В лето 6804 (1296. — Авт.) индикта 10 при владыце Клименте, при посаднице Андрее съгониша новгородци наместниковъ Андреевыхъ съ Городища, не хотяще князя Андрея. И послаша новгородци по князя Данилья на Мъсквоу, зовоуще его на столъ в Новъгород на свою отциноу. И присла князь переже себе сына своего въ свое место именемъ Ивана. А сам князь Данилии. Того же лета поставиша мостъ великыи чересъ Вълхово. А псал Скорень, дьякон святыя Софии»41.
Указанные в записи лица действительно известны в то время: архиепископ Климент занимал новгородскую кафедру с 1276 по 1299 г., а посадник Андрей Климович исполнял должность новгородского посадника с перерывами с 1286 по 1316 г. Но самое главное — приглашение на новгородский стол князя Даниила Александровича подтверждается находкой в Новгороде его свинцовых печатей42. Для нас эта запись интересна тем, что в ней впервые упоминается сын Даниила Иван Калита, которого отец послал прежде себя в Новгород.
Поскольку запись сделана на ноябрьской минее, можно полагать, что писец описывал события ноября 1296 г. На основании этого историк отнес заключение упомянутого новгородско-тверского договора к ноябрю 1296 г. или несколько более позднему времени43. Но, сделав шаг в правильном направлении, он допустил ошибку, соотнеся упоминаемого в договоре Ивана с сыном Даниила вместо Ивана Дмитриевича Переславского.
Биография Даниила содержит еще одну загадку. Уже после смерти Даниила Московского и Андрея Александровича в борьбу за великое княжение вступили Михаил Ярославич Тверской и Юрий Данилович Московский. Историки XIX в. выражали определенное удивление по поводу того, что в борьбу за владимирский стол ввязался Юрий, на их взгляд, не имевший на него никаких прав. По этому поводу С. М. Соловьев (1820–1879) указывал, что «по прежнему обычаю старшинство принадлежало Михаилу Ярославичу Тверскому, поскольку он был внуком Ярослава Всеволодовича, а Юрий Данилович Московский — правнуком, и отец его Даниил не держал старшинства»44.
На первый взгляд, мнение историка полностью подтверждается фактами. Напомним, что после кончины Александра Ярославича Невского, являвшегося в 1252–1263 гг. великим князем владимирским, великокняжеский стол перешел к его брату Ярославу Ярославичу Тверскому, занимавшему его с 1263 по 1272 г. В этом году Ярослав умер и новым великим князем стал еще один брат Александра Невского — Василий Ярославич Костромской, скончавшийся в 1276 г.
Затем владимирский великокняжеский стол перешел в следующее поколение Рюриковичей Северо-Восточной Руси. Великим князем владимирским с 1277 г. стал второй сын Александра Невского — Дмитрий Александрович Переславский. У него Владимирское великое княжение оспаривал его брат — третий сын Александра Невского — Андрей Александрович Городецкий. В 1294 г. Дмитрий скончался, и великокняжеский стол был окончательно закреплен за Андреем Александровичем Городецким. Великим князем владимирским он был вплоть до своей кончины летом 1304 г. К этому моменту других сыновей Александра Невского в живых уже не оставалось (младший из них — Даниил Александрович Московский — скончался в начале весны 1303 г.) и великокняжеский стол достался Михаилу Ярославичу Тверскому, как старшему в роду северо-восточных Рюриковичей. На нем он сидел вплоть до своей смерти в 1318 г., когда великим князем стал старший сын Даниила Московского Юрий Данилович.
Из этого перечня видим, что Даниил Александрович Московский никогда не являлся великим князем. Это подтверждает Лаврентьевская летопись, везде именующая его просто князем (под 1297 г.: «Данило Московьскии князь», под 1301 г.: «Данило князь Московьскыи», под 1303 г.: «Данило князь Олександровичь», под 1304 г.: «князь Данило Олександрович»)45. Аналогичную картину дает и Московский летописный свод конца XV в., также называющий Даниила только князем (под 1282, 1296, 1303 и 1330 гг.)46.
Между тем составленная в XVI в. Никоновская летопись именует Даниила Московского при жизни преимущественно великим князем (под 1282 г.: «князь велики Московской Данило Александровичь», под 1288 г.: «великимъ княземъ Даниломъ Александровичемъ Московскимъ», под 1295 г.: «князь великы Данило Александровичь Московский», под 1301 г.: «князь Данило Александровичь Московский» и тут же — «князь великы Данило Александровичь Московский», под 1302 г.: «великого князя Данила Александровича Московскаго» и «князь велики Данило Александровичь Московский», под 1303 г.: «князь великый Данило Александровичь Московьский»47). Как видим, из семи упоминаний в шести случаях Даниил назван великим князем. Также великим князем он именуется в посмертных известиях (под 1305, 1329, 1330 гг.)48.
Откуда составитель Никоновской летописи взял титул великого князя, который, судя по Лаврентьевской летописи и Московскому летописному своду конца XV в., Даниилу Московскому не принадлежал?

Великий князь Даниил Московский. Миниатюра
из «Царского титулярника». 1672
В свое время исследователи, пытаясь объяснить данный факт, обратили внимание на статьи, находящиеся в рукописи Археографической комиссии перед Комиссионным списком Новгородской первой летописи. Первая из них носит заголовок «Сице родословятся велицеи князи русьстии» и содержит краткое родословие русских князей от Рюрика до Василия Темного. Среди прочих в нем упоминается Даниил Московский: «Александръ роди Данила Московьскаго. Данилъ роди Ивана, иже исправи Русьскую землю от татеи и от разбоиникъ» (в другом варианте: «Сынове Александровы: Дмитрии Переяславьскыи, Андреи Городецкыи, Василии Костромьскыи, Данило Московьскыи. Сынове Даниловы: Юрьи Великыи, Иванъ, Борисъ, Семеонъ, Александръ, Афанасии»49). Аналогичный текст читается и в начале Симеоновской летописи: «Александровы сынове Невскаго: Василие, Дмитреи, Андреи, Данило Московскии. Даниловы сынове: Юрьи, Александръ, Борисъ. Иванъ, Афанасеи»50, откуда он был позаимствован составителем Никоновской летописи, поместившим данное родословие в начале своего труда51.
Поскольку в Новгородской первой летописи данная роспись имеет заголовок «Сице родословятся велицеи князи русьстии», а продолжатели поколений являлись великими князьями, историки предположили, что составитель Никоновского свода, живший через два с лишним столетия после Даниила Московского, не разобравшись, счел его великим князем. Отсюда был сделан вывод, что употребление в Никоновской летописи великокняжеского титула применительно к Даниилу Московскому является не более чем простой ошибкой ее составителя.
Вместе с тем ситуация оказывается несколько иной. Одним из источников Никоновской летописи является Симеоновская летопись конца XV в. В ней Даниил Московский именуется просто князем (под 1293, 1297, 1301, 1303 гг.)52. Внимание, однако, привлекает известие о его кончине, в заголовке которого Даниил прямо назван великим князем: «Преставление великаго князя Данила Московскаго. В лето 6812 месяца марта в 5, въ великое говеино, на безымяннои недели въ вторникъ, преставися князь Данило Александровичь, внукъ Ярославль, правнукъ великаго Всеволода, в чернецехъ и въ скиме, и положенъ бысть въ церкви святого Михаила на Москве, въ своеи отчине»53.
Разгадку дают события, случившиеся через четверть века после смерти Даниила Московского. После подавления антиордынского восстания в Твери хан Узбек в 1328 г. отдал ярлык на великое княжение Ивану Калите. Однако из сообщения новгородского летописца выясняется, что Владимирское великое княжение было поделено между ним и суздальским князем Александром Васильевичем, также принимавшим участие в походе на Тверь: «И по Турлакове рати поидошя князи в Орду, и Озбякъ поделилъ княжение имъ: князю Ивану Даниловичю Новъгород и Кострому, половина княжениа; а Суждальскому князю Александру Васильевичю далъ Володимеръ и Поволжье, и княжи полътретья году»54.
Тем самым на Руси оказалось два великих князя. Историки, столкнувшись с данным обстоятельством, посчитали, что усиление великокняжеской власти было расценено ханом Узбеком опасным для господства монголо-татар и он разделил великое княжение55. Но завоеватели старались ничего не менять в порядке управления на Руси, и поэтому можно предположить, что подобные прецеденты с наличием одновременно двух великих князей были в порядке вещей.
Чтобы подтвердить наше предположение, вновь обратимся к описанию летописцами княжеского съезда 1296 г. во Владимире. Московский летописный свод конца XV в. под этой датой сообщает: «В лето 6804. Бысть нелюбие межи князеи руских, княземъ великимъ Андреемъ и братомъ его княземъ Даниломъ Александровичемъ Московскимъ и князем Иваномъ Переславьским и княземъ Михаиломъ Тверьскимъ; прииде же тогды посолъ из Орды от царя, Олекса и Неврюи, а княземъ всемъ бысть съездъ въ Володимери. И сташа со едину сторону князь Андреи Александровичь, князь Федоръ Ростиславичь Ярославьски, князь Костянтинъ Ростовьски. Противу сташа имъ князь Данило Александровичь Московьски и князь Михаило Ярославич Тферски, с ними же и Переславци съ единого. И малымъ не бысть межи ими кровопролитья, сведоша бо их в любовь владыка Семенъ и владыко Измаило, и разъехашася кождо во свояси»56.
Никоновская летопись добавляет важную подробность: «И тако поделивьшеся княжениемъ разыдошася кождо въ свояси»57. Но только Софийская первая летопись указывает, что это было за княжение: «И поделишася великимъ княжениемъ»58.
Тем самым видим, что раздел Владимирского великого княжения в 1328 г. между Иваном Калитой и Александром Васильевичем Суздальским не был единственным прецедентом, а отражал давнюю традицию, зародившуюся, видимо, еще в домонгольский период и продолжавшуюся вплоть до конца XVII в., когда на русском престоле оказались два соправителя — цари Петр I и его старший брат Иван V.
Как видим, летописцы не ошибались, когда называли Даниила Московского великим князем. Это же подтверждает и упомянутая выше новгородско-тверская договорная грамота, в которой тверской князь Михаил Ярославич называл Даниила «братомь своимъ стареишимъ».
Биография Даниила Московского содержит еще одну загадку. Она связана с московским Даниловым монастырем. Ныне общепризнанным считается, что именно он был основан московским князем Даниилом Александровичем и является древнейшей московской обителью. Однако при этом историки не могут определиться с датой возникновения монастыря. В конце XVIII в. говорили о «второй половине XIII в.» или «начале XIV в.» и даже об основании обители «около XIII столетия», привязывая данный факт к полувековому периоду княжения в Москве Даниила Александровича (1263–1303 гг.)59.
Однако вряд ли двухлетний княжич мог основать монастырь. Поэтому известный историк Русской Церкви Амвросий в одной из частей своего труда в качестве возможной даты возникновения Данилова монастыря называл 1272 г., когда в Москве закончилось правление тиунов великого князя Ярослава Ярославича60. Но едва ли Даниил, которому на тот момент исполнилось всего лишь 11 лет, мог положить начало обители. Поэтому архимандрит Дионисий, настоятель Данилова монастыря в конце XIX в., в своей работе, посвященной истории обители, первоначально остановился на дате «не позднее 1282 г.», а в другом месте своего труда осторожно говорил о промежутке «не ранее 1272 г., но едва ли позднее 1282 г.»61. Выбор последней даты определялся тем, что под этим годом Даниил впервые упоминается летописью в качестве московского князя.
По предположению В. А. Кучкина, монастырь был основан князем не в начале жизни, а в конце своего пути. На его взгляд, «наиболее подходящим временем для строительства им Данилова монастыря были 1297–1300 гг.»62. Но и эту датировку следует признать не более чем догадкой.
Разногласия историков о времени основания монастыря требуют обращения непосредственно к источникам. Сразу же следует оговориться, что в летописях XIV–XVI вв. Данилов монастырь упоминается крайне редко. Более или менее подробный рассказ о нем содержится лишь в Степенной книге. Из нее становится известным, что обитель была основана князем Даниилом, а в 1330 г. сыном Даниила Иваном Калитой была переведена «внутрь града Москвы на свой царский дворъ», то есть в Кремль, где князь поставил церковь Спаса Преображения и «монастырь честенъ устрои». По главному храму он получил название Спасского. Относительно прежней обители говорится, что она оскудела и исчезла, «яко ни следу монастыря познаватися», осталась лишь церковь Даниила Столпника, «и прозвася место оно — сельцо Даниловское. Монастыря ни въ слуху не бяше, аки не бысть». При Иване III в связи со строительством нынешних кремлевских стен Спасский монастырь был переведен из Кремля на левый берег Москвы-реки и получил название Новоспасского монастыря, где находится и по сей день. Что же касается собственно Данилова монастыря, то он был возобновлен лишь в XVI в. при Иване Грозном63.

Смерть и похороны Даниила. Миниатюры Лицевого
летописного свода. XVI в.
Насколько можно доверять рассказу о начале Данилова монастыря, содержащемуся в Степенной книге — памятнике времени Ивана Грозного, отстоящем от эпохи Даниила более чем на два столетия? Показателен один лишь факт: говоря о смерти Даниила, Степенная книга утверждает, что князь был захоронен на братском кладбище Данилова монастыря: «Конечьнаго ради смирения не изволи въ церкви положенъ быти, но на монастыри, идеже и прочую братию погребаху»64.
Однако более древняя Троицкая летопись содержит иную версию. И хотя указанная летопись погибла в московский пожар 1812 г., в свое время ею активно пользовался Н. М. Карамзин для работы над «Историей государства Российского». Им о смерти Даниила из летописи была сделана выписка, заканчивавшаяся словами: «Положен бысть въ церкви св. Михаила на Москве». Таким образом, местом погребения первого московского князя, согласно Троицкой летописи, следует признать Архангельский собор в Кремле65.
Но прав ли был выдающийся историограф? На рубеже XV–XVI в. при Иване III, а затем его сыне Василии III на территории московского Кремля разворачивается грандиозная перестройка. Среди прочих в 1505 г. был разобран прежний деревянный Архангельский собор, с самого начала московской династии служивший местом погребения князей, а на его месте возведен нынешний.
Именно в нем, по свидетельству Троицкой летописи в передаче Н. М. Карамзина, и был захоронен Даниил. Однако здесь его могилы нет и, судя по всему, никогда не было.
Это заставляет обратиться к анализу наиболее ранних из сохранившихся летописей. Одной из них является Рогожский летописец, составленный около 1412 г. и дошедший до нас в списке 40-х годов XV в. В нем рассказывается, что 10 мая 1330 г. Иван Калита близ своего двора в московском Кремле заложил каменную церковь Спаса Преображения. Далее сообщается, что он учредил здесь монастырь и «приведе ту пръваго архимандрита Иоана», который «последи поставленъ бысть епископомъ Ростову» и «въ старости глубоце къ Господу отиде». Весьма интересным представляется комментарий летописца к этому известию: «Глаголють же неции отъ древнихъ старець, яко пръвии бе князь Данило Александровичь сиа архимандритию имеяше оу святаго Данила за рекою, яко въ свое ему имя церкви тои поставленеи сущи, последи же не по колицехъ летехъ сынъ его князь великии Иоанъ боголюбивъ сыи, паче же рещи, мнихолюбивъ и страннолюбивъ и топлее сыи верою, и приведе отътуду архимандритию ту и близь себе оучини ю, хотя всегда въ дозоре видети ю…»66

Собор Спаса на Бору в Кремле. Рисунок 1790-х гг.
Когда был составлен этот комментарий? Судя по всему, не ранее 1356 г., поскольку содержит сведения о поставлении в ростовские епископы спасского архимандрита Иоанна и его смерти в 1356 г.67 Автор комментария трудился в Кремле, так как Данилов монастырь, расположенный на правом берегу Москвы-реки, был для него «за рекою». Пытаясь выяснить подробности начальной истории обители, он расспрашивал знающих людей (об этом говорит фраза: «глаголють же неции отъ древнихъ старець»). На основе этих фактов В. А. Кучкин предположил, что данный текст был составлен в конце 1350-х годов по припоминаниям лиц, живших еще в эпоху Даниила и бывших очевидцами закладки Данилова монастыря68.
Однако в данном случае историк пренебрег очень важным правилом — необходимостью приводить цитаты полностью, а не в усеченном виде. Из окончания статьи 1330 г. Рогожского летописца легко определить время ее написания: «Онъ, христолюбивыи князь (Иван Калита. — Авт.), благо основание положи, сице и дети его и внучата и правнучата по тому же ходяще и тако же творяще ту же мъзду и славу приемлютъ, благаго бо корени и отрасли благородни суще»69.
Правнуками Ивана Калиты являлись великий князь Василий I и его братья, а следовательно, время создания записи следует отодвинуть с середины XIV в. по крайней мере к рубежу XIV–XV вв. Поскольку аналогичный Рогожскому летописцу рассказ читался и в Троицкой летописи, время его создания можно установить довольно точно — впервые он появляется в своде 1408 г. митрополита Киприана. К этому моменту со времени кончины князя Даниила прошло больше столетия и понятно, что современников основания Данилова монастыря уже не было в живых.
Как видим, современные Даниилу источники ничего не говорят о ранней истории Данилова монастыря. Об этом становится известным из рассказов гораздо более позднего времени, не отличающихся большой определенностью и точностью.
Вопросы вызывает и факт наличия архимандритии в Даниловом монастыре. Выясняется, что он был не рядовым монастырем, а являлся резиденцией московских архимандритов, то есть выборных глав московских настоятелей монастырей, выполнявших функции митрополичьих наместников. Статус архимандрита требовал от носителя этого звания ежедневного тесного общения с другими городскими храмами. Но Данилов монастырь располагался далеко за пределами тогдашнего города и, более того, был отделен от него такой крупной водной преградой, как Москва-река. Постоянных мостов через нее в XIII–XIV вв. не существовало, а во время ледохода, ледостава или паводка связь обители с городом должна была прерываться.
Следует указать еще на одно обстоятельство. Московские монастыри имели, помимо прочего, и оборонительные функции. Если взглянуть на карту Москвы XIV в., то увидим ее окруженной кольцом пригородных монастырей, игравших роль военных форпостов. Сами по себе они не имели серьезного оборонительного значения, но могли предупредить горожан о внезапном вражеском набеге и дать им возможность укрыться за кремлевскими стенами. При этом каждый из монастырей находился в зоне прямой видимости двух соседних, в результате чего противник не мог подойти к городу незамеченным. Но в XIV в. кольцо московских монастырей не являлось замкнутым — незащищенной оставалась территория позднейшего Замоскворечья, поскольку Москва-река сама по себе являлась серьезным защитным рубежом. Лишь в XVI в. после строительства здесь укреплений Андреевского, Донского и Данилова монастырей это кольцо было замкнуто. Отсюда существование в XIII в. одиноко стоящего Данилова монастыря, да к тому же расположенного в Замоскворечье — со стороны Орды и Рязани, наиболее опасной в военном отношении, представляется крайне маловероятным.
Необходимо вновь обратиться к рассказу Рогожского летописца: «Князь Данило Александровичь сиа архимандритию имеяше оу святаго Данила за рекою…»70 Ключевое слово здесь — «за рекою». Но какую из них имел в виду летописец, сидевший в Кремле, — Москву-реку или впадающую в нее Неглинную, ныне спрятанную под землей?

Князь Даниил Московский и строительство в Москве. Современная миниатюра
Выяснить данное обстоятельство позволяет один из рассказов, бытовавших среди братии Новоспасского монастыря и зафиксированный известным историком Москвы И. М. Снегиревым (1793–1868). Собирая сведения по истории монастыря и предшествовавших ему обителях, он упоминает о предании, согласно которому дубовая церковь, сооруженная князем Даниилом, стояла на месте Букаловой хижины, на бору, между черторыем, или оврагом, и болотом71.
Топография средневековой Москвы изучена сравнительно неплохо. Известно, что Черторьем, или Чертольем, называлась местность к западу от Кремля, отделенная от него Неглинной и получившая название от ручья Черторыя. Впервые в летописи она упоминается с 1365 г.72 Ручей Черторый, впадавший в Москву-реку приблизительно в районе современного храма Христа Спасителя, начинался в Козихинском болоте, занимавшем обширный участок в районе Малой Бронной улицы и Козихинских переулков. Еще одно Козье болото находилось в районе Пречистенки, на месте Власьевских переулков, где под 1508 г. летописью упоминается церковь Благовещенья «на Козье болотце»73. Под 1488 г. летописец фиксирует еще одно значительное болото, занимавшее местность на левом берегу Москвы-реки, в районе Мокринского переулка 74.
Тем самым оказывается, что резиденция московского архимандрита находилась в Чертолье, в относительной близости с Кремлем, и отделялась от него неширокой речкой Неглинной, которую легко было пересечь в любое время года.
Имеющиеся в нашем распоряжении источники позволяют выяснить название этого древнейшего монастыря. Русские летописи, рассказывая о гибели в 1318 г. в Орде тверского князя Михаила Ярославича, сообщают, что его тело взял Юрий Данилович Московский «и довезше Москвы и положиша его въ церкви святаго великого Спаса в манастыри»75.
Как видим, древнейший московский монастырь находился в Чертолье, на левом берегу Москвы-реки, приблизительно в районе современного храма Христа Спасителя, носил название Спасского и не имел ничего общего с одноименной обителью, основанной Иваном Калитой в 1330 г.
Но почему архимандрития была позднее переведена в кремлевский монастырь Спаса на Бору? Виной тому стал большой пожар, случившийся в Москве в 1365 г. Описание его сохранилось во многих летописях XV–XVI вв. Он начался в разгар летней жары, когда стояла засуха, было мало воды, а на город неожиданно налетел шквальный ветер. «И тако въ единъ часъ или въ два часа весь градъ безъ останка погоре», — записал тверской летописец. И добавлял: «Такова же пожара преже того не бывало, то ти словеть великы пожаръ, еже отъ всех святыхъ»76.
«Всех святых» — название церкви. Но в Москве XIV в. было два храма с этим посвящением: один располагался на Кулишках, другой находился в Чертолье. Какой имелся в виду? Ответ дает московский летописный свод конца XV в., согласно которому пожар начался «от Всех Святых сверху от Черторьи, и погоре посад весь и Кремль и Заречье»77. Именно здесь, в Чертолье, располагался Спасский монастырь, который, будучи деревянным, сгорел без остатка. Очевидно, во время этого пожара была уничтожена и дубовая церковь, возведенная князем Даниилом, близ которой, по свидетельству Степенной книги, он нашел свой последний приют.
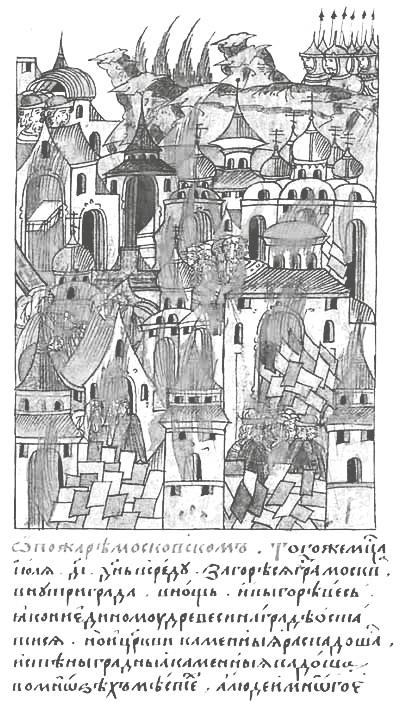
Пожар в Москве. Миниатюра Лицевого
летописного свода. XVI в.
Поскольку в сгоревшем Спасском монастыре находился центр архимандритии, восстанавливать его предстояло в первую очередь. Но у московских властей на это не было ни сил, ни средств. В условиях резко обострившейся военной опасности со стороны быстро набиравшего силы Великого княжества Литовского требовалось срочно укреплять Кремль. Его дубовые стены, построенные еще при Иване Калите, пришли в негодность и требовали срочной замены. Строительство белокаменного Кремля потребовало усилий всего Московского княжества.
В этом плане показательно известие летописца, что в начале 1366 г. правнук Даниила московский князь Дмитрий Иванович вынес решение о начале строительства на совет со своим двоюродным братом Владимиром и старейшими боярами: «Погадавъ съ братомъ своимъ съ княземъ съ Володимеромъ Андреевичемъ и съ всеми бояры стареишими и сдумаша ставити городъ каменъ Москвоу… Тое же зимы повезоша камение къ городоу»78.
Память об этом сохранилась до сих пор в прежних названиях кремлевских башен: Свибловой (Водовзводной), Беклемишевской (Москворецкой), Фроловской (Спасской), Собакиной (Угловой Арсенальной). Они были названы в честь бояр эпохи Дмитрия Донского, ответственных за их возведение. Уже один этот факт показывает, насколько много средств и усилий должна была затратить Москва для возведения белокаменных стен. В этих условиях думать о том, чтобы вести параллельно какое-то другое, хотя бы и важное, строительство, просто не приходилось.
Тем не менее нужно было решать вопрос о том, где следовало бы разместить архимандритию. В отличие от сгоревшего Спасского монастыря в Чертолье, каменный Спасский монастырь в Кремле уцелел во время великого пожара. Именно сюда во второй половине 60-х годов XIV в. и была перенесена архимандрития.

Даниил Московский. Фреска Владимирского
Успенского собора. 1551
Но как быть с показаниями Рогожского летописца, говорящего о том, что перенесение архимандритии в Кремль произошло при Иване Калите? Очевидно, имеем здесь дело с контаминацией или смешением разных лиц. Выше уже отмечалось, что данный рассказ был составлен около 1408 г. и его автор должен был пользоваться припоминаниями старцев монастыря. Они помнили, что данное событие произошло при архимандрите Иоанне. Действительно, в 60–70-е годы XIV в. настоятелем кремлевского Спасского монастыря являлся архимандрит Иоанн Непеица 79. Однако тверской летописец допустил неточность, смешав Иоанна Непеицу с его более известным предшественником, также Иоанном, ставшим впоследствии ростовским епископом и который действительно жил при Иване Калите.
Для нас наиболее интересным представляется другой вопрос: когда возникает предположение о том, что Даниил был захоронен в обители, основанной им на месте нынешнего Данилова монастыря? Судя по всему, это произошло в начале XVI в. Под 1508 г. Никоновская летопись сообщает о перенесении митрополитом Симоном останков московских князей во вновь возведенный Архангельский собор в Кремле. Подробно перечисляются все гробницы и их местоположение, однако могилы основателя московской княжеской династии упомянуто не было 80.
Московские книжники, обратившись к поиску возможного места захоронения Даниила, обратили внимание на летописное указание, что ранее обитель располагалась «за рекою». Но при этом ими была допущена ошибка. Встречающееся в источниках XIV в. выражение «за рекою» относилось к району, лежавшему за Неглинной, то есть Занеглименью. Что касается современного Замоскворечья, в XIV — начале XV в. его территория в военном отношении была самой незащищенной и как следствие этого долгое время оставалась незастроенной. К концу XV в. угроза регулярных татарских нашествий становится менее актуальной и, судя по археологическим данным, новые городские кварталы появляются и за Москвой-рекой. Именно с этого времени выражение «за рекою» стало применяться к районам Замоскворечья. Не подозревая этой перемены, московские книжники сопоставили указание «за рекою» с Замоскворечьем.
Оказалось, что в пяти верстах к югу от Кремля существовало сельцо Даниловское с одноименной церковью. Именно этот храм соотнесли с обителью, которую мог заложить князь Даниил. К сожалению, у нас нет сведений о его начальной истории. Единственное упоминание о нем содержится в уставной губной московской записи второй четверти XV в., более известной как «Запись о душегубстве»81. Археологические раскопки Л. А. Беляева, проведенные на месте нынешнего Данилова монастыря, хотя и показали здесь наличие слоев XIV в., не могут ответить на главный вопрос — могла ли существовать здесь в указанное время обитель82.
Тем не менее возможно выдвинуть некоторые предположения, как возникло Даниловское. Территория к югу от Москвы сравнительно рано становится районом крупного боярского землевладения. Об этом говорит то, что подавляющее большинство подмосковных сел получило названия от имен первых владельцев. Располагавшиеся неподалеку от Даниловского села Воробьево и Деревлево, видимо, получили свои названия от прозвищ племянников видного боярина середины XIV в. Андрея Ивановича Кобылы — Кирилла Воробы и Нестора Деревля. Старшим из пяти сыновей Андрея Кобылы был Семен Жеребец. С его именем возможно связать название находившегося по соседству села Семеновского83.
Очевидно, и Даниловское получило название от первого владельца. Московский летописный свод конца XV в. сообщает о двух боярах с этим именем. Осенью 1392 г. великий князь Василий I послал в Новгород своих бояр, одним из которых был Данила Тимофеевич. Более важное положение занимал другой — Данило Феофанович, из рода Бяконтовых, племянник митрополита Алексея. О его смерти 13 февраля 1393 г. летописец сообщил как об одном из самых заметных событий московской жизни: «Тое же зимы преставися февраля въ 13 Данило Феофановичь, наречены въ мнишьском чину Давыд, иже бе истинныи бояринъ великого князя и правыи доброхот, служаше бо государю безо льсти въ Орде и на Руси паче всех и голову свою складаше по чужим странамъ, по незнаемым местомъ, по неведомым землямъ. Многы труды понес и многы истомы претерпе, егда бежа из Орды, и тако угоди своему господеви, и тако тогда великыи князь любве ради иже к нему на погребении его сжаливси по нем прослезися, и тако плака на многъ час, положенъ бысть в манастыре у Михаилова чюда, близ гроба дяди его Алексея митрополита»84. Но поскольку лица с данным именем известны и в других боярских родах, вопрос требует дальнейшего исследования.
Московские книжники XVI в., обнаружив на правобережье Москвы-реки Даниловское, соотнесли его с именем московского князя. Дело оставалось лишь за малым — найти могилу князя Даниила Александровича. Подробности этих поисков довольно детально рисует Степенная книга.
Она повествует, что некогда Иван III проезжал со своей свитой мимо села Даниловского. «Юноша же единъ отъ вельможьскихъ чадъ отъ полку его, коню подъ нимъ поткнувшюся, и единъ бяше на пути оста. И внезапу явися ему незнаемъ человекъ, его же видевъ устрашися; и глагола ему явивыйся: “Не бойся мене. Азъ бо есмь христьянинъ. Месту же сему господь есьмъ. Имя же мое великий князь Данилъ Московский. Богу же извольшю, положену быти ми зде въ Даниловскомъ семъ месте, ты же, юноше, шедъ, рцы великому князю Ивану: «Се убо сам всяческии себе утешашаеши, мене же почьто забвению предалъ еси»”». Произнеся эти слова, старец стал невидим. Юноша, вскочив на коня, скоро догнал великого князя. Иван III, увидев его «дряхла и ужасна и испадша лицом», спросил: «Где закосне и отъ кого устрашися: тако трепетенъ прииде семо». Тот подробно рассказал обо всем приключившемся с ним, и великий князь с этого времени установил «пети соборные понахиды» по душам своих предков.
Еще более живописно рассказывается о втором чуде, случившемся в следующее княжение Василия III. Князю Ивану Михайловичу Шуйскому, проезжавшему мимо церкви святого Даниила в селе Даниловском, пришлось спешиться. Для того чтобы снова сесть на коня, он не нашел ничего лучшего, как встать на один из могильных камней. В это время «християнинъ же некто прилучися ту и возвести ему глаголя: “Господине княже, не дерзай съ камени сего всести на конь свой. Ведый буди, яко лежитъ ту великий князь Данил”. Князь же Иванъ, видя тогда… християнина, обличающего его, яко невежу вменяя, и небрегий о словесехъ его и спроста отвеща, глаголя: “Мало ли есть техъ князей”». С этими словами он вскочил на коня, но тот, упав на землю, испустил дух. Шуйский оказался придавленным лошадью и его едва живого вытащили из-под нее. Раскаявшись в своей дерзости, князь велел иерею петь молебен о своем прегрешении и панихиду по великом князе Данииле, вследствие чего вскоре стал здоров.
Третье чудо случилось уже в правление Ивана Грозного. Некий купец из Коломны ехал в небольшой лодке с товаром в Москву. Вместе с ним был его сын, с которым «случися тогда болезнь зельна толико, яко и живота отчаятися, и последнее дышущю». Увидев церковь в Даниловском, купец причалил к берегу и понес сына в храм, чтобы хотя бы успеть причастить его. Принеся сына к гробу Даниила, он велел петь молебен и получил исцеление своего отпрыска.
Результатом всех этих чудес стало решение Ивана IV о строительстве на этом месте обители. Царь распорядился «церковь каменну поставити и монастырь воздвигнути и кельи возградити и иноков собрати и общее житие составити»85. Так и возник нынешний Данилов монастырь.
Впоследствии Даниил Московский был канонизирован Русской Православной Церковью. Память его отмечается ежегодно три раза: 4 марта, 30 августа в воскресенье перед 26 августа — в Соборе Московских святых86. 28 декабря 1988 г. определением патриарха Пимена и Священного Синода Русской Православной Церкви в память 1000-летия крещения Руси был учрежден Орден святого благоверного князя Даниила Московского трех степеней.
К.А. Аверьянов,
ведущий научный сотрудник
Института российской истории РАН,
член Научного совета
Российского военно-исторического общества,
доктор исторических наук

[49] ПСРЛ. Т. III. С. 465–466.
[48] Там же. Т. X. С. 176, 203, 204.
[47] Там же. Т. X. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью (продолжение). М., 2000. С. 160, 167, 171, 173, 174.
[46] Там же. Т. XXV. С. 154, 158, 169, 393.
[45] ПСРЛ. Т. I. Стлб. 484–486, 528.
[44] Соловьев С. М. Соч. Кн. 2. М., 1988. С. 209.
[43] Кучкин В. А. Первый московский князь. С. 305–309.
[53] ПСРЛ. Т. XVIII. С. 85–86.
[52] Там же. Т. XVIII. С. 82–85.
[51] Там же. Т. IX. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. М., 2000. С. XXIII.
[50] Там же. Т. XVIII. С. 24.
[39] Там же. Т. I. Стлб. 484.
[38] ПСРЛ. Т. XXV. С. 157.
[37] ПСРЛ. Т. III. С. 327.
[36] Тихомиров М. Н. Древняя Москва XII–XV вв. Средневековая Россия на международных путях XIV–XV вв. М., 1992. С. 21.
[35] ПСРЛ. Т. XVII. Западнорусские летописи. М., 2008. Стлб. 27.
[79] ПСРЛ. Т. XXV. С. 196.
[34] ПСРЛ. Т. III. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 325.
[78] ПСРЛ. Т. XV. Стлб. 83.
[33] Цуканов М. П. Предисловие // Успенский собор Московского Кремля. Материалы и исследования. М., 1985. С. 5.
[77] Там же. Т. XXV. С. 183.
[32] ПСРЛ. Т. XXIII. Ермолинская летопись. М., 2004. С. 102.
[76] Там же. Т. XV. Стлб. 80 (первой пагинации).
[42] Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. Т. 2. М., 1970. С. 12–13.
[86] Православная энциклопедия. Т. XIV (Даниил — Димитрий). М., 2007. С. 99–108.
[41] Янин В. Л. Новгородские акты XII–XV вв. Хронологический комментарий. М., 1991. С. 150–151. Запись неоднократно издавалась. См.: Щепкина М. В., Протасьева Т. Н., Костюхина Л. М., Голышенко В. С. Описание пергаменных рукописей Государственного Исторического музея. Ч. 1. Русские рукописи // Археографический ежегодник за 1964 год. М., 1965. С. 146.
[85] ПСРЛ. Т. XXI. Ч. 1. С. 299–300.
[40] Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949. № 4. С. 14.
[84] ПСРЛ. Т. XXV. С. 220.
[9] ПСРЛ. Т. I. Стлб. 477.
[83] История Юго-Запада Москвы. М., 1997. С. 55.
[82] См.: Беляев Л. А. Древние монастыри Москвы (конец XIII — начало XV в.) по данным археологии. М., 1994. (Материалы и исследования по археологии Москвы. Т. 6).
[81] Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XVI в. Т. III. М., 1964. № 12. С. 27.
[80] Там же. Т. XIII. С. 6–8.
[4] Полное собрание законов Российской империи. 2-е изд. Т. 2. СПб., 1830. № 1368.
[3] Кучкин В. А. Первый московский князь Даниил Александрович // Древнейшие государства Восточной Европы. 2005 год. Рюриковичи и российская государственность. М., 2008. С. 294.
[2] Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. I: Лаврентьевская летопись. М., 1997. Стлб. 475.
[1] Ключевский В. О. Соч.: в 9 т. Т. II. Курс русской истории. Ч. II. М., 1988. С. 47.
[8] Янин В.Л., Гайдуков П. Г. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. Т. III. Печати, зарегистрированные в 1970–1996 гг. М., 1998. Рис. 401в.
[7] Там же. Стлб. 487–488.
[6] ПСРЛ. Т. I. Стлб. 411–412.
[5] Берх В. Н. Древние государственные грамоты, наказные памяти и челобитные, собранные в Пермской губернии. СПб., 1821. С. 95.
[29] Там же. Т. XVIII. С. 24.
[28] ПСРЛ. Т. III. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М., 2000. С. 465–466.
[27] Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 231.
[26] Аверьянов К. А. Становление Московского княжества. М., 2023. С. 249–250.
[25] Горский А.А. О династических связях первых московских князей // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2018. № 4 (74). С. 42–51.
[69] ПСРЛ. Т. XV. Стлб. 46 (первой пагинации).
[24] ПСРЛ. Т. XXV. С. 394.
[68] Кучкин В. А. Первый московский князь. С. 316.
[23] ПСРЛ. Т. XXV. Московский летописный свод конца XV в. М., 2004. С. 158.
[67] Там же. Стлб. 64 (первой пагинации).
[22] Русский биографический словарь. [Т. 4] (Гааг — Гербель). М., 1914. С. 254–255.
[66] ПСРЛ. Т. XV. Стлб. 45–46 (первой пагинации).
[21] ДДГ. № 3. С. 13.
[65] Приселков М. Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. М.; Л., 1950. С. 351, примеч. 1; Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. IV. М., 1992. С. 254.
[31] Панова Т. Д. Клады Кремля. М., 1996.
[75] ПСРЛ. Т. XXV. С. 166.
[30] Там же. Т. I. Стлб. 461.
[74] Там же. Т. XII. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью (продолжение). М., 2000. С. 219; см. также карту археологии исторического центра Москвы XIII — первой половины XIV в. в: История Москвы с древнейших времен до наших дней. Т. I. С. 402–403.
[73] Там же. Т. XIII. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью (продолжение). М., 2000. С. 9.
[72] ПСРЛ. Т. XXV. С. 183.
[71] Снегирев И. М. Новоспасский монастырь. М., 1843. С. 8–9.
[70] ПСРЛ. Т. XV. Стлб. 46 (первой пагинации).
[19] Конев С. В. Синодикология. Ч. II. Ростовский соборный синодик // Историческая генеалогия. 1995. № 6. С. 99.
[18] Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 26, 27.
[17] Лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVI в. СПб., 1886. С. 86.
[16] ПСРЛ. Т. XVIII. С. 75.
[15] ПСРЛ. Т. XVIII. С. 74; Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 г. Т. II. Владетельные князья Владимирских и Московских уделов и великие и удельные владетельные князья Суздальско-Нижегородские, Тверские и Рязанские. СПб., 1891. С. 273.
[59] Историческое и топографическое описание первопрестольного града Москвы. М., 1796. С. 64; Амвросий, архимандрит. История российской иерархии. Ч. IV. М., 1812. С. 5; Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. СПб., 1877. Стлб. 198; Зверинский В. В. Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. Т. II. СПб., 1892. С. 122.
[14] ПСРЛ. Т. XVIII. Симеоновская летопись. М., 2007. С. 74.
[58] Там же. Т. VI. Вып. 1. Софийская первая летопись старшего извода. М., 2000. Стлб. 364.
[13] ПСРЛ. Т. XV. Рогожский летописец. Тверской сборник. М., 2000. Стлб. 474 (второй пагинации); Кучкин В. А. Первый московский князь. С. 297–299.
[57] Там же. Т. Х. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. С. 171.
[12] ДДГ. № 12. С. 33–37; № 20. С. 57.
[56] ПСРЛ. Т. XXV. С. 158.
[11] Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. (далее — ДДГ). М.; Л., 1950. № 1а, б. С. 7–11.
[55] Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984. С. 140.
[10] Кучкин В. А. Первый московский князь. С. 295–296.
[54] Там же. Т. III. С. 469.
[20] Императрица Екатерина II, живо интересовавшаяся прошлым России, являлась автором «Записок, касательно российской истории», составленных в воспитательных целях для ее внуков Александра и Константина. В работе над ними она широко использовала летописи, включая и не дошедшие до нашего времени. Судя по ним, «супруга его [Даниила] была княгиня Мария» (Екатерина II, императрица. Российская история. Записки великой императрицы. М., 2008. С. 652). Но, вероятнее всего, это было ее монашеское имя.
[64] ПСРЛ.Т. XXI. Ч. 1. С. 298.
[63] ПСРЛ.Т. XXI. Ч. 1. Книга степенная царского родословия. СПб., 1908. С. 298–300.
[62] Кучкин В.А. О дате основания московского Данилова монастыря // Вопросы истории. 1990. № 7. С. 164–166; Он же. Первый московский князь. С. 318; Он же. Столица княжества // История Москвы с древнейших времен до наших дней. Т. I: XII–XVIII вв. М., 1997. С. 323–333.
[61] Дионисий, архимандрит. Даниловский мужской монастырь третьего класса Московской епархии в Москве. Краткий очерк. М., 1898. С. 4, 132.
[60] Амвросий. Указ. соч. Ч. VI. 2-я половина. М., 1815. С. 1104.
Д.М. Балашов.
МЛАДШИЙ СЫН
Мало, что умный человек, окинув глазами памятники веков, скажет нам свои примечания: мы должны сами видеть действия и действующих — тогда знаем Историю. Хвастливость Авторского красноречия и нега Читателей осудят ли на вечное забвение дела и судьбу наших предков? Они страдали и своими бедствиями изготовили наше величие, а мы не захотим и слушать о том, ни знать, кого они любили, кого обвиняли в своих несчастиях? Иноземцы могут пропустить скучное для них в нашей древней Истории, но добрые Россияне не обязаны ли иметь более терпения, следуя правилу государственной нравственности, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному?..
Мы одно любим, одного желаем: любим отечество; желаем ему благоденствия еще более, нежели славы; желаем, да не изменится никогда твердое основание нашего величия… да цветет Россия… по крайней мере долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой!
Н.М. Карамзин
ПРОЛОГ
О светло-светлая и красно украшенная земля Русская! Многими красотами удивлена ты еси: озерами светлыми, реками многоводными, святыми кладезями местночтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми разноличными, птицами бесчисленными, городами великими, селами красными, садами обительными, домами церковными, князьями грозными, боярами честными, вельможами гордыми — всего еси исполнена земля Русская, о правоверная вера христианская!
Отселе до угров, и до ляхов, и до чехов, а от чехов до ятвяги, от ятвяги до литвы, до немец, от немец до корелы, от корелы до Устюга, туда, где тоймичи дикие, и за Дышущим морем, а от моря до болгар, от болгар до буртас, до черемис, от черемис до мордвы — то всё покорено было Богом христианскому языку, все поганские страны: великому князю Всеволоду, отцу его, Юрью, князю Киевскому, деду его, Володимеру Мономаху, которым половцы страшили детей в колыбелях, а литва тогда из болота на свет не выныкивала, а угры твердили каменные города железными воротами, абы на них великий Володимер тамо не въехал, а немцы радовалися, далече будучи за синим морем! Буртасы же, черемисы, вяда и мордва бортничали на князя великого Володимера. И сам кюр Мануил цареградский, опас имея, бесценные дары посылал к нему, дабы и под ним великий князь Володимер Цесарягорода не взял!
А в последние дни настала болезнь христианам, от великого Ярослава и до Володимера, и до нынешнего Ярослава, и до брата его, Юрья, князя Владимирского…
О великая земля Русская, о сладкая вера христианская!
Горели деревни. Ветер нес запах гари, горький запах, мешавшийся со смолистым сосновым духом и медовыми ароматами лугов. Сухой и тонкий, он лишь слегка, незримо, вплетался в упругую влажность ветра, и все-таки от него, от этого легкого и горького привкуса, першило в горле и сухо становилось во рту, ибо это был запах беды, древней беды народов и особенной беды деревянной, дотла выгорающей в пожарах русской страны. И это же был запах огня, жизни! Но почему так рознятся запахи дыма костров и пожарищ? О жилом, о тепле, о ночлеге и хлебе говорит дым костра, и о смерти, скитаниях, стуже — горький чад сгорающих деревень.
На вершине холма, на коне, что, потягивая повода и тревожно раздувая ноздри, нюхал ветер, тянувший гарью из-за синих лесов, сидел, глядя тяжелыми, в отечных мешках, зоркими глазами туда же, куда и конь, и еще дальше, за синие леса, за озера, в далекие степи мунгальские, русский князь. Он лишь на миг скосил глаза, когда внизу вырвалась вдруг из леса, ломая грудью ельник, ошалевшая от огня и страшного запаха дыма кобыла, и тотчас, следом за нею, выскочил на опушку и побежал по склону холма, кособочась, босой старик, с отдуваемой ветром бородой, в серо-белой некрашеной рубахе и таких же серо-белых, отбеленных солнцем холщовых портах. Мужик бежал, щурясь на бегу из-под ладони, зорко и опасливо глядя вверх, туда, где, темный противу солнечной стороны, стоял на коне князь и чередой тянулись, щетинясь остриями копий и шеломов, ратники княжой дружины. Кто-то из ратных, не выдержав, порушил ряд и поскакал впереймы, норовя раньше мужика ухватить за повод одичавшую лошадь…
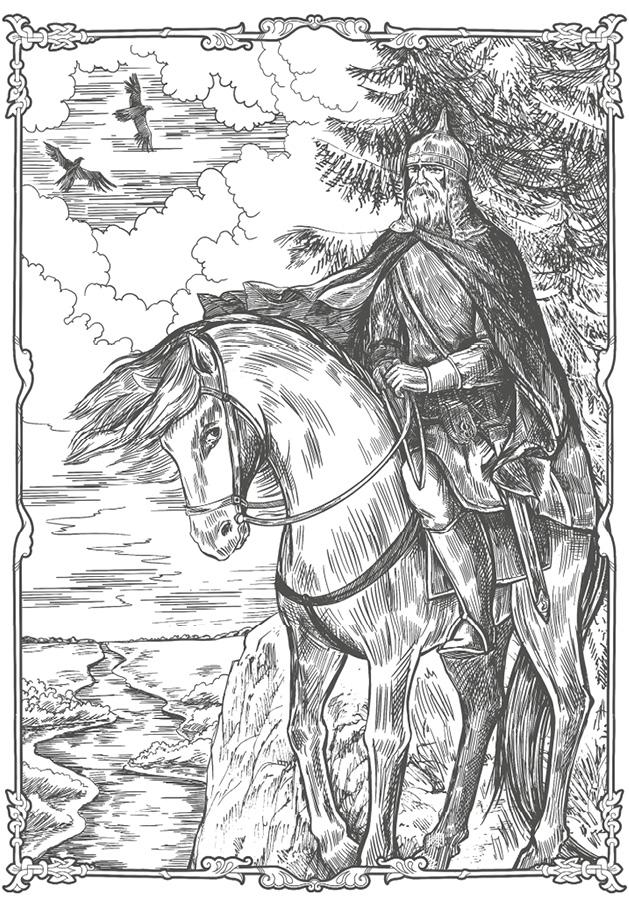
Князь с холма продолжал глядеть вперед. Он знал эту дорогу. Долго будут тянуться, провожая, еловые да сосновые боры, березовые колки, дубовые и кленовые рощи, деревни и города, пашни и перелески, где остались, в чаще лесов, родной Переяславль, княжий стол, златоглавый Владимир. А там, за Муромом, за Окою, шире и шире пойдут поляны в разноцветье трав, по брюхо коню, чернее земля на пашнях, а там, за последними, потерянно прячущимися в приовражьях русскими землянками, начнутся степи, а за ними шумный и разноязычный Сарай, не поймешь: то ли торг, то ли город, то ли стойбище татарское?.. Где рев верблюдов, табуны коней, амбары, лавки, пыль, иноземные купцы и, среди всего, жалкие глаза русских полоняников. А там, за широкой, как море, рекой Итиль, по-русски Волгой, опять степи, чужие, мунгальские, где уже и не встретишь русского лица, только седой серебряный ковыль под ветром ходит волнами до края неба да изредка промаячат по этому морю плывущие караваны. А там, дальше, редкие сосновые перелески да пески, и цветные, рыжие, красные, зеленые и синие холмы, и снова степи день за днем, месяц за месяцем, и сухая пыль, то жаркая, то ледяная, и горы в мареве, и лица чужие, плоские, широкоскулые, будто трава их рождает так, целиком, в оружии, на диких степных конях. И совсем далеко ставка великого кагана, степной город, составленный из расписных юрт и лаковых разборных дворцов, готовый ежеминутно сняться с места и в реве, в ржании, в глухом и тяжелом, потрясающем землю стуке бесчисленных копыт плыть на новые земли и страны, рушить царства, губить города… Город, откуда так трудно возвращаться живым… Князь смотрел, каменея, за синие леса, за широкие степи, великий князь Золотой Руси!
Он был женат, как и Владимир Святой, на полоцкой княжне. Только не брал ее с бою, как Владимир Рогнеду, и жили хорошо. Свое прозвище «Невский» он получил за малую битву, удавшуюся ему в далекие молодые годы, в те годы, когда только и можно так вот, очертя голову, не собрав рати, с одною дружиною сунуться на неприятеля, уповая лишь на удачу да на нежданность натиска… Свеи опомнились быстро, и, кабы не оплошность Биргера да не удаль молодецкая, ему бы плохо пришлось. После, с немцами, он уже не забывал так себя. А на что ушли прочие годы? На устроение. Он устраивал землю. Для себя. Для своих детей. Вот эту Русскую землю топтали татарские кони по его зову. Саблями поганых добывал у родного брата золотой стол Владимирский. Добыл. Разоренную, поруганную, в крови и пепле сожженных городов… И устраивал.
И принял руку Батыеву, протянутую ему, и сам протянул руку врагу в час, когда Бату, в споре с Гуюк-ханом, остался один, с малым войском, на враждебной, едва полоненной земле, и мог быть, возможно, разгромлен совокупными силами…
И не пошла ли бы тогда иначе вся история Руси Великой? В союзе с торговым, изобильным, деловитым Западом, с его королями и императорами, книжной премудростью, замками, рыцарями, каменными городами, учеными-гуманистами?
Думал ли он, что католики Запада могли оказаться еще пострашней мунгальской орды, что, наложив руку на храмы, веру, знание, обратив просторы русских равнин в захолустье Европы, прикрывшись страной, как щитом, от угрозы степей, они предали бы потом обессиленную, отравленную учением своим Русь и бросили ее на снедь варварам Востока, надменно отворотясь от поверженной в прах страны? Или, не загадывая так далеко, просто не почел рисковать неверным воинским счастьем в споре, исход которого был слишком неясен и, в поражении, грозил обернуться еще горшею бедой? Или — из мести за отца, отравленного в Каракоруме ханшей Туракиной, — решил поддержать он Бату, врага Туракины и Гуюка? Или все это вкупе, быть может, даже и не понятое, а почувствованное сердцем, обратило его к союзу с Ордой?
Ручеек просек каменный склон и стремится вниз, с резвой белопенной радостью рождения. Тут и камня хватит, завала, лопаты земли, чтобы задержать, запрудить, поворотить течение назад, быть может, перекинуть на другую сторону горного хребта… Но вот ручей ширится, вбирая ручьи и реки, обрастает городами, несет челны, поит земли, и уже подумать нельзя, чтобы не здесь, не в этих брегах и не к этому морю стремился мощный поток, тот поток, что когда-то упавший камень, оползень или заступ землекопа мог обратить вспять, и росли бы другие города, и уже иные народы поили иные стада из этой реки, и в иные моря уходили ее струи… И уже стали бы думать: почему? Искать неизбежности, доказывать, что именно так, не иначе, должна была, не могла не потечь река-история, будто история существует сама по себе, без людей, без лиц. Будут говорить о ее непреложных законах, ибо видна река, но не камень, повернувший течение ручья…
Русский князь с тяжелыми властными глазами стоял у истока. Он, возможно, не знал этого и сам, не ведал, что от него, от копыт его скакуна потечет, будет расти и шириться великая страна. Он не знал и не ведал грядущего. Он весь еще был — при конце. Величие, рассыпавшееся по земле, как дорогое узорочье, гаснущий блеск Киевской державы закатным огнем еще осеняли его голову. Но он избрал путь, повенчав Русь со степью узами любви и ненависти, на вечный бой и вечную тоску по просторам степей. И сейчас, с холма, глядел туда, в эти безмерные дали времени, прозревая и не видя за туманами верст и веков конца своего пути…
Его (он не знал этого) сделают святым. Святым он не был никогда. Был ли он добр? Едва ли. Умен — да. Дружил и хитрил с татарами, не пораз ездил в Орду, в Сарай и даже в Каракорум, к самому кагану мунгальскому. Но, выбрав свой путь, шел по нему до конца. Себя заставлял верить, что надо так. Останавливал нетерпеливых, не послушал даже Данилы Галицкого. Усмирял Новгород, не желавший платить дань татарам. Усмирил, родного сына не пожалев. Сам гнулся и других гнул. Твердо помнил, как отец умно и вовремя склонился перед Батыем, не пришел на Сить умирать вместе с Юрием — и получил золотой Владимирский стол. Отец был прав. Мало радости да и честь не добра погинуть стойно Михайле Черниговскому!
Так, тяжелой братнею кровью окупленный, кровью не им, а татарами пролитой, решился вековой спор суздальских Мономашичей с черниговскими Ольговичами, спор Юрия Долгорукого, а потом и Всеволода о золотом столе Киевском, спор Ярослава Всеволодича, отца Александрова, с тем же Черниговским Михаилом. И вот теперь не Михайло, святой мученик, а прежде того держатель стола Киевского, мнивший объяти всю землю русскую в десницу свою, — не Михаил, а он, Александр Ярославич Невский, стал великим князем Киевским, и Владимирским тож. Но горька та власть, полученная из рук татарских, над опустелым, травою заросшим Киевом, над разоренной и разоряемой Черниговскою землей. Горька власть, и тяжка плата за власть — дань крови и воля татарская.
Земля была устроена. Сыновья выросли. Старший, Дмитрий, получит Переяславль, а там, после дядьев, и великое княжение владимирское. Братья, братаничи, ростовские и суздальские своюродники, смоленские и черниговские князья — послушны его воле и под рукой ходят. Земля принадлежит ему, его роду. Даже младший, годовалый Данилка, получит удел — городок Москву, будет чем себя кормить при нужде. Земля была устроена, и дети выросли. И все равно главного он не сделал. Земля была не своя, чужая. Дымившиеся за лесом деревни платили дань татарской Орде и были подожжены татарами. И отряд-то, верно, маленький, пожгли и отбежали. Поди тех баскаков чадь, что избиты по городам…
Самое время, одарив и улестив Беркая, добиться, чтоб самому, без бесермен поганых, собирать ордынские выходы! Дань на своей земле князь должен собирать сам! Пото и разрешил он черни резать и гнать бесермен из Ростова, Ярославля, Углича, Владимира и иных градов и весей. Не слепо, как Андрей, не очертя голову! Там, в далекой степи, встала рать. Орда в брани с каганом мунгальским. За каганьих ясащиков могут нынче и не спросить. На резню по городам, почесть, было получено разрешение золотоордынского хана… Было ли?
Резали страшно. В Ярославле инока-отступника, Зосиму, что принял мухаммедову веру и ругался над иконами, оторвав голову, таскали по городу и не то утопили потом в отхожем месте, не то бросили псам. Резали дружно, в один день и час… Он опять мысленно пересчитал тяжкие узлы с дарами. Но ведь дары можно взять и так, прирезав его, Александра, с горстью ратных! К счастью, пока еще он нужен Беркаю. Нужны русские полки для далекой персидской войны. Полков, впрочем, он тоже нынче не даст: рати с воеводами усланы им под Юрьев, громить немцев. Там они нужнее. Довольно уже русских воев ушло в мунгальские степи да в Китай. Ушло и не воротилось назад!
Он сумел пережить и перехитрить Батыя. С сыном Батыевым, Сартаком, заключил братский союз. Но ежели там, в далекой степи, его поймут — он пропал и выплатит на сей раз головой тяжкую дань татарскую. Сартак, названый брат, убит. Быть может, и для него это последний поход.
Тяжело весить на весах судьбы своей невесомое! Отца не любили на Руси. И оговорил его у кагана свой же боярин, Федор Ярунович… Братство с покойным сыном Батыевым перевесит ли в Орде пролитую татарскую кровь, когда и на своих-то положиться нельзя? Да и поможет ли братство с покойником перед лицом нового хана чужой, мухаммедовой веры?
Ежели хоть одна из тех грамот, что рассылал он по городам, попадет в мунгальские руки… Ежели там, в далекой степи, поладят друг с другом и снова захотят пролиться на Русь тысячами конских копыт… Ежели Орда откачнется к бесерменам и объявит священный поход на христиан… Ежели Беркай его разгадает — он погиб. И погибнет Русь. Вот этот мужик, что ловит свою кобылу… А об ином и думы нет. Сколько их бредет, с гноящимися ногами, бредет и пропадает костью в великой степи!
Ратник уже успел поймать крестьянского коня и теперь насмешливо глядел на подбегавшего мужика. Лошадь мелко дрожала кожей, тонко ржала, кося кровавым глазом.
Мужик в некрашеной посконине еще бежал, пригнувшись, вверх по скату холма, косо загребая твердыми, в бугристых мозолях, растоптанными стопами колкую с прошлогодней косьбы, сухую затравеневшую землю, и на бегу все вскидывал руку лопаточкой, пытаясь, защитив глаза от солнца, разглядеть князя, но уже чуялось, что и сам не знает, догонять ли лошадь или, спасая жизнь, стремглав кинуться назад, в лес.
Князь чуть повел шеей и краем глаза увидел, как Ратша повелительно кивнул ратнику, и ратник, по каменной спине князя мигом догадав, что дал маху, толкнул стременами бока своего скакуна, дергая упирающуюся кобылу: «Но! К хозяину идешь, шалая!» — с нарочитым безразличием подъехал к остоявшемуся мужику, верившему и не верившему нежданной удаче, и протянул тому конец веревочного повода. Мужик вздрогнул, чуть не оплошав, попятился, но успел-таки поймать прянувшую вбок кормилицу. Под тяжелым взглядом полуприкрытых отекшими веками глаз ратник отпустил повод, и мужик, смятенно озираясь на князя, торопливо вскарабкался на хребет лошади и так, охлюпкой, погнал ее скорее в лес, туда, где таял в воздухе дым догорающей деревни. Ратник воротился в строй. Князь, так и не вымолвив слова, отворотил лицо.
Земля была своя, и зорить ее без толку не стоило.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1
Александр умер на обратном пути из Орды, не доехав до Владимира, в Городце.
Приставали в Нижнем. Обламывая береговой лед, ладьи подводили к берегу. Бессильное тело больного князя бережно выносили на руках. Тяжелую кладь — казну и товары — оставили назади, ехали налегке: довезти бы скорей! И все одно не успели. От холодного лесного воздуха родины ему сперва полегчало, но уже под Городцом поняли: не доедет. Остановили на княжом подворье. Обряд пострижения в монашеский сан совершали наспех, торопясь. Священник, отец Иринарх, пугливо взглядывал в стекленеющие очи великого князя Владимирского и Киевского, все еще не веря тому, что происходило у него на глазах. Властной тяжестью руки Александр паче всего приучил всех верить в свое бессмертие. И вот — рушилось. Русская земля сиротела, и он, Иринарх, перстом Господа был указан для дела скорбного и громадного: отречь от мира надежду и защиту земли. Замешкавшись, он пропустил тот миг, когда последнее дыхание умирающего прервалось и осталось смежить очи, из которых медленно уходила жизнь. Трепетной рукою он коснулся холодеющих вежд, с усилием закрыл и держал, шепча молитву, дабы не открылись вновь, не увидеть еще этот немой, безмысленный, мертвый и страшный взгляд; два холодных драгих камня — грозно оцепеневшие голубые очи великого князя.
Уже за Городцом начались поминальные плачи. Мужики придорожных деревень стояли рядами, крестились, сняв шапки. Бабы плакали навзрыд. На стылую землю с серо-сизого облачного неба оседала, кружась, редкая неслышная пороша. Лужи звонко ломались под копытами и полозьями саней. Молча подъезжали, присоединялись к печальному поезду князья с дружинами из Стародуба, Гороховца, Ярополча. Ближе к Владимиру гроб понесли на руках. Толпы горожан, чернея, оступили дорогу. У Боголюбова, за десять верст от города, где тело встретил митрополит Кирилл с причтом, от народа стало не пробиться. Люди забирались на кровли, лезли на ограду, с горы перли вниз так, что изгороди сметало, точно половодьем. Толпа шуб, сермяг, армяков и зипунов, простых вотол и дорогих опашней, бабьих коротеев и боярских шубеек залила и перехлестнула пути. Кое-где вскрикивала задавленная баба, дуром, на сносях, припершаяся в самую гущу; плакали и сморкались; гомон гомонился: «Братцы! Православные! Задавили! Батюшки! Спаси Христос! Люди добрые! Отдай! Отступи! Спаси, Господи, люди твоя! Заступник, милостивец! Живота лишите совсем!» Выпрастывая с усилием руки, крестились, тискали шапки в руках. Пар курился облаками над морем сивых и светлых, где лысых, где кудрявых голов, над платками, киками и кокошниками горожанок. Старались не отстать и лезли, лезли вперед, к открытому гробу, туда, где пламя свечей металось от соединенного в ветер людского дыхания, в облака остро пахнущего на морозе ладанного дыма, и тут падали на колени, ползли, тянулись — хоть прикоснуться к краю одежды, к ногам, к скрещенным на груди рукам покойного. Священники, подымая кресты, отодвигали воющую толпу, совестили. Только так можно было, и то медленно, шаг за шагом, поминутно останавливаясь, продолжать шествие. А когда над кое-как укрощенным многолюдьем поднялся митрополит и слабым, но ясно прозвучавшим в морозном воздухе голосом бросил в толпу свои, ставшие знаменитыми в столетьях слова: «Зрите, братие, яко же зайде солнце земли русския!», и народ тысячеустно возопил в ответ: «Уже погибаем!» — и стал валиться на колени, показалось — задрожала сама земля, не выдержав тяжкого колыхания необозримой скорбной громады…
И звонили колокола, и снова и снова передавалось, и росло, и светлело, исторгая потоки слез, словно ветром принесенное, обогнавшее скорбный поезд благовестие: татарского погрома, мщенья за побитых бесермен, коего с ужасом ожидала истерзанная Владимирская земля, не будет, не будет! Мертвый Александр вез на Русь мир.
Потом, тоже разом облетевшее весь город, распространилось известие о чуде. В соборе, во время отпевания, когда приступили ко гробу, дабы вложить прощальную грамоту, покойный сам распростер длань и принял грамоту из рук объятого ужасом митрополита и вновь сжал десницу, — а был уже девятый день по успении! О том, впрочем, говорил и сам митрополит Кирилл, толкуя чудо как знак святости и великих заслуг покойного перед Господом и языком русским; «Тако бо прослави Бог угодника своего, иже много тружася за Новгород, и за Псков, и за всю землю Русскую, живот свой полагая за православное христьянство».
Глава 2
Пышные княжеские терема Всеволода Великого, о которых еще и теперь восторженно вспоминали старики, — с возвышенными, на киевский образец, обширными сенями, с хороводами гульбищ, вышек, затейливых верхов, сплошь изузоренных и расписных, золотом и киноварью подведенных, — сгорели во время Батыева погрома. Нынешний княжой двор во Владимире был и проще, и бедней. Да и не диво: с каких животов и кому было восстанавливать былую былинную красоту? Каждый князь, получавший Владимирский стол, продолжал жить в своем родовом городе, только наезжая по времени во Владимир. Митрополичьи палаты, стараниями Кирилла возведенные на пепелище, выглядели основательней княжеских. Только гордые белокаменные соборы по-прежнему возносили свои тяжело-стройные главы над кручей Клязьмы и от соседства понизившихся княжеских теремов прореженного пустырями города стали как бы еще выше, еще стройнее.
Тело Александра до похорон поставили в большой столовой палате. Теперь тут было все убрано и приготовлено к поминальной трапезе. Раздеваясь (прислуга, стараясь быть незаметной, сновала с верхним платьем, подавала гребни, шепотом спрашивала, не нужно ли чего), проходили в соседнюю, крестовую палату. Здесь, под образами суздальского и новгородского письма, уже стояли — до прихода митрополита не садился никто — князья и княгини из рода Всеволода Великого, Всеволода Большое Гнездо, слетевшиеся на скорбную весть из ближних и дальних городов Владимирской земли.
Александра, вдова Невского, с двухлетним Данилкой, извещенная с пути о болезни мужа, выехала из Переяславля загодя. Весть о кончине застала ее во Владимире. От Боголюбова Александра в рыданиях билась над гробом, в церкви несколько раз падала замертво. Данилка, еще ничего не понимавший, только таращил глазки на золотые ризы, на свечи, на оклады икон, задирая головку на старинные, византийской работы, хоросы, чудом уцелевшие во время пожара и взятия града, когда последние защитники, епископ и княжеская семья задохлись в дыму на хорах поруганной святыни. Поднесенный к гробу, он недоуменно поглядел на мать, а когда его приложили губами к холодному лбу отца, стал упираться, но не заплакал, а только крепче вцепился ручонками в шею поднявшей его кормилицы и снова воззрился вверх. А Александра и на прощании опять завыла в голос.
Из детей Александра не было Дмитрия — не поспел приехать из Новгорода — да дочери Евдокии, что была замужем за смоленским князем. Старший Александрович, Василий, когда-то любимец, а после новгородских раздоров сосланный и отстраненный отцом от всех дел, угрюмо стоял рядом с матерью, иногда поддерживая шатающуюся Александру под локоть. В свои двадцать три он выглядел уже тридцатилетним. К матери у Василия было горькое чувство: не спасла, не отстояла, во всех семейных спорах всегда становилась на сторону отца. Василий старался не глядеть на младшего брата, Андрея. От нынешнего княжеского совета он не ждал для себя добра. Андрей, еще подросток, тоже бычился на Василия: «Поди, захочет теперича забрать отцов удел, будет нам с Митькой тыкать!» Так, дичась друг друга, но не отходя от матери, они прошли и в крестовую палату. Детям Александра предстояло получить (или не получить?) уделы из рук враждующих братьев-дядевей.
Ростовские князья, внуки Константина Всеволодича, приехали все скопом, с Марией Ростовской, дочерью замученного в Орде черниговского князя Михаила, и держались особняком.
Вотчина Константина уже при его детях распалась на части. Старший из Константиновичей, ростовский князь Василек, был схвачен на Сити и, отказавшись служить Батыю, погиб у Шеренского леса, повешенный татарами за ребро. Братья его — ярославский и углицкий князья — тоже умерли, передав столы потомкам. Теперь на ростовских уделах правили внуки. Из них Роман Углицкий творил богоугодные дела, строил странноприимные дома и больницы, не помышляя о большей власти. В Ярославле сидел «принятым» смоленский княжич Федор Ростиславич, женатый на правнучке Константина Всеволодича. (Властная вдова сына Константинова, Марина Ольговна, и Ксения, ее сноха, пошли на этот брак, не желая, чтобы удел, за лишением мужского потомства, воротился в великое княжение.) Они все приехали, вдовы и внуки, захватив и правнуков, совсем еще детей. Только «принятого» — Федора Смоленского — не взяли с собою на это семейное печальное торжество.
И здесь, среди вдов, была своя иерархия. Старшей по уделу, по значению и по роду была дочь Михаила Черниговского, вдова Василька Ростовского Мария. И ярославская великая княгиня Марина Ольговна первая засеменила ей навстречу. Княгини поцеловались. Марина не утерпела, вполголоса пожаловалась на «принятого», Федора Смоленского.
— Красив! — щурясь, уронила Мария, вспоминая Марининого зятя и обводя глазами собрание. (Борис Василькович и сама она посредничали в этом браке, тоже не хотели отдавать удел Ярославичам.)
— Уж больно красив-то! — вздохнув, возразила Ксения. — Нехорошо. У Маши сердечко тает, а он любит ли, нет — невесть!
— Власть-то он любит! — желчно подхватила Марина. — В ином мои бояре на вожжах не удержат…
— Пойдем, вот и Александра воротилась из церкви! — мягко остановила ее Мария и, тронув за рукав Ксению: не сердитесь, мол, что бросаю вас, а не время нынче, — пошла навстречу великой княгине Владимирской.
Шла прямая, пристойно утупив очи долу, и лишь на миг невольно подумалось-колыхнулось в душе: «Так вот! Всякому свой час!» Двадцать пять лет как погиб муж Марии, князь Василько Ростовский, двадцать пять… И тридцать пять как они поженились — дочка всесильного тогда черниговского князя Михаила и молодой ростовский князь Василько. И было ему восемнадцать лет, а ей едва исполнилось пятнадцать. Свадьбу гуляли в Москве, на полдороге, — так Михаил настоял, выдерживая честь. Десятого февраля пировали, а утром, в потемнях, полусонную, молодой муж выносил в сани, и — эх! — чудо-кони, кони-вороны двести верст как диво, как ветер пронесли ее за неполных полтора дня. И казалось, то не кони, а муж молодой на руках несет ее сквозь обжигающий солнечный февральский ветер, в голубых проносящихся тенях от стройных елей, в сверкающей россыпи снегов. И двенадцатого уже были в Ростове, в хоромах мужевых. А потом десять лет счастья, короткого счастья! Вечные походы, разлуки вечные, дети один за другим. И вот страшный 1238 год, и развеяна удаль и слава, и муж, любимый, замучен татарами у Шеренского леса… А был он красив, светел лицом и очами грозен, ласков и храбр на охоте и в бою, и из тех бояр, кто его чашу пил и хлеб ел, никто уже не мог служить иному князю. И было ей тогда, молодой вдове, двадцать шесть лет! А через семь лет новое горе, горее прежнего. Отец, князь Михаил, задавлен татарами в Орде на глазах у внука, Бориса.
Отец был и не добр, и не прост. Все уже кланялись, чего бы было и ему поклониться Батыю? Да, видимо, не просто-таки! Или опоздал, или мстил Батый за унижение под Козельском, его, черниговским, Михаиловым городом, где простоял без толку семь недель и положил силы несчетно. Или уж у старого отца заговорила гордость древняя, ихняя, черниговская, гордость Ольговичей: тряслась Византия, половцы ходили под рукой, а тут вонючим степнякам кланяться! Вместо того чтобы враз поклониться Батыю, поехал к западным государям. На Лионском соборе просил помочи на татар. А те тоже отреклись, решили отсидеться, и пришлось-таки ехать к Батыю, который не простил ему ни гордости, ни Козельской осады, ни Лионского собора… Так погиб отец Марии и стал святым, страстотерпцем, мучеником…
Ужас тех дней (Борису в год убийства деда было пятнадцать лет) на всю жизнь заронил в душу этого красивого, кровь с молоком, молодца, нынешнего главы ростовского княжеского дома, страх перед Ордой и желание всегда и везде во что бы то ни стало ладить с татарами. Он и сюда, на снем, приехал не столько ревновать о власти, как втайне хотелось бы его матери, сколько поддержать самого благоразумного из соревнователей.
Родичи, проходя, приветствовали друг друга тихим наклонением головы, говорили вполголоса. Александра, встречая, тоже склоняла голову, скупо отвечала, крепилась. Лишь когда подошла Мария Ростовская, вечная прежняя соперница, вдруг сердцем поняв, как неправа была к ней все эти годы, дрогнула, точно сломалось что-то внутри. Обнимая Марию, вдруг зашаталась, повисла у нее на плечах и зарыдала грубым низким голосом, обливая слезами плечо Марии. И оттого, что та не отвела рук, не отшатнулась, а матерински обняла Александру и гладила ее легкою сухою ладонью, тихо приговаривая слова утешения: «Ну что ты, Шура, крепись, крепись уж! Его воля! Не у тебя одной…», — оттого Александра, распаляясь, рыдала еще громче. Князья отводили глаза, хмурились. Борис было двинулся к ним — мать решительно махнула рукой сыну: отойди, мол! Митрополит Кирилл уже спешил на голос вдовы: утешать надлежало ему.
И, оглаживая рыдающую в голос Александру, Мария прощала ее наконец сердцем за все: за гибель замученного Василька, за отца, убитого Батыем, прощала за себя — легко ли молодой вдоветь четверть века! Прощала за все, провидя, что и той теперь заботы падут нелегкие и жизнь беспокойная с детьми, что скоро потянут врозь, так что и не помирить их будет самой без заступы митрополита Кирилла, который и сам-то уже ветх деньми.
«Вот он идет, однако!» — Мария ласково отстранила Александру, поворачивая ее зареванным лицом, с распухшими, некрасиво распущенными губами, к митрополиту Кириллу. И та, еще вздрагивая всем крупным, отяжелевшим телом от задавленных рыданий, стихла наконец, склонясь перед духовным владыкою Руси.
Наконец по знаку митрополита Кирилла все уселись на опушенных широких лавках вдоль стен под иконами. Это был большой семейный совет, еще без бояр, которые тоже могли и перерешить, и склонить своих князей к иному. (Были, впрочем, четверо ближайших бояр Александровых, но держались они в тени, стараясь никак не выставлять себя перед князьями и княгинями Всеволодова дома.) И разумелось само собой, что как бы тут ни судили и ни рядили, все отлагалось до ордынского, уже окончательного решения.
Александра, оправившаяся, вымывшая лицо и за ушами холодной водой, поджав губы, недоверчиво вглядывалась в собравшихся. Прежнее отчаяние волнами ходило в груди, но теперь его гасил страх за будущее. Здесь, на семейном съезде, решалось: кто же заступит место покойного? Последнего князя, который сумел одержать в руках всю великую Киевскую Русь, хоть и под татарским ярмом, хоть и отступя из Полоцкой земли под натиском литвы и из Киевской — от татарского разоренья, но держал и был. И кто же будет теперь?
Глава 3
Ярославичи — трое братьев покойного Александра — отчужденно и ревниво ждали княжеского снема. Они не собирались отдавать власть никому. В их руках были Новгород, где сидел сын Александра Дмитрий, Тверь и Переяславль, Кострома, Суздаль, Городец с Нижним. В их руках пока еще находился и стольный город Владимир.
Андрей, когда-то тягавшийся с покойным за Владимирский стол, встретил тело брата еще в пути. Из Костромы примчался младший Ярославич Василий. Последним прискакал из Твери, верхом, с ближней дружиной, Ярослав Ярославич, второй брат покойного великого князя. Успел к выносу, хоть и не близка Тверь. Деревянно шагая (конь, третий по счету, бешено поводя мокрыми боками, храпел и шатался у крыльца, пятная снег розовой пеной), подошел и молча, хозяйски, остановил поднятый было гроб, даже не глянув на безропотно отступившего в сторону углицкого князя. Дети Ярослава, серые от усталости, спотыкаясь, точно запаленные лошади, ввалились следом за ним. Андрей хмуро и молча кивнул брату. «И детей приволок!» — недружелюбно подумал он. Со смертью Александра прежние союзники волею судеб становились соперниками в споре о власти. Не от одного горя великого загонял коней тверской князь!
Слишком ясно виделось, впрочем, что ростовским князьям не по силам тягаться с Ярославичами. Мелкие князья из бедных Юрьева и Стародуба были совсем не в счет.
Старшим из Ярославичей оказался теперь Андрей, но он после изгнания и примирения с братом сильно потишел, да и обеднел, и место его среди родни заступил следующий по возрасту брат покойного, Ярослав Тверской. Между ними после первых обрядовых слов и возгорелся спор.
Ярослав сперва упорно, потом уже сердито упирал на то, что Андрей уже был на великом княжении и уступил место Александру.
— Чего решено, не нам перерешивать стать!
Андрей, сильно сдавший за последние годы (наследственная болезнь Ярославичей точила его, сердце порой не давало вздохнуть), намерился было молчать, но тут не выдержал, взорвался:
— У нас кто силен, тот и прав!
И спор возгорелся.
Митрополит Кирилл смотрел на сцепившихся братьев-князей, на все это собрание большей частью молодых нарочитых мужей, полных задора и сил и еще ох как неопытных, на это потревоженное гибелью вожака гнездо и думал: «Трудно будет с ними! Суетна власть мирская!» Он был другом и правою рукою благороднейшего из князей, когда-либо живших на земле: Даниила Романыча Галицкого, который сейчас, как слышно, умирает в Галиче, не свершив и малой толики дел своих… Да и можно ли их свершить в краткой жизни сей? Что земная власть без духовной опоры, что есть сила без веры? Понимают ли это они?! Вот над гробом Александра делят ее, мирскую власть, и каждый мнит себя бессмертным. И Андрей, хотя печать смерти уже на челе его, и Ярослав — долго ли и он проживет и прокняжит? Старый митрополит ясно помнил свою мирскую жизнь, когда был главным хранителем печати при князе Данииле, но как бы про другого человека. Того, прежнего, всего в кипении дел мирских, он рассматривал теперь, как взрослый ребенка, и любил: за старание, за деловитость, за ясную силу письма, за верность Даниилу, — но быть им уже не мог, как не может взрослый стать дитятей. Ибо теперь он постигал то, чего мирской ежедневной жизни человек не разумеет: бренность плоти и даже дел людских, хотя они часто переживают плоть, и вечность духа, что незримо живет в народе, в языке, во всем живом, духа животворящего, им же живы люди, пока они живы, имя коему — Бог.
Андрей сам понимал, пожалуй, что богатая Тверь, неодолимо подымавшаяся на западной окраине земли, на путях торговых из Новгорода, Литвы и с низовьев Волги, давно обогнала прочие грады. Тверь, торговая и людная, а не порядок княжений — вот что давало силу Ярославу. Но и его Нижний богател и строился, не в пример строгому пустеющему Суздалю, стольному граду Андрея… Нет, дело было не в том! А в старой обиде, старом споре, разрешенном Александром из Орды, татарскими саблями. Сам не явился небось, приехал чист, миротворец! (Все эти годы старался о том не вспоминать, а тут взяло.) И промолчал бы, кабы Ярослав, давний союзник, не плеснул масла в огонь:
— Помогла тебе свея да немцы твои? Немцы вон, как цесарь Фридрихус умер, все раскоторовали, брат на брата войной идет! У франков паки нестроение великое. Аглицкий круль Генрих с Людовиком рать держат. В Тосканской земле брань велия, гости торговые глаголют: ихний нарочитый град Флорентийский взяли на щит, дак до Орды ли им? Они только обещать горазды, а на борони их не узришь! Забыл, каково оно поворотилось под Перяславлем-то? Я ить на той рати семью потерял! Детей, жену… — Ярослав всхлипнул, почти непритворно, и возвысил голос: — Где о ту пору были немцы твои?! Сам же ты потом кланялся, и тесть твой крепости разметал на Волыни, как приказали татары!
Не помогла свея; и тестю, Даниле Галицкому, папа римский не помог; и Михаил с Лионского собора привез лишь собственную гибель. Все было так, как сказал Ярослав, — и все же!
Поднялся Андрей:
— А вы что сблюли под ярмом татарским? Зрите! В Египетской земле половцы полоненные, коих татары как скот купцам иноземным продавали, взяли власть. И уже от татар персидских отбились! А в Мунгалии резня! А папа римский Даниле той поры помочь предлагал! Египетски половцы, да Данила Романыч, да папа римский, да мы — вкупе и одолели бы степь!
— Половцы в Египетской земле бесерменской веры, бают, да и далеко от нас, — вмешался молчавший доныне углицкий князь Роман.
— А с папой твоим всем бы пропасти заодно! — брякнул Ярослав. — Не знаешь, что мы сблюли под татарами?! Себя сохранили!
— Сохранили веру, сохранили душу народа, — примирительно подтвердил митрополит.
Андрей Ярославич затравленно поглядел в строгое лицо Кирилла, обвел глазами лица братьев и родных:
— Православную веру спасли? Спасли ли?! Какое там православие! Окрест мордва некрещеная, лопь да чудь, а там… Литва откачнется к Риму. Гляди, и Волынь не выдержит татарских насилий и туда же под Рим уйдет. Да, да! Все лучше, чем под властью хана! В степи мерзнуть, за стадами… Не видели?! Вы там, в Мунгалии, поглядите на русский полон, что, как собаки, просят объедков у ворот Каракорума! На русские кости, что усеяли пустыню!
Андрей губил себя, губил своей речью возможность получить великое княжение и знал это, но ему уже было все равно.
Тут уже пристойно стало вмешаться митрополиту. Впрочем, его опередил епископ Игнатий, напомнивший, что два года назад стараниями Кирилла основана епархия в Сарае и свет православной веры не токмо подает утешение нужою покинувшим домы своя, но и осияет темные души язычников, из коих иные, подобно Сартаку, сыну Батыеву, уже прикоснулись благодати.
Сартак был другом покойного, и через него как раз силами Неврюевой рати Александр и согнал Андрея с Владимирского стола. Ростовский епископ не должен был напоминать о нем, и митрополит Кирилл недовольно чуть сдвинул брови. Андрей, как и следовало ждать, вскипел:
— Сумеете ли обратить в христианство язычников, когда сами у них под ярмом? Католики за раздорами нашими давно уже теснят православную веру. Латины Царьград, святыню православную, захватили!
Кирилл легким мановением руки остановил готового возразить Игнатия и сам ответил Андрею:
— Святыни Царьграда паки освобождены от латин цесарем Михаилом Палеологом, и вера православная не угасла! Ведомо то и тебе самому.
Кирилл умолк и подумал, что говорит не то. Надо бы сказать, что страдания и смерть еще не самое страшное. Страшнее — сытое угнетение духа и разномыслие в народе и князьях. Не оттого ли недостало сил одолеть татар? Впрочем, по лицам князей видно было, что им сейчас не до Царьграда, лишь дети с расширенными глазами внимали речам, которые нечасто ныне приходилось им слушать, речам, где разом поминались свея и Царьград, Восток и Запад, татары и Рим, Галич и Литва, — размахом той, пышной Руси, еще не знавшей татарского ярма, отсветом великой киевской славы проблеснуло сейчас перед ними… Да еще кто-то из ростовских княжат в наступившей тишине громким шепотом, вызвавшим мгновенную улыбку взрослых, спросил:
— Баба! А разве Царьград латины забрали?
— Уже прогнали их! — ответила Мария, привлекшая несмышленыша к своим коленям. — Молчи! Старшие говорят.
Андрей, побежденный спокойным взором митрополита, который как бы смотрел в века и говорил от будущих, скрытых завесою времен, обратился к братьям-князьям, которые, он уже знал, выберут великим князем Ярослава:
— Что ж! Спокойнее из рук татарских получать ярлыки на власть, чем от веча народного?
— А уж о наших делах не мужикам решать! — возразил Ярослав, заносчиво задирая бороду, и собрание одобрительно зашумело.
— А по мне, мужики лучше татар. Пошумят, да не выдадут! А татары ваши жидам да бесерменам на откуп подавали грады русские!
Помолчали. Андрей зарвался. Говорить о прошлогодней резне и о поездке в Орду Александра, отвратившего расплату за эту резню, не стоило при нем, даже при мертвом. Только митрополит спокойно сказал, паки умиротворяя:
— То прошло.
— Прошло ли?! — воскликнул, остывая, Андрей, и опять вопрос-вскрик повис без ответа. Все хотели, чтобы прошло. Не хуже Александра знали, что только тот князь, кто сам собирает доходы с мужиков, с кем бы он потом этими доходами ни делился. «Будем сами собирать ордынские выходы и сами отвозить в Орду!» — ответило молчание.
И это было ужасно. Что соглашались быть рабами, лишь бы усидеть, лишь бы по-прежнему собирать дани и выходы, а там — что потребуют из Орды: серебро ли, меха ли, хлеб, лес, людей работных, силу ратную… Лишь бы усидеть, лишь бы по-прежнему собирать дани-выходы. Померкла пышная слава Киевской Золотой Руси!
Счастье тем, кто лег под Коломной и Пронском, кто пришел умирать на Сить и погиб под Шеренским лесом, смертную чару прия, чашу позора не испив… Счастье тем, кто не пережил собственной гордости и прадедней славы не развеял, кто лег со славою в землю отчизны своей!
И утих Андрей. И, согласясь уже на вокняжение на столе Владимирском Ярослава, что, впрочем, отлагалось до ханского решения, князья заговорили о своем кровном — земле и уделах.
Тут зашевелились доселе молчавшие, тут-то стало ясно, зачем навезли с собою детей и внучат.
Земля была общая, родовая, и переделялась время от времени в своем роду точно так, как переделялась земля в большой семье крестьянской. Только вместо пашни да пожен, сараев и житниц делили тут села и города, волости и доходы с волостей.
Земля лежала между Окою и Волгой, кое-где отступя от Оки, где были уже рязанские и муромские пределы, на западе упираясь в Смоленское княжество, и, далеко перехлестнувши Волгу, уходила к северу, ко владениям Господина Великого Новгорода, до Галича Морского, до Устюга, Белозерска — то все была та же Всеволодова земля. Земля была, как шубою, укрыта лесами, всхолмлена, извилисто перечерчена полноводными реками. В лесах водился зверь всякий: и дорогой соболь, и бобры, и лисы, медведи, волки, вепри и лоси; птица озерная и боровая. В лесах были грибы, ягоды, дикий бортный мед. В реках и озерах — рыба. Земля под лесом почти не знала засух, на пожогах хлеб подымался стеной. Земля была богатая. Бабы по праздникам ходили в серебре. Богатством был хлеб, который шел отсюда и на юг, и на север, в Новгород. Золотое зерно, Золотая Русь. За землю эту стоило драться, и владеть ею хотели все.
Земля была княжеской. Княжескими были права: судить, наделять землею или отымать земли, налагать и взымать дани. У всех князей и княгинь были, как и у бояр, свои, личные села, города, земли — опричь тех, что входили в княжение. Сел и земель этих могло быть немного (помнят в Смоленске князя-книголюба, до того истратившегося на покупку книг, что и похоронить его было не на что). Но кроме того — они были князья. И права их, княжеские, не принадлежали больше никому. И правами этими самый нищий князь был сильнее самого богатого боярина, который даже право суда в своих волостях получал не иначе, как от князя, по жалованной грамоте.
Когда появилось оно, это право? Но силой удерживаемое — какая уж сила, когда страну разорили иноверцы! А преданием заповеданное, в сознании народном сущее, что правит всегда князь.
Право это утверждалось древними киевскими князьями, которые мало пили вино да сидели в теремах, чаще мотались в седлах, в бронях, насквозь пропахшие конским потом, и ели конину, едва обжаренную над огнем костра, либо просто сырую, размягченную под седлом, на спине конской. Мотались так, рубились, строили города, покоряли земли и языки, разбили хазар, одолели печенегов, справились с варягами и создали это право, право княжеское, — судить и володеть. И стали великими, святыми, древлекиевскими. Отсюда и «волость» — власть, земля и право в одном слове. И имя было княжеское любимое Володимер — владеющий миром, то есть народом и землей.
Но и еще древнее было оно, право власти. От рода, родовых старейшин, кому в веках сородичи поклонялись, как духам дома, и кого при жизни слушались беспрекословно. Старейшины решали, кому где охотиться и кому где пахать. Изветшали, в войнах полегли вожди племен, и права их на землю и власть на земле переняли князья — Рюриковичи.
И потому они и жили как все, и были как все, а были — князья. Володетели. Ихними были право и суд. Даже дети, собранные тут матерями и бабками, глядели как взрослые, супились. Им будет когда-то также спорить об уделах, как спорят сейчас братья и отцы.
Чуть только Ярослав Тверской заговорил как великий князь и начал делить уделы — загомонили все разом. Никто ничего не хотел отдавать, а потомки требовали дележа земель, и шум стоял неподобный. «Мое!», «Обчее!» — раздавалось и тут, и там.
— Вдове Александра — Переяславль, на прожиток до конца дней, и чадам ее с нею! — возгласил Ярослав, надеясь хоть так порешить спор. Но вышло еще хуже.
— Чада не мои, чада обчие! — вскричала, забывшись, Александра.
Василий Костромской не выдержал, прыснул в кулак, и тотчас гулко захохотал Михаил Стародубский, расхмылился сам Ярослав, улыбка тронула строгое лицо митрополита Кирилла. Вдовы лукаво потупились. Ярослав огляделся и увидел вдруг неотступные очи бояр Александровых, их каменные скулы, литые бороды, руки, готовые сжаться в кулаки. Вспомнил, что покойный брат сам назначал уделы детям, и уступил.
— Ищо Москву даю! — сказал Ярослав, помедлив. Александра тяжело дышала, красная лицом. Молча прижимала Данилку к коленям.
— На Москвы спасибо, князь! — сказала сердитым голосом и неприступно поджала губы. (Как не обчие?! Без Александра что бы вы делали все тута! И покойный, царство небесное, а грозу отвел!) Она вспомнила, что князя больше нет, и всхлипнула в голос, стиснув ойкнувшего Данилку.
— Ну ты, Шура, не журись, чад Александровых не обидим! — примирительно прогудел Василий Ярославич. Ярослав молчал, супясь. Митрополит коротко глянул на него, скользом — на вдову и, словно повторяя для вящего вразумления собравшихся князей, начал перечислять:
— К великому княжению отходят, опроче Владимира с пригородами, прежереченные грады по Клязьме, и по Волзе, и по Нерли волости, а такожде псковская и новогородская дани, и черный бор, и иное многое…
Перечень утишил Ярослава. Кус получался изрядный и без Москвы.
Впрочем, о новгородских доходах говорить было еще рано. «И слава Богу!» — подумал митрополит, возгласив:
— Прошу к столу, помянуть покойного!
В Новгороде сидел Дмитрий Александрович, но было ясно, что, став великим князем, Ярослав не оставит его в покое.
Глава 4
С того памятного дня прошло пять лет. Как только Ярослав получил ярлык, Дмитрию в самом деле пришлось оставить Новгородский стол, причем выслали его сами же новгородцы, не желая ссор с великим князем Владимирским. Через год после похорон Александра умер Андрей Ярославич. Ярослав сразу же отрезал от суздальского княжения Городец с Нижним и дал Городецкий удел племяннику Андрею. Дмитрий сидел теперь на Переяславле уже как владетельный князь и ждал своего часа. И хотя был жив брат Василий и еще дядя Василий Ярославич сидел на Костроме, Дмитрий не без основания ждал, что после дяди Ярослава выбор падет на него.
Маленький Данилка пока жил в Переяславле и один оставался неустроенным. Речи о Москве не подымали до времени, хотя и не раз вспоминали смешной возглас Александры: «Чада не мои, чада обчие!» — и звали мальчика полушутя «князем Московским».
Меж тем в Орде умер царь Беркай, «и была ослаба Руси от насилья татарского». Ханом сел Менгу-Тимур, который увяз в войне с иранскими Хулагидами и был доволен спокойствием на Руси. Страна могла жить и строиться, хоть и хирели низовские города, хоть и уплывало серебро в Орду, хоть и подрывала персидскую торговлю далекая южная война.
А годы шли, и жизнь текла своею чередой. Ярославу ударил бес в ребро. При взрослых детях женился в Новгороде на молодой боярышне с Прусской улицы, дочери боярина Юрия Михайловича Ксении Юрьевне. Александра сильно сдала со смерти мужа, располнела, состарилась, стала похожа на купчиху. Дети переставали слушать мать, отмахивались от нее. Александра терялась, плакала и все суетилась, все ездила: во Владимир, Городец, Ростов, Ярославль…
Дмитрию Александровичу, когда его изгнали из Новгорода, шел восемнадцатый год. Воротясь в Переяславль и сев на княжение, он женился, и Данилке, еще плохо понимавшему, что это за тетя у брата Мити, которая иногда играет с ним и дарит игрушки, скоро показали маленькую девочку с забавным красным личиком, объяснив, что это его племянница, Машенька. Впрочем, играть с племянницей, как ему ни хотелось, Данилке не позволяли.
Вскоре после того, как дядя Ярослав женился в Новгороде, у брата Дмитрия появился еще один человечек, теперь мальчик, Ваня, и Данилка, начавший уже многое понимать, долго разглядывал запеленатого племянника, а потом хвастал ребятам, что Митина женка выродила сына и всю челядь в доме угощали два дня и что, когда Митин сынок подрастет, они будут вместе играть.
А еще через год — Данилка уже стал ездить на ученье — исполнилась заветная мечта Дмитрия: его снова позвали новгородцы на войну с немцами и поставили во главе большой рати. Переяславская дружина ушла на север, едва только сжали хлеб.
Глава 5
С жарких лугов и цветущих гречишных полей пахло медом. Стрекозы с легким жужжанием неподвижно висели в воздухе. Данилка стоял в высокой траве, сжимая в потной ладошке щекотно скребущегося кузнечика. Кузнец уже высунул голову с удивленно округлыми глазами и, сердито разводя челюсти, старался вырваться на волю. Данилка был в затруднении. Конечно, можно было отломать кузнецу задние лапки, но тогда он перестанет прыгать, а интересно было, чтоб кузнечик был и целый, и свой. Поэтому он, высунув от усердия язык, уже который раз запихивал вылезающего кузнеца обратно, стараясь вместе с тем, чтобы он не цапнул за палец, а в непрерывно двигающиеся, с капелькой желтого яда, челюсти совал длинную травинку, и кузнец, глупо тараща глаза, тотчас перекусывал ее пополам.
Иногда ветер задувал с озера, и тогда враз обдавало влажной свежестью, вздрагивали повисшие в воздухе стрекозы, рядами наклонялись метелки высоких, уже выколосившихся трав, шуршал прошлогодний бурьян на склонах, и начинали трепетать на вешалах вынутые из ларей ради летнего погожего дня дорогие праздничные одежды. Солнечные зайцы отскакивали от золотого шитья наручей, парчи и аксамита, искрился жемчуг, густел или светлел в пробегающих складках фландрский бархат, что привозили к ним по веснам богатые новгородские купцы, колыхалась над кланяющимися былинками легкая переливчатая персидская камка.
Оттуда, от вешал, доносится сдержанный говор — пришлые бабы умиляются на княжескую красоту — и временами громкое: «Кыш, кыш, кыш, проклятая!» — это дворовая девка отгоняет хворостиной настырную сороку, что с самого утра, вновь
...