автордың кітабын онлайн тегін оқу Восьмой район


МОСКВА
2025
Этот мир судить будут дети.
Жорж Бернанос
У каждого настоящего есть свое будущее, которое освещает его и которое исчезает с ним, становясь прошлым-будущим.
Жан-Поль Сартр
Двое-трое — это уже Общество. Один станет Богом, другой — дьяволом, один будет вещать с кафедры, другой — болтаться под перекладиной.
Томас Карлейль
Глава 1
ЧАС Ц
Никем не любимый ребенок перестает быть ребенком: он лишь маленький беззащитный взрослый.
Жильбер Сесброн
Мать не заглянула, лишь отдернула рваную шторку. Я увидела только пальцы, сжавшие ткань.
— Сколько можно сидеть без толку? Время тянешь.
Я открыла и закрыла стульчак, спустила воду, чтобы не подтверждать ее догадку.
— Не переводи воду зря! — зашипела мать.
Громыхнули тарелки, она сбила их боком. Я сжалась: сейчас она разразится проклятиями. Много мелких обидных слов или два-три колющих удара, смотря на сколько осколков разбилась посуда. Но мама хмыкнула. То ли упала кастрюля, то ли она решила не ругаться в день церемонии.
Я аккуратно расправила изъеденную временем занавеску, отделяющую туалетную зону от кухонной. Мама стояла ко мне спиной, я почти задевала носом ее шею. За маленькой плитой располагались спальные места — четыре полки. Внизу — мамина, дальше по мере появления детей: Тома, Макса, Марка — и моя верхняя. Перед сном я отковыривала вздувшуюся от сырости краску, просыпалась вся в пыли и плесени. Я сбегала из нашей крохотной комнаты при любом удобном случае, но сегодня предпочла бы забраться на полку и ковырять гнилой потолок, чтобы спрятаться в перегородке между этажами.
— Можно я останусь?
— Все собрались. — Мама сделала вид, что не услышала вопроса. — Ты и так заставила нас ждать. Опоздаем — я не стану прикрывать тебя. Распределители не жалуют опозданий. Они лишат нас награды.
— Может, я не подойду.
— Подойдешь.
Мама даже не обернулась. Она гремела четырьмя тарелками, кастрюлей и гнутой сковородкой без ручки, а казалось, что повелевала громом.
— Ты знаешь результат?
— Я не могу одна тащить четверых, хватит, устала.
Я просидела за шторой все утро. Надеялась, что мама поддержит меня. Заглянет, возьмет за руки или обнимет, скажет что-нибудь вроде «все будет хорошо», «ты поможешь семье» или «я люблю тебя», соврет. И этим придаст мне сил. Но она никогда мне не врала. Кидала правду в лоб грязной тряпкой, плевком, насмешкой. Она устала и отдала меня распределителям, вот откуда уверенность, что я пройду.
Я поспешно обулась, не хотела неловкими движениями вызвать ее гнев. Мать давно сняла самую нижнюю полку, папину. Туда уместилась наша обувь, там же стояла корзина, которую наполнят продуктами, когда я пройду распределение. Мы шли мимо распахнутых дверей соседских комнат. На церемонию семьи собирались заранее. Одни торопились увидеть сверкающий транспортник, вылетающий из брюха Ковчега. Другие тряслись возле детей, сдерживая слезы. Мама плыла между соседями, вскинув голову, они расступались перед ней, она не скрывала радость — наконец избавится от меня.
Я заняла свое место в колонне детей, выбранных по предварительным анализам. Мама присоединилась к сыновьям. Том помахал мне, Макс одернул его, Марк самозабвенно ковырял в носу.
«Они уже простились со мной», — поняла я. Сердце сжалось, спряталось за ребра.
Колонна поползла между домами. Они походили друг на друга, кривобокие близнецы, лишенные кусков стен, крыш, совершенно забывшие, что в окнах были стекла. Я могла по памяти назвать, в каком доме, на каком этаже отсутствуют ступени лестниц. Беззубые пролеты я перепрыгивала с закрытыми глазами, раскачивала скрипучие перила, подглядывала в щели дверных проемов. Я знала каждого на нашем островке, выросшем грибной колонией посреди изуродованных Катаклизмом полей. Сейчас все эти люди стояли вдоль улиц, слившись с серыми стенами.
Мы двигались быстро, отставать не разрешали. Распределители подгоняли нас грубыми окриками, сверялись с данными на прямоугольных штуках — планшетах. Прозрачно-черные, чуть вогнутые, планшеты рябили цифрами. Я вытянула шею подсмотреть, что там за цифры. Почти все дети умели читать и писать, родители уделяли внимание базовому образованию, быстро сворачивая его годам к десяти, когда дети достаточно крепли, чтобы помогать взрослым на полях. Мы собирали урожай серых овощей и считали количество гнилых и пригодных к пище, высаживали бледные травы и повторяли буквы в их названиях, копали колодцы и писали пальцем в пыли свои имена. Но без учебы не оставались, к нам с небес спускались учителя в белых обтягивающих термокостюмах и передавали знания. Которых, правда, всегда оказывалось мало.
В рядах светящихся цифр из планшетов я ничего не поняла. Один из распределителей заметил мой взгляд, поэтому я быстро опустила голову, пока он не замахнулся или не достал шокер.
Из последнего дома в колонну вытолкнули лохматую девочку. Толстые растрепанные косы колотились по спине, мать подтащила ее, сопротивляющуюся, упирающуюся обеими ногами, к концу шеренги, разжала пальцы, умчалась прочь. Я заметила, как она терла глаза. Женщина встала возле мамы, та посмотрела на нее с отвращением и поменялась местами с Максом. Слезы в нашей семье считались роскошью и слабостью. Если я плакала, мама грозилась не давать мне воды целый день.
Девочка издавала странные звуки, рвалась к своей матери. Распределители толкали ее обратно. Она заламывала руки, хныкала. Нас разделяло пять или шесть человек. Я узнала ее, она тоже заметила меня.
— О нет!
Я так надеялась, что распределение пройдет Хана. Но моя лучшая подруга стояла в толпе со своими родителями и украдкой помахала мне, когда я проходила мимо. Рядом с ней возвышался Том, он сбежал из-под надзора матери и теперь прижимался к Хане. Все говорили, у них любовь. Прекрасная пара, возможно, дадут здоровое потомство, если доживут до детородного возраста. Почему я решила, что и Хану постигнет моя участь? Мне хотелось разделить страх с кем-то родным, чтобы в неизвестности рядом оказалось плечо друга. Вместо этого в ухо уперся сопящий нос.
— Я! Я! — весело сообщила лохматая девочка.
Ее звали Магда. Вечно сопливая, едва складывающая слоги в слова, Магда — вот мое дружеское плечо. Она забыла о матери, вцепилась в мой локоть и висела так до самого ангара, в котором нас ждало завершение Церемонии.
Между собой дети назвали Церемонию «час Ц». Произнести слово целиком не решались, по отсекам ходило суеверие, что произнести слово полностью — значит пройти отбор. Родители не разделяли детского суеверия, однако тоже старались не говорить страшное слово. Перед тем как отправить меня к распределителям, мама несколько раз, словно специально, сказала «Церемония». «Умойся, ты должна быть чистой для Церемонии». «Не смотри в глаза распределителям Церемонии, они не терпят наглости». «Главное, молчи. На Церемонии требуют соблюдать тишину». Она драла мне волосы щеткой, растерявшей бо́льшую часть зубов, и повторяла это проклятое слово вновь и вновь. Для меня «Ц» значило особый стук сердца, будто оно забывало привычный ритм и начинало цыкать, отнимая последние остатки храбрости. «Тебя отобрали. Час Ц наступил. Теперь ты потерян. И тебя никто не будет искать». Навязчивая мысль, что нас отдают на съедение жуткому монстру, не покидала меня. Я вошла в ангар, стряхивая со своей руки Магду, и оглянулась. Сопровождающие нас взрослые замерли в стороне, сбились в кучу. Глаза их сверкали, внезапно они все стали одним бледным испуганным лицом.
Колонну проверили. Поправили выбивающихся из ряда, оторвали от меня Магду. Шеренга полуголых детей выстроилась в длинном коридоре. Лампы гудели, заглушая дыхание страха. Магда подпрыгивала в нетерпении. Я видела, как дрожат ее руки, как она пытается приклеить их к бедрам и стоять ровно. Я уговаривала себя не оглядываться, забыть родные лица. «Моя подруга Хана больше мне не подруга». В животе опустело. Она выплачет воспоминания о нашей дружбе в облезшую подушку сегодняшней ночью. Я представила ее заплаканную, с опухшим носом. Слезы повисли на ресницах, я быстро вытерла глаза. Образ скорбящей Ханы вызвал предательскую дрожь в коленях. Сквозь охватившее меня волнение расслышала слабый голос, он утверждал, что я напрасно представляю Хану такой. Она быстро забудет меня, ведь у нее есть Том. Она свободна, ей незачем забивать голову мыслями обо мне.
«Ты не прав! — То, что это был мой собственный голос, мучило и заставляло колени дрожать сильнее. — Она любит меня и будет помнить. И я сберегу воспоминания, чтобы выжить».
Магда выхватила стопку вещей у распределителя прежде, чем тот отсчитал полный комплект. Она единственная улыбалась, дурочка. Не потому, что я ее не люблю, а потому, что Магда в самом деле дурочка. Такой родилась — абсолютно глупой и абсолютно счастливой. Бог, или природа, или кто-то там еще, кто допустил все происходящее с нашим миром, не дал ей мозгов, зато одарил умением радоваться без повода. Удивительно, что она вообще столько прожила. Родители тряслись над ней, это в моей семье оставалось трое мальчишек, а Магда — единственный ребенок.
— Иди, Магда! — шепнула я сквозь зубы. Она застыла в обнимку с комплектом.
— Платье. — Пузырь счастья лопнул на ее губах.
Заминки не дозволялись, шокер бил под ребра. Магда согнулась пополам, уронила заветные тряпки, улыбка надломилась болью.
Помочь или не помочь? Мать всегда твердила, что жалость до добра не доведет. «Помяни мое слово, ты помрешь, помогая какому-нибудь глупцу». Глупец есть, смерти я боюсь меньше, чем того, что ждет впереди. Итог любой смерти известен, итог Церемонии предсказать нельзя. Шокер загудел во второй раз. Я наклонилась, сгребла вещи, впихнула комок куда-то в скрюченный живот, толкнула Магду вперед. Иди! Я засеменила следом. Решения распределители принимали в доли секунды. Вроде я пока жива, значит, Магда не тот самый глупец или время не пришло.
У входа в дезинфектор нас отмечали галочкой на прозрачном планшете. В поселении есть один такой, не работающий со времен до Катаклизма. Его показывали, по рукам не пускали — вдруг заляпаем. Мы обходились переработанной серой массой, расползающейся под локтями, именуемой бумагой. Работающие планшеты видели только у людей с Ковчега — спускаясь с небес на землю, они почти не смотрели на живущих здесь, не хотели отрываться от своих планшетов. В год прибывало около десяти групп с Ковчега. Учителя, проверяющие уровень знаний и просвещающие о событиях Катаклизма, но никогда не говорившие о том, какая жизнь была до него и что послужило ему причиной. «Мы все обязаны Ковчегу, поднявшемуся из огня и крови и подарившему надежду». Мы повторяли эту фразу снова и снова, учителя наслаждались нестройным хором. Медики, которые отделяли совсем больных от тех, кто мог выкарабкаться своими силами. На Ковчеге пользовались иными технологиями, точнее, у нас не существовало вообще никаких технологий, у нас все больные, небожители же не болели. Медики проводили предварительные анализы детям в возрасте одиннадцати-двенадцати лет, и, основываясь на них, распределители отбирали подростков в Ковчег. Медики часто выступали судьями, которые зачитывали список обвинений и отправляли нарушителей в шахты. Ковчег следил за нами — многоглазое чудовище, парящее в небе. В перечень нарушений входили: кража, убийство, изнасилование и сомнения в Ковчеге. Последнее хуже всего. Сомнения в Ковчеге, попытки наброситься на прибывавших из его брюха, не допустить детей до отбора или выпросить лекарство приводили в шахты, где добывали, как мы думали, топливо для Ковчега, оттуда уже никто не возвращался. Хотя некоторые шли в шахты по собственному желанию — из-за тех же лекарств, совсем как наш папа, который сперва добровольно помогал больным из шахт, а позже остался в их плену навсегда.
Естественно, спускались и распределители, забирающие детей и вручающие их семьям свежие продукты, одежду и медикаменты.
«Дети бесценны. Наш долг — их спасти, — твердили нам учителя. — Мы предоставим им будущее, а их семьям — средства к выживанию». Все они являлись к нам с планшетами, бодрыми голосами и прямыми спинами. Мы встречали их разрушенными домами, настороженными взглядами и торжественным урчанием желудков.
В темноте комнатки, где нас оставили переодеваться, мы не видели друг друга, но жались, слеплялись в многорукое, дрожащее от страха существо. Судя по кряхтению, каждый пытался на ощупь попасть в штанины или рукава. Что-то мокрое прижалось к щеке, оставив прохладный след. Чьи-то слезы или слюни Магды? Над головами раздалось шипение. Заработали динамики, загорелись зеленые огни на полу. Они вели к толстой двери, тоже мерцающей зеленым.
— Я буду называть ваши имена. Названный незамедлительно направляется к двери. В случае задержки явится распределитель и ваш отбор будет считаться завершенным. Виктор.
От клубка тел отделился мальчик. Ноги подводили его, он спешил. Дверь открылась горизонтально, мы выдохнули в изумлении. Виктор шагнул в проем, и секции двери сомкнулись.
— Она его съела, — хихикнула Магда.
— Заткнись! — шикнула я.
Магду вызвали, когда нас оставалось четверо по углам небольшой комнаты. Она не хотела стоять одна у холодной стены, а я не встала рядом, и ей пришлось переминаться с ноги на ногу, перебарывая желание подойти ко мне.
«Магда!» — прогремело над нами. В дверях она обернулась, хотя никто не оборачивался. Магда опять улыбалась, я впервые подумала, что она не глупая. Ее улыбка могла стать нашей поддержкой, но мы не осознали этого.
Я считала отобранных, пока ждала, перебирала по памяти имена. Двенадцать.
«В Ковчег попадут только восемь человек. У тебя есть шанс, это твое число», — говорил мне Том. Я родилась восьмого июля восемьдесят восьмого года от Великого взрыва. Не того, что создал Вселенную и разметал пыль жизни по всем ее уголкам, — об этом рассказывали учителя с Ковчега, а того, что разнес половину планеты, превратив оставшийся ошметок в грязный колониальный мир, над которым царствовал в сияющем великолепии Ковчег. Великий взрыв, или Катаклизм.
Не знаю, с чего Том взял, что останется восемь. Макс вообще считал, что нас убьют еще в дезинфекторе. Конечно, он имел в виду в первую очередь меня, остальные его мало заботили. Но верить Максу я не хотела и сейчас просила, чтобы Том оказался прав. Он точно женится на Хане, интересно, они назовут своего первенца в мою честь? Вдруг одна слезинка останется на дне глаз Ханы. Если, конечно, у них родится девочка. Если Хана вообще сможет родить. С этой мыслью я вошла в пасть двери.
Помещение дезинфекционной оказалось чуть больше предыдущего, идеально белое. Дверь сомкнулась за спиной, не оставив даже щели. На полу, ровно в центре, блестела круглая решетка слива.
«Раздеться», — голос в динамике приобрел металлические нотки. Я спешно стянула рубище, которое нам выдали, удерживая за зубами вопрос, зачем тогда нужно было переодеваться. «В печь». Слева открылось маленькое окно. Я бросила туда вещи, пламя вырвалось со всех сторон разом, окошко закрылось. Часть меня сгорела в этом огне вместе с жалкими тряпками. «Встать в центр». Я встала над сливом. Из стен и потолка появились гибкие шланги. Струи воды ударили по коленям, плечам, спине, шее, животу, груди. Я не удержалась на ногах, лоб впечатался в белый пол, в голове словно что-то разорвалось яркой вспышкой, перед глазами замаячили круги. Струя била и била, горячая, беспощадная, с резким запахом. Дезинфекционная заполнилась паром, стены поплыли. Я силилась встать, упиралась локтями, подтягивала ноги. Казалось, острые ножи режут кожу, а я вся сплошь открытая рана, разъедаемая солью. Я плакала смесью слез и дезинфекционного средства, кашляла, расчесывала родинку на пояснице, она особенно горела. И просила перестать. На миг мне послышался мамин голос: «Что бы тебе ни уготовили, терпи».
«Я хочу к маме…»
Едкий пар вытеснял из груди чувства, я наполнялась его ядом. Мама отдала меня распределителям. Скорее всего, во время первого забора анализов она подкупила медиков. Чем можно подкупить ни в чем не нуждающихся обитателей Ковчега? Телом, худым и изможденным? Скупой лаской, ведь на большее она не способна? Чем-то сумела. Тогда пропало обручальное кольцо — единственная память об отце. Мать не стала кричать по своему обыкновению, лишь поджала губы. Она продала нас обоих — папу и меня. В один день. Мама знала, что результат положительный, потому что выторговала его. Сделала все, чтобы я убралась как можно дальше от нее и мальчиков.
И все-таки я звала ее, захлебываясь вонью и рыданиями. Струя попала в рот, я ощутила, как легкие наполняются мерзкой сладостью. Задохнуться мне не дали, стена напротив раздвинулась, пропуская двоих в черных шлемах. Они подхватили меня под руки, понесли. Голова болталась, тяжелые веки не желали моргать, мир слепил, перед глазами словно вились мошки. Меня качало на белых волнах. На самом деле это были стены, потолок, пол, но все колыхалось, переливалось, теряло границы.
Я не могла определить, где я, что со мной. Дезинфекция выжгла слизистую носа, я не чувствовала запахов, возможно, ничем и не пахло вовсе. Голову щипало сильнее всего, я попыталась почесать затылок, но не смогла пошевелиться и скосила глаза. Руки и ноги крепко привязаны. Я полулежала на высоком кресле, утопая в нем, мягком и широком. Чтобы хоть как-то унять зуд, поерзала, помотала головой из стороны в сторону. Не помогло. Хватка чуть ослабла, вырываться и бежать было некуда. Глаза перестали слезиться, и я смогла разглядеть черные глянцевые шлемы и свое испуганное отражение в них. Длинный нос, шрам под губой, еще малышкой я упала прямо на рот и долго потом пересчитывала языком оставшиеся молочные зубы, огромные глаза на худом лице. В отражении не видно, что они темно-голубые, почти синие. Какой-то непривычно высокий, бесконечный лоб. Стоп! Я лысая? Где мои волосы? Вечно спутанные, торчащие в разные стороны, раздражающие маму, черные волосы смыла дезинфекция! Вопль застрял в горле, оно саднило и горело. Единственное чувство, которое не покинуло и не подвело, — осязание. В маленьком, слепящем светом помещении, куда меня втолкнули, было холодно. Голова чесалась не переставая… Чем им помешали мои волосы? Зудящую голову пронзила мысль, от которой я перестала дергаться: я не прошла Распределение. Матери не выплатят вознаграждение, потому что я не попала в число счастливчиков.
— Курс на Ковчег! — ударил по ушам мужской голос. — Набранная высота — семь тысяч метров. Стыковка ожидается через десять минут. Проверить удерживающие устройства.
Мы летели, сиденье подо мной слегка вибрировало, рядом кто-то шумно дышал. Я не одна, и я в транспортнике, который набирает высоту. Нас везут на Ковчег, значит, я все же прошла. Мама порадуется. Разглядеть внутренность транспортника не удавалось, зрение отказывалось восстанавливаться.
— Набранная высота — тринадцать тысяч метров.
Высоко забрался Ковчег. Тяжелая рука легла на плечо, подтянула вверх, ремни врезались в голую кожу.
— Набранная высота — пятнадцать тысяч метров. Стыковка через три минуты. Подготовиться к конвою, отправить запрос в лабораторию.
Нас ждет лаборатория. Что такое лаборатория? Дайте мне укрыться, холодно…
— Высота — семнадцать тысяч восемьсот метров. Стыковка. Ковчег сообщает о немедленном изменении высоты после стыковки, открыт коридор блока А4, нижняя лаборатория.
Транспортник трясся и шипел, та же тяжелая рука выдернула меня из кресла, потащила. Я цеплялась за какие-то острые углы, висела кулем, ступни опухли и болели. Нас вели в абсолютной темноте, только под ногами расплывались далекие мутные огни. Меня окружали тени, извилистые повороты вели к смерти, не иначе. Потолок обрушился внезапно: яркий свет ударил в глаза, отступил, полился отовсюду разом, комната сжалась в ослепительный комок и мгновенно увеличилась. Меня бросили в очередное кресло, пристегнули, убедились в надежности ремней. За прозрачными перегородками стояли такие же кресла с пристегнутыми к ним детьми. Маленькая комната оказалась бесконечным коридором со множеством ячеек. Дети бились в ремнях, вырывались и кричали. Рты открывались, однако крики гасили звуконепроницаемые перегородки. Над детьми двигались щупальца проводов, с потолка спускались мониторы. В ячейках сновали люди, их лица скрывали глянцевые зеленые шлемы — медики. Нас не восемь, Том! Изголовья кресел ограничивали обзор, я насчитала пятнадцать человек справа и слева от себя. Зачем я прозрела, хочу ослепнуть вновь!
Моя ячейка дрогнула, вошли трое зеленоголовых.
«Где я? Кто вы? Отпустите меня!» — пересохшее горло проглотило вопросы. Тело понимало лучше разума — вопросы останутся без ответов. Сверху выплывали мониторы, разворачивались гибкие шланги. В нашей колонии говорили о технологиях Ковчега, жала этих технологий выдвинулись из «щупалец», тончайшие иглы устремились к моему лбу.
— Отпустите меня! Не трогайте! — Крик наконец прорвался, ремни натянулись, вонзились в руки. Кресло утратило мягкость, обхватило плечи, бедра, удерживая меня, меняя форму. Зеленые шлемы тыкали пальцами в мониторы. Раздался писк, иглы завращались с бешеной скоростью, они гудели, приближались.
— Не надо! Отпустите меня домой. Я не подхожу вам!
— Терпение. Мы скоро узнаем результат. — Слова обращали не ко мне.
— Не смотри, не смотри, — шептала я, отводя взгляд от неумолимо приближающегося острия. — Пожалуйста, просто убейте...
«Смерть порой самый милосердный из даров жизни» — так часто говорил Макс, повторяя слова мамы на собственный манер. Я призвала это милосердие, когда боль и огонь разорвали лоб и темя, брызнула кровь. К мозгу пробирался жужжащий бур, вместе с ним трещала невесть откуда взявшаяся ярость. «Почему я! Я не хочу умирать. Пусть мои мучители умрут! Разве они не заслужили?» Я представила, как бур пронзает их головы, как они падают и извиваются на полу, бессильные сопротивляться моей воле. Через боль я видела худые костлявые пальцы на шлеме одного из медиков, они сжимались, и шлем разлетался на мельчайшие осколки. У смерти были мамины черты, она била стекло шлема, как посуду, кривясь и содрогаясь.
Перегородки задрожали. Свет погас. Снова включился. Прозрачные стенки стали матовыми, я больше не могла видеть всю длину коридора-лаборатории. Щупальца втянулись в потолок. Один из зеленых шлемов валялся в углу. Его владелец скорчился рядом, двое коллег суетились над ним, забыв про мониторы.
— Невозможно. Его проверяли перед сменой.
— Хватит, сколько можно повторять? Он мертв. Пульса нет. Датчики молчат. Я отправлю запрос. Пусть проверят его анализы.
— Невозможно! Повтори реанимацию!
Я обрела способность нормально видеть, слышать и говорить. Зуд прошел. Кровь текла по лицу, затекала в уши. Страх отступил.
— Что случилось? Пожалуйста, скажите, что произошло. Почему он умер?
Тот, что стоял ближе ко мне, подскочил, застучал по монитору. На потолке замерцали красные огоньки. Тревога — сомнений никаких, даже в нашем захолустье под Ковчегом красный огонек значил опасность. Он позвал на помощь. Кресло облепило меня, завернуло в кокон. Оно вибрировало. Я погрузилась в странное расслабленное состояние. Потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что я улыбаюсь. Еще через пару мгновений ворвались черношлемые. Блаженство, охватившее меня, не дало снова испугаться. Они заполнили ячейку, оттеснили зеленых ученых, неторопливо завернули погибшего в плотный мешок, застегнули. Раздался приглушенный хлопок, мешок немного увеличился в размерах, затем осел. Его свернули и сложили в контейнер. Кто-то подошел ко мне, приблизился вплотную, моя дурацкая улыбка отразилась в глянце забрала. На металлическом поддоне, появившемся из стены, лежал шприц. В обтянутой черной перчаткой руке он выглядел совсем маленьким, с длинной, просто невероятно длинной иглой. Капли выстрелили вверх, блеснули на краткий миг.
— Эксперимент запущен, время девять тридцать пять. Направлено Лидеру лично. Статус: ликвидация.
Голос из-под шлема равнодушный, четкий, он не заботился, слышу ли я, понимаю ли, о чем он.
«Сейчас мое желание исполнится».
— Давай, — я сказала это вслух, — скорее.
Он воткнул шприц в рану, оставленную буром. На этот раз боли не было вовсе. Сознание угасло. Я снова перестала чувствовать, слышать, видеть, перестала дышать.
Я умерла.
Зенону снова выпало сортировать трупы. Сильные руки сгребали тела, сгружали на тележку. В пару ему назначили Вита, вместе они всегда работали споро, предстояло отделить мужчин от женщин. Мужские — в правый коллектор, женские — в левый. Говорить, что это трупы детей, не разрешалось. Неопределенного человека легче пустить на переработку. Ребенка — тяжело. Хорошо, что они с прошлого года изменили возрастной ценз. Подростков можно принять за почти взрослых, если зажмуриться и заглушить бой сердца.
Взгляд Зенона зацепился за лысую девчонку с дырой во лбу, она лежала чуть поодаль от горы трупов. Голова в язвах, видимо, у нее нашли вшей. Дезинфекция избавляла и от вшей, и от волос, и от обширных кусков кожи. Зарастет. Затылок Зенона нестерпимо зачесался. Он вспомнил свою Церемонию. Широкий шрам тянулся от виска почти до затылка, разделяя косым пробором светлые волосы.
— Я сейчас, — бросил он Виту, — подтащу эту.
Подбородок и нос девчонки разбиты, кровь залила лицо, застыла ржавой коркой. Зенон подошел к ней, взял за руку, подтянул к общей куче.
— Она странно пахнет. — Вит обошел Зенона, втянул воздух. — Не землей, не так, как другие. — Он указал большим пальцем на гору трупов.
— Мы здесь все воняем, нюхач. Не выдумы…
Пальцы мертвой вздрогнули.
— О черт! — Зенон отскочил в сторону.
Девочка застонала, поднесла ладони к глазам, она не могла разлепить веки, ресницы запеклись кровью.
— Вода, нужна вода! Вит! — закричал Зенон.
Парням, работающим в парах, выдавали одну флягу на двоих.
Вит застыл на месте.
Девчонка застонала громче, пытаясь сорвать корку с глаз. Ее охватила паника.
— Дай воду! — снова закричал Зенон.
Фляжка прилетела в руки, он вылил половину на глаза и лоб девушки, поднес к губам.
— Что, живая? — Вит отступал потихоньку. — Я же говорил, она не так пахнет. Не переводи на нее воду, все равно помрет. Можешь сразу кинуть в тележку, я как раз женские повезу.
— Катись давай!
Зенон оттолкнул руки девочки, она мешала сама себе:
— Убери. — Он вновь умыл ее. — Успокойся. — Драгоценные капли упали на пол, ребята вокруг зашипели от возмущения. Они забыли о работе, подходя ближе к ожившей покойнице.
— Брось, Зенон, не возись с ней!
Девчонка открыла глаза. Зенон не понял, кто из парней первым бросился вызывать Стирателей. Они шли черной стеной.
— Как тебя зовут? — шепнул Зенон ей прямо в ухо.
— Яра…
— Мне очень жаль тебя, Яра. Лучше бы ты умерла.
Стиратели оттащили Зенона прочь. Яра хрипела.
— Тебе дадут доппаек. — Вит хлопнул Зенона по плечу. — Поделишься?
— Забирай весь.
— Не принимай близко к сердцу. Мы здесь давно все мертвые, она просто задержалась.
— Да… да… — Зенон подавил странное чувство, шевельнувшееся в груди.
Он это уже видел — девчонку среди трупов и Вита, говорившего, что они все давно мертвы.
— Надо везти их на переработку, Зенон.
— Да.
Впервые в жизни размеренная работа принесла Зенону успокоение. Он ничего не сможет изменить.
Глава 2
БЕЗЫМЯННЫЕ
Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах.
Евангелие от Луки, 10:20
Говорят, перед смертью мы видим свою жизнь, самые яркие моменты, друзей и родных. Нас накрывают эмоции, которым мы чаще поддавались. Счастье, любовь или уныние, гнев. Я увижу маму? Братьев? Папу? Хоть бы папу.
Из тьмы выглянула Хана. Ей десять, волосы коротко пострижены, веснушки на вздернутом носу побледнели, брови нахмурены. Я рядом, прячусь за мамой, выглядываю одним глазом, чтобы не заметили. Тесно. Нас много, все прижимаются друг к другу. Братья наступают мне на ноги, шикают, хотя я и так молчу.
Первая Церемония, на которой я присутствовала, — вот что принесла мне смерть в качестве последнего сна. Церемония — слишком громкое слово. Оно подразумевает испытание, ритуал, следование традициям, красочность, пусть даже оттенки мрачные. Никакой красочности Церемония не дарила, поэтому и превратилась в час Ц. «Ковчег украшает небо», — говорили взрослые. Тень, жуткая, многоугольная, скользила по уцелевшим крышам. По словам учителей, когда-то Церемония походила на настоящий праздник. Родители и дети шли к распределителям с радостными улыбками, пытались занять в толпе места впереди, оживленно переговаривались. Когда все изменилось?
Я еще помнила тончайшую иглу, что выпрыгнула из поршня напиться моей крови. Я не знала, что за загадочный критерий определял, попадешь ли ты на Ковчег, я боялась вида крови и острых предметов. Ноги немели от запаха, исходившего от людей с небес. Он проникал в нос холодом, разливался в крови горькой волной. Я часто моргала, чтобы видеть как можно меньше. Но на самой Церемонии смотрела по сторонам во все глаза, ведь забирали брата Ханы — Филиппа, самого красивого мальчика, которого я знала.
— В следующем году попробуем меня, мам, — заявил Марк и ударил себя в грудь. — Я точно пройду отбор, не то что Том. — Он мнил себя во всем лучше братьев. Том был старше, но он худой и болезненный.
— Ничего подобного, — зашипел Макс, — сперва пойду я. Ты, малявка, не годишься! А я буду идти там, такой же гордый, как Филипп.
Макс ошибся насчет себя, но с Марком отгадал. Никто из моих братьев не прошел отбор. Макс орал, когда огласили результаты отбора. Разумеется, не при медиках, а позже, дома. Он вообще часто орал, по поводу и без. Марк показывал ему язык со своей полки. Том молчал. А мама? Мама тоже молчала, готовила обед. Макс любил оладьи из серой безвкусной муки и получил их. Нытье Марка после провала с отбором я почти не помню. Мама — а вот это я отлично запомнила — погладила его по голове. Она не сожалела о провале сыновей.
Но тогда я не стремилась разобраться, почему одних Ковчег принимает, а других возвращает семьям. Меня занимал Филипп. Он шел вместе с другими отобранными детьми, высоко подняв голову. Хана, бледная и злая, вырвалась из объятий матери, побежала за ним.
— Ой, мамочка, — пискнула я. — Они ее не накажут?
— На Ковчеге детей не обижают. — Мама не наклонилась, не успокоила меня. — Дети — высшая ценность, инвестиция в будущее.
— Что такое инвестиция, ма?
Мама раздраженно одернула юбку. За нее ответил Макс:
— Это деньги, дурочка.
Его ответ мне не помог. Что такое деньги, я тоже не знала.
— Я не дурочка. Дурочка — Магда…
— Ты недалеко от нее ушла.
— На деньги можно купить продукты. Раньше их давали за ребенка, который прошел Церемонию. Сейчас — сразу продукты. — Том умел объяснять. И от него всегда исходило тепло. Он поднял меня на плечи, чтобы я могла разглядеть происходящее.
Хана догнала брата.
— Я пойду с тобой! — кричала она. — Мама говорит, нельзя. Но ты ведь мне разрешишь!
Филипп оттолкнул ее:
— Ты еще маленькая, Хана.
Хана не отстала. Она действительно выглядела младше своих лет, испуганная и решительная одновременно. Путалась под ногами, мешала шеренге.
— Увести ребенка! — рявкнули люди Ковчега.
Мать подлетела к Хане, подхватила, та дергала ногами, кусалась.
— Тебе исполнится шестнадцать, ты попадешь на Ковчег, и там тебя встретит Филипп. — Мама Ханы говорила быстро и громко, чтобы заглушить протесты дочери. — Вы обязательно увидитесь.
Филипп вышел из строя посмотреть на маму и сестру. Он улыбался немного пришибленно, помахал Хане:
— Я буду тебя ждать!
Распределители затолкали его обратно в колонну, двери закрылись за ними.
Мы, остатки семей, которым не посчастливилось попасть на Ковчег, глотали пыль и смог, вырывающийся из сопел двигателей. Транспортник устремился в небо. Тогда Церемония совсем не напугала Хану. Зато в мою память она въелась вязким ужасом, я почти не слышала воплей подруги. За спиной перешептывались взрослые.
— Жаль бедную Клариссу. — Они говорили о матери Филиппа и Ханы. — Может, они скинут труп?
— После переработки ничего не останется.
Я не знала, что такое инвестиции, деньги и переработка, но что такое труп, знала отлично лет с пяти. Так Макс называл нашего отца, когда ругался с Томом: «Он труп, труп, ты понял! Он мне не указ!»
За правильного ребенка семье выплачивалось возмещение. Когда-то это была конкретная сумма, с течением времени Ковчег стал откупаться натурой: продуктами, лекарствами, одеждой. Деньги превратились в куски бумаги, в общество вернулся бартер, и дети тоже стали ликвидной валютой обмена, ценнейшей. Ковчег преподносили детям как спасение. Но как бы учителя ни расцвечивали легенду о Ковчеге, она наводила ужас, потому что дети чувствуют все иначе, чем взрослые. Они ощущают ложь сердцем, а одиночество — всей кожей. Одиночество готовило ребенка к отбору, ведь очень скоро семьи начали влиять на результат анализов. К неподкупной системе не подступишься. На сенсоры планшетов жали человеческие пальцы, эти пальцы умели считать, прикидывать, торговаться. Казалось бы, что нужно обитателям Ковчега, скользящего по небу рая? Они приходили будто из другого мира. В одежде из ткани, которая подстраивалась под нужды организма: тепло, холод, защита. С оружием, с медицинскими инструментами, сытые. Смотрели на нас, копошащихся в грязи, сверху вниз. Однако чего-то им не хватало, и взрослые находили лазейки. Подкупали их тщедушными телами или, как моя мать, обручальными кольцами. Неужели обитателям Ковчега не хватало любви и потертых драгоценностей? Так на Ковчег попадали те, кого система, основываясь на анализах, отбраковывала. Неправильные, совершенно ненужные своим семьям и Ковчегу. Филипп мог оказаться именно таким. Вот почему мама усиленно посылала Тома на Церемонию, он много болел. Она работала на лекарства, мы голодали, и мама все чаще называла старшего сына обузой. Том выжил, вырос в красивого мужчину, в которого без памяти влюбилась Хана. Макс не прошел Церемонию, как не прошел ее и Марк. Их мама любила, потому и не расстроилась. А потом попробовала со мной, обузой номер два.
В одиннадцать я подставила руку под поршень, зажмурилась, чтобы не видеть иглу и кровь. А через месяц после шестнадцатилетия прошла отбор. И про меня кто-то наверняка пробормотал те же слова, что шептали про Филиппа.
Только я совершенно не хотела умирать. Я ошибалась! Зачем я просила, зачем представляла себя мертвой? Тьма засасывала меня, вокруг вспыхивали звезды. Белые, голубые, зеленые. Они разрастались, сливались, заполняли все вокруг. Смерть была удивительно похожа на пробуждение. Что-то воткнулось в бок. Меня куда-то тащило, я сопротивлялась. Мне не нравилась такая смерть. Должно же быть тихое, спокойное забытье, труп ведь ничего не чувствует.
Макс бы сказал, что я даже умереть по-человечески не могу. Вот он, смотрит на меня, весь страшный, со шрамом, убегающим над ухом далеко под светлые волосы. Почему они светлые? В нашей семье все темноволосые. И глаза не по-максовски встревоженные, тоже светлые, сверкающие в окружающей меня тьме.
— Как тебя зовут? — Макс лил воду мне на губы, я пыталась пить, давилась, хрипела.
А то ты не знаешь?
— Яра.
— Мне очень жаль тебя, Яра…
Это не Макс. Макс бы меня никогда не пожалел, у Макса, каким бы он сильным себя ни считал, не такие могучие руки. Значит, я на Ковчеге. Я жива. И какой-то парень спас меня. Черные шлемы сбежались, как тараканы, темнота постепенно расступалась. Парня оттащили, зазвенела отброшенная фляга, остатки воды вылились на пол. Мой спаситель не сопротивлялся. Отошел к контейнеру, взял лопату. К нему подбежал другой человек. Они принялись грузить в контейнер голые тела.
Я умудрилась выжить?
Меня опять подхватили, потащили. Сознание постепенно возвращалось. Я увидела свои ноги, платье пропало, костлявые колени в синяках. Взгляд уперся в грудь. Я до сих пор голая! Я завопила, вывернулась как могла, попыталась хоть как-то прикрыться. Моя возня не произвела впечатления. Меня приподняли, ноги волочились, я не могла даже перебирать ими.
— Обновление данных по эксперименту. Статус: выжившая. Назначение: отслеживание результатов.
— Здравствуйте, — просипела я, — кажется, мы с вами уже виделись.
— Назови имя и фамилию.
— Только после вас.
— Имя и фамилия.
— Дайте мне одеться.
— Имя и фамилия. Повторяю последний раз.
— Яра Мёрфи.
— Добро пожаловать на Ковчег, Яра Мёрфи! Мы сопроводим тебя в отсек.
Впереди раскрывался проем.
— Лифт нижних ярусов. Отсек А, принято.
Говорящий лифт, просторный, с выемками для сидения. Рот раскрылся сам собой, такого я еще не видела. Меня бросили в первое углубление, кинули сверток с одеждой, отвернулись. Штаны и рубашка. Я уселась, сжалась в комок и принялась одеваться, при этом разглядывая автоматы за спинами шлемоносцев. Мы называли их оружие старым термином, потому что настоящего названия не знали, зато отлично знали, на что способны эти автоматы. Подобные носила стража, сопровождающая медиков и учителей, когда они спускались к нам вниз. Столкновения происходили редко — мы смотрели на людей Ковчега как на богов, и все же они случались. Порой мы опускались на уровень животных и дрались за пайки, выдаваемые семьям отобранных. Матери бежали за медиками с мольбой дать лекарств для кашляющего кровью ребенка, отцы набрасывались на стражей, отталкивающих женщин. Следовал короткий хлопок, один или несколько, черное дуло загоралось синими полосками, сходившимися к треугольной рукояти, человек падал на землю и мог только моргать. Дальше два варианта событий: поверженного оттаскивали либо к ветхим домам, либо в транспортник. Второе значило работу на полях, в шахтах и в итоге заканчивалось смертью. Поля забрали папу, хотя мама говорила, что он не нападал на богов.
Так близко я видела их оружие впервые: округлый приклад с выемкой сверху, оттуда явно что-то выдвигалось, треугольная рукоять тоже гладкая. Она плавно переходила к слегка выпуклой кнопке, на вид мягкой, податливой, размером с фалангу большого пальца взрослого мужчины. Над стволом проходило гнездо, в котором лежала тонкая стрела, там, где ствол примыкал к рукояти, располагалась колба с белой жидкостью. Я наклонилась ближе, мое любопытство привлекло внимание шлемоносца.
— Не двигаться! Физический контакт со Стирателями недопустим со стороны подопытных.
Видимо, их стоило называть Стирателями. Что же они стирали? Кровь с полов?
— Необходимо обработать раны! — гаркнул знакомый мне сопровождающий. Хотя утверждать, что именно он сделал инъекцию, я не могла, они ведь все на одно лицо. Точнее, на один шлем.
Я хихикнула.
— Шоковое состояние пройдет в ближайшее время. — Он надел мне на голову что-то наподобие сетчатой шапочки. Она завибрировала, по коже от бровей до основания шеи расползся холод. — Не верти головой, регенерирующий гель должен подействовать.
Лифт нес нас наверх. Шапочку сняли, когда прохладный бесполый голос сообщил: «Отсек А». Я потрогала лоб и макушку, убедиться в результате можно было, посмотрев в глянцевый шлем. Гладко, никаких следов процедуры. Понюхала пальцы — не пахли.
— А волосы отрастить он не может?
— Молчать!
Лифт дрогнул и поехал в сторону. Ковчег все больше пугал и удивлял. Меня трясло, я старалась не подавать вида. Я только что умерла и воскресла, хотелось кричать и плакать. Вообще сегодня я поставила личный рекорд по слезам, крикам и смене эмоций, терзающих меня. Паника сменялась храбростью, храбрость — жалостью к себе, жалость — тоской по дому, тоска — ужасом, ужас — совершенно глупым весельем. Новое состояние открылось мне вместе с дверями лифта.
Не знаю, что удивило больше — место, которое отныне придется называть домом, или то, что Магда тоже прошла все этапы распределения. Очередной огромный отсек с высоким сводчатым потолком трудно было назвать домом, в нем мог уместиться весь наш район. В пустом помещении жались к стенам девочки. Все бритые, отчего глаза казались огромными. Они пытались слиться с давящей пустотой, напуганные копии друг друга, мои собственные копии. В такой же бесформенной одежде: белоснежные брюки и рубашки с полукруглыми воротниками. Отчего-то появилось желание заглянуть в лицо каждой из них, может, даже обнять, почувствовать, как затравленно бьются их сердца. Никто не попытался разглядеть нового человека, девочки отвернулись к стенам. Все, кроме одной. Магда умела визжать как никто другой. Обычно она набирала предельную высоту вопля, когда ее мать возвращалась с ночной смены. Так она выражала радость. Магда обрадовалась мне, а я ей. Ей, проявляющей настоящие чувства и не умеющей врать. Магде, которая отталкивала Хану, чтобы встать поближе ко мне. Толкала и шипела, всем видом показывая, что не любит мою верную подругу. Протискивалась между нами и твердила: «Я, я, я». Ты, Магда, ты. Ты теперь моя связь между мирами. Я ударилась о черные спины, порыв броситься к Магде жестко пресекли. Кулак прилетел Магде прямо в нос, она отскочила, как от стены, потеряла равновесие.
— Следующая ты. — Кольцо сжалось сильнее, стены приближались. — Здесь приказы выполняются беспрекословно.
— Я не слышала ни одного толкового. — От обиды за Магду оцепенение прошло. Слова прозвучали скорее ехидно, чем храбро. Но мне и так понравилось. — Потрудились бы хотя бы, что ли.
Сердце билось уже не в груди, а на уровне горла. Взять бы да прыгнуть ему на шею, повалить, разбить непроницаемый шлем. Вместо этого я отупела от страха, говорила что-то несвязное, искренне надеясь, что выходит смело. Я приготовилась к удару, но его не последовало. Стиратель подвел меня к стене.
— Назови свое имя громко и четко.
— Яра Мёрфи.
Стена ожила. Выдвинулась узкая койка, обтянутая серой тканью.
— Как похожа на мою...
— Вот и чувствуй себя как дома. Разойтись! — приказал он остальным девочкам. — Скоро отбой.
Из-под дохлой подушки торчал планшет, я достала его, покрутила. Никогда прежде у меня не было собственного планшета. Постучала по экрану — никаких признаков жизни. Сопровождающие покидали зал, обувь чиркала по гладкому полу, они не смотрели на девочек, подбиравшихся ко мне. Тот, кто соизволил пообщаться, пнул Магду, с трудом поднявшуюся с пола, она снова упала, беззвучно, не сводя взгляда с отражения в шлеме. В тот момент я обожала ее: чуть косящие глаза полнились ненавистью, неподдельной, чистой.
Я подбежала к Магде, помогла подняться. Никто больше к ней не подошел. Девочки тихо говорили стенам свои имена. Выдвигались койки. Магда всхлипывала без слез, уткнувшись мне в шею. Совсем недавно ее густые каштановые волосы мать заплетала в две тугие косы от самого лба, чтобы не лохматились. Магда любила бегать, влезала в самые далекие и грязные углы района. Пара коротких клочков прежней шевелюры сохранились на лысой голове, они щекотали мне пальцы. Я гладила Магду и просила успокоиться, хотя меня саму колотило, эмоции, смазанные, неловкие, мешали дышать. «Мы справимся, я обещаю тебе. Мы вернемся домой, вот увидишь». В отличие от Магды, я умела врать, и эта ложь придавала сил.
— Здесь все по расписанию. — Кое-кто из девочек наконец подкрался к нам. — Он скоро включится. — одна из них указала на планшет, который остался на подушке. — Там появится номер нашей группы, режим питания, диета.
— Диета, — переспросила я, — даже так?
— Сказали следить за питанием, ни в коем случае не обмениваться едой с другими. Они узнают.
— И что будет?
— Будут кормить тебя внутривенно или всунут в рот специальную трубку.
— Нельзя опаздывать на занятия. И спать днем.
— И насчет душа — обязательно мойся утром и вечером.
Они говорили одновременно, очень тихо. Фраза про душ прозвучала громче всего.
— Не было времени, — сказала я, потерев щеки, на которых остались кровавые разводы. — А где душ вообще?
— На нашем этаже есть, туда тоже по расписанию. Нам определили два времени утром — в четыре тридцать, до начала занятий, или в восемь сорок пять, после завтрака. На водные процедуры отводят ровно десять минут.
— Но есть еще добавочные пятнадцать перед сном для каждой.
— Прекрасно. А сейчас сколько времени?
Девочки разом пожали плечами.
— Сегодня мы не мылись, после дезинфекции чистые. Удивительно, почему ты вся, — говорившая махнула рукой, оглядев меня, — такая.
— Вонючая? Меня вроде как забраковали, притащили с какой-то помойки.
Магда обхватила мои щеки, прижала лоб ко лбу, замычала. Она что-то понимала и тревожилась, но не могла этого выразить. Девочки переглядывались.
— Не может быть, — сказала одна из них, маленькая и костлявая. — Если бы тебя отправили на переработку, то сюда не привели бы, ты что-то путаешь.
— А ты все знаешь?
— Нет, откуда. Просто в правилах четко прописано: любая ошибка приводит к ликвидации. Ты говоришь, что тебя забраковали, значит, ты ошибка.
— Я вообще сплошная ошибка… — улыбнулась я, и неожиданно они все заулыбались.
Магда заржала и отцепилась от меня.
— Вот еще одна крупная их ошибка. — Я кивнула на Магду.
Стиратели не ворвались обратно, принуждая нас молчать. Можно было посмеяться, спрятать слезы и страх за общим смехом и сделать вид, что мы все принимаем судьбу.
Планшеты ожили одновременно, и девочки разбрелись к своим кроватям.
«Сегодня вам положен отдых. — Голос из скрытой системы оповещения облетел нас, мягкий, вкрадчивый. — Внимательно изучите распорядок дня и правила поведения. Напоминаем, любая ошибка ведет к ликвидации. С завтрашнего дня начинается обучение. Вливайтесь в жизнь детей Ковчега. Двигайтесь в правильном направлении, и вам откроются новые возможности».
Где-то я это слышала: «новые возможности». Ими всегда заманивают в ловушки. «Дети — это инвестиция в будущее», — повторяла мама. «Построй будущее сегодня», — читала я на грубых выцветших листках бумаги, сложенных в нашем туалете. Том объяснял, что когда-то у них было другое предназначение — вдохновлять людей к действиям. «Дети — высшая ценность государства. Здоровье детей — приоритетное направление». «Будь уникальным. Будь красивым. Будь будущим». «Измени себя сегодня». Я комкала эти бумажки, не обращая внимания на призывы. Раньше они влияли на людей, сейчас же их находили среди развалин, собирали, резали на квадратики и употребляли на пользу организму. Новые возможности хороши, когда они приносят пользу. На Ковчеге они полезны, но только не нам. И правила кричат об этом каждой буквой:
1. «Любая ошибка приводит к ликвидации» — они твердят это повсюду раз за разом, чтобы точно запомнили, своеобразная забота.
2. «Пробуждение — 04:00. Младшие дети должны следовать по коридорам строго в сопровождении Стирателей, выстроившись в ряд. Физические контакты между членами группы запрещены».
Выплывающие строки задерживались на пару минут и гасли.
3. «Водные процедуры: Ярус минус 8. Отсек АА2. Блок 03. Следовать по голубым линиям. На водные процедуры отводится пятнадцать минут. Тщательность мытья проверяется во избежание развития кожных заболеваний. За каждым членом группы закрепляется собственное место в общем душе, ежедневно выдается гигиенический набор. Обмен гигиеническими наборами запрещен. Использование душевых других возрастных групп и мужских душевых любой возрастной группы запрещено».
Замечательно, общий душ. Я же говорю, почти как дома, даже привыкать не придется. И даже лучше, чем дома, не будет вечно поглядывающего Макса. Я читала правила и комментировала вслух.
4. «Следовать к ярусу обучения младшие дети должны строго в сопровождении Стирателей, выстроившись в ряд. Лифтовый холл. Ярус минус 8. Отсек АА. Блок 01. Следовать по зеленой линии. Младшим детям запрещается зрительный контакт со старшими. Группы передвигаются в определенном порядке: сперва старшие мальчики, затем старшие девочки. После следуют в той же последовательности представители средних групп. Завершают — младшие. В общих лифтах необходимо пристегиваться сдерживающими ремнями. В случае нахождения в индивидуальном лифте каждый член группы обязан занять сиденье и пристегнуться. ВНИМАНИЕ: пользоваться индивидуальными лифтами разрешается исключительно в сопровождении Стирателей. Ярусы выше третьего запрещены для посещения детьми любых возрастов без особого распоряжения! Нарушение данного правила ведет к мгновенной ликвидации!»
Что же там выше третьего яруса? И сколько всего ярусов в Ковчеге? Как пробраться наверх и увидеть, какой Ковчег на самом деле? Правила, как им и положено, породили сотню вопросов и жгучее желание их нарушить.
— Яра, я. — Магда появилась неожиданно, я чуть не выронила планшет. — Я. — Она протягивала свой планшет мне.
— Не понимаешь?
— Читать. — Она потрясла планшетом, потом указала на припухшее лицо. — Спасибо.
Магда не хотела, чтобы ее били, она пыталась разобраться.
— Залезай, — подвинулась я на узкой кровати, Магда улеглась как можно ближе.
— Нельзя, — раздалось с соседней кровати.
Я показала язык в ответ.
— Вообще, она права, Магда. Вот тут в правиле номер два сказано: нам нельзя прикасаться друг другу. Я знаю, как ты любишь обниматься, и мы что-нибудь придумаем. Надо ходить друг за другом по светящимся огонькам, с нами постоянно будут те люди в черных шлемах. Постарайся их не злить, договорились?
Магда кивала.
— Они будут нас чему-то учить. Хотя чему нас с тобой можно научить? Мы же умом не блещем.
Магда хрюкнула.
— Пятое правило. Обучение: ярус нулевой. Отсек один — теоретические занятия. Отсек два — Пирамида. Целый ярус нам отвели, видишь. И пирамиду какую-то. Обучение проходит с пяти до семи ноль-ноль, с одиннадцати до пятнадцати ноль-ноль и с семнадцати до двадцати ноль-ноль. Опоздание к указанному времени влечет наказание. Три опоздания приравниваются к строгой ошибке. Так что, — я старалась говорить как можно веселее, — учиться придется по-любому. У нас дома учиться не любили, так тут заставят. Что еще? О, не обманули, кормить будут все-таки. Шестое правило: питание каждого члена группы производится строго по установленной индивидуальной диете. Нарушение диеты и попытка присвоить чужую еду считаются строгими ошибками. Нарушение порядка, в том числе разговоры в столовой, считается строгой ошибкой. Установленную диету вы узнаете после изучения данных правил. Вот бы картошки жареной давали! Вкуснятина! Когда ты последний раз ела картошку? Помнишь, золотистая такая, во рту тает.
Желудок заурчал. Магда пропела свое «Я-я-я».
— Пищу принимают: ярус минус восемь. Отсек АА. Блок ноль шесть. Завтрак в восемь ноль-ноль, второй завтрак в десять тридцать, ужин в шестнадцать ноль-ноль. Неплохо, совсем неплохо. Правило седьмое: отбой. На вечерние водные процедуры отводятся дополнительные пятнадцать минут в любое время с двадцати тридцати до двадцати одного тридцати. Приходить в блок для водных процедур в вечернее время младшие дети должны по пять — семь человек в сопровождении одного Стирателя. Отбой в двадцать один тридцать. После этого покидать спальный блок строго запрещено. Разговоры в ночное время запрещены. Ну да… Детское время, все по полкам. Магда, ты что, уже спишь? Потерпи, пара правил осталась.
Я пощекотала ее, отчего она радостно закопошилась, на нас зашикали.
— Правило восьмое: потеря или порча планшета считается строгой ошибкой. При переходе в среднюю возрастную группу планшет заменяется индивидуальным браслетом, содержащим биометрические и кодовые данные. Хочешь браслетик?
Магда быстро закивала.
— Правило девятое: в случае плохого самочувствия одного из членов группы остальные дети должны незамедлительно сообщить об этом Стирателям. Скрытие плохого самочувствия считается строгой ошибкой. Симулирование болезни считается строгой ошибкой. Ох, Магда, не знаю, что ты будешь делать, притворяться нельзя… Попытка пройти в медицинский отсек самостоятельно считается строгой ошибкой. А мы же помним, что значит ошибка?
Магда задержала дыхание.
— Правильно, ликвидация. Смерть, Магда. Но мы с тобой выживем, я обещаю. Не для того мы выдержали Церемонию, — я выплюнула это слово. — Не для того… — Я хотела сказать, не для того я выжила, но передумала. — Не для того мы обе здесь. Я обещаю тебе жизнь, Магда…
Девочки слышали мои слова. Мы плакали, переживания выплеснулись в тихие слезы. Мама однажды сказала, что настоящее горе тихое. Одиночество выжигало в нас дымящиеся раны, заполняло их горем и осознанием, что ничего не будет как прежде. Пусть наши дома унылы, бедны, а семьи не отличались добротой и привязанностью, мы хотели домой.
Буквы последнего правила расплывались.
— Хм… Магда, я даже не знаю, как тебе объяснить. Тут сказано… тут сказано, что у нас больше не будет имен. — Я быстро заглянула в планшет Магды, ее экран показывал то же самое. — Магда… — голос сорвался. — Слышишь, я больше не Яра, а ты не Магда.
Глаза Магды разбегались. Я обхватила ладонями ее лицо:
— Слушай и запоминай, иначе тебя убьют. Ты не Магда, ты теперь, — я смахнула правила с экрана, чтобы увидеть, — М-591. Я не Яра, смотри на меня, я — Х-011.
Девочки вокруг плакали.
— Повтори! – потребовала я.
Магда еле шевелила языком. Я заставляла ее повторять снова и снова.
— М-591, Х-011.
«Интересно, есть ли где-то другой мир, свободный от слез и страха, — думала я, засыпая. — Где нет Ковчега и нас тоже нет…»
Над кроватями светились наши новые обозначения — мы превратились в код.
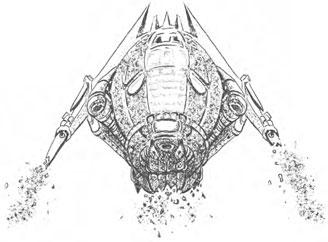
Глава 3
РАСПОРЯДОК ДНЕЙ
Иллюзии привлекают нас тем, что избавляют от боли, а в качестве замены приносят удовольствие.
Зигмунд Фрейд
Поесть нас не отвели. Пока мы не считались полноценными жителями Ковчега, ресурс на нас не растрачивали. Магда все время твердила свои буквы и цифры, запоминала. Она путалась, меняла цифры местами, я коротко поправляла, постепенно голос ее зазвучал глуше. Магда сползла с моей койки, пошатываясь, залезла на свою, планшет забыла. Я перевернулась на другой бок, продолжила изучать свой планшет. Должно же в нем быть что-то, кроме правил.
На гладком мягком экране обнаружилось несколько папок. Палец проваливался в едва ощутимый изгиб, папка открывалась. В них содержались схемы доступных нам ярусов, обозначение разных сигналов тревоги, ранги шлемоносцев: черные — Стиратели, зеленые — медицинский персонал, оранжевые — служба чистоты, отмеченные глазом с треугольным зрачком — какие-то наблюдатели. Последние два вида мне еще не встречались. Ковчег больше путал, чем давал ответы. В другой папке я нашла длиннющий список кодов, имена отсутствовали. Это дети, скрытые шифрами, — все, кто когда-либо попал в Ковчег. Стояла и конкретная дата: 08.01.2201. Первая проведенная Церемония и снова мое любимое число восемь. Некоторые коды алели, я решила, что это погибшие. Другие были прозрачно-серые. Я насчитала несколько выделенных жирным шрифтом, не более тридцати.
Пальцы устали листать бесконечный список, я вернулась на главный экран и полезла в папку в самом углу. «Декоративные дети» — гласило название. Что-то смутно знакомое... В нашей колонии ходила байка о том, что когда-то детей украшали, но не кольцами и сережками. Им заменяли природный цвет глаз, добавляли лишние позвонки для роста, что-то делали с ногтями, чтобы светились в темноте. Такие дети почти не болели, они считались новым витком развития человечества — совершенными людьми. Их было много, куда больше, чем простых людей, но природа взбунтовалась. Появилась какая-то страшная болезнь, и все украшенные дети заразились. Болезнь грозила перерасти в эпидемию, народ выходил на улицы, требовал лекарств и защиты. Декоративные дети погибли, остались обыкновенные. Так гласил первый вариант легенды. Его подавали с моралью: не нужно выделяться, живи и будь как все. Меня он устраивал, но мои братцы любили вторую версию. О том, что разбушевавшаяся природа не остановилась на болезнях и устроила Катаклизм невероятной силы, серию подземных толчков, извержений, гигантских волн, вычистила с поверхности Земли мутантов. А под конец устроила Взрыв прямо там, где позже сформировалась наша колония. Если бы не Ковчег, создание лучших умов и добрейших сердец, детей бы не осталось вовсе.
Я нажала на папку с надеждой узнать, какая версия ближе к истине. Она оказалась пустой. Я пошарила на кровати в поисках планшета Магды. Но на экране ее планшета подобной папки не было вовсе. Я приподнялась. Другая девочка лежала на расстоянии вытянутой руки. Она натянула покрывало на нос, виднелись только карие глаза и широкие брови.
— Эй, эй! Не отворачивайся. В твоей штуке есть папка «Декоративные дети»?
Она нырнула под одеяло. Я уже собиралась встать и проверить сама, но под одеялом тускло засветился экран.
— Нет.
— Жаль. — Что я еще могла сказать. Пустая папка действовала мне на нервы, но приставать к каждой девочке я не собиралась.
— Я теперь N-130, — сказала она, вернув одеяло на нос.
— Я Х-011. А она, — я указала через плечо на храпящую Магду, — M-591.
— Меня зовут Надин. — Одеяло чуть сползло. Я разглядела ее круглые щеки и красивые полные губы.
— Яра.
— Мне страшно! — Надин говорила, почти не разжимая губ, комкала одеяло, глаза блестели от слез. — Что теперь с нами будет?
Она всхлипывала. Ее слова звенели в ушах.
— Я не знаю. — Я не умела лукавить, я сама боялась следующего мгновения, не говоря уже о следующем дне. — Мы еще живы. Раз они присвоили нам такие сложные цифры, не пожалели планшетов, значит, мы им для чего-то нужны. — Я выковыривала из себя поддержку. — Я обещала Магде, что мы выживем. Хочешь, тебе тоже пообещаю?
Когда мама особенно сильно ругала меня, я умудрялась точно так же находить в себе силы, желая при этом умереть.
— Для меня ты всегда будешь Ярой. Не забывай, пожалуйста, я — Надин.
Свет отключили. Видимо, решили, что остаток дня нам лучше спать. Они оказались правы, зал погрузился в дремоту посапывающих носов. Я пялилась в планшет, боролась со сном, но в итоге поддалась усталости и впечатлениям. Засыпая, я обещала девочке напротив, что для меня она навсегда останется Надин. Как я умудрилась наобещать столько всего?
Утро началось с падения с кровати. Прозвучал сигнал побудки. Я перекувыркнулась через край узкой койки и встретилась с полом. Приземление отдалось шлепком — так шмякается со стола гнилой помидор. Я как раз чувствовала себя битым помидором, бока ныли. Магда уже ретировалась к своей кровати и старательно произносила имя и фамилию. Стены выдавали девочкам одежду на новый день.
— Назови код, — подсказал кто-то, Магда почесала лоб и тихо произнесла свои цифры.
Стена выплюнула полотенце и что-то вроде прозрачных туфель. Магда с силой потрясла руку помощницы и прибежала ко мне, держа полученное высоко над головой.
— Тебе нельзя трогать других, — напомнила я вместо доброго утра, — и меня тоже не трогай.
Над нами постепенно светлел потолок. Без окон мы не сможем узнать, какое сейчас время суток: наступил новый день или это все одно бесконечное вчера. И почему надо вставать в четыре утра? Я и дома вставала рано, но солнце хотя бы уже взбиралось на небо. А теперь ни неба, ни солнца, ни сна.
— Х-011. — Я поборола желание постучать в стену.
Помимо полотенца и странных туфель, в утренний набор входили нижнее белье, штаны и рубашка, маленький зеленый кубик с надписью «средство по уходу за ротовой полостью» и кубик голубой, чуть побольше — «средство по уходу за телом». Зубы чистить я не любила. Зубная паста считалась у нас дефицитным продуктом, приходилось выдавливать по крупинке раз в неделю, а я отличалась умением намазать на палец полтюбика. «Завидуй, Макс, весь кубик для меня одной. Твои короткие ручки не дотянутся до моего затылка».
Девочки выстраивались в ряд. Хотели попасть в душ в первую смену. Двери разъехались. Вошли четыре Стирателя. Они разделили нас: в душ отправилось двадцать человек, мы с Магдой среди них. Двое Стирателей впереди, двое замыкают. Коридор извивался, огибал какое-то большое круглое помещение. Я шла пятнадцатой или шестнадцатой, вертела головой. Стены и потолок коридора — соединение гибких металлических пластин, которые стыковались с некоторым наложением, — походили на чешую. Мы шли по вывернутой наизнанку змее. Учителя с Ковчега однажды рассказывали необразованным детям историю о том, как человека проглотил кит. Он спасся в одной из камер желудка или кишки, жил там, даже книжки читал. А нас съела змея. Чешуйки мерцали голубыми прожилками. Я протянула руку, прожилки оказались холодными и мягкими. Свечение чуть угасло от нажатия.
— Х-011, руки по швам!
...