автордың кітабын онлайн тегін оқу Милош и долгая тень войны

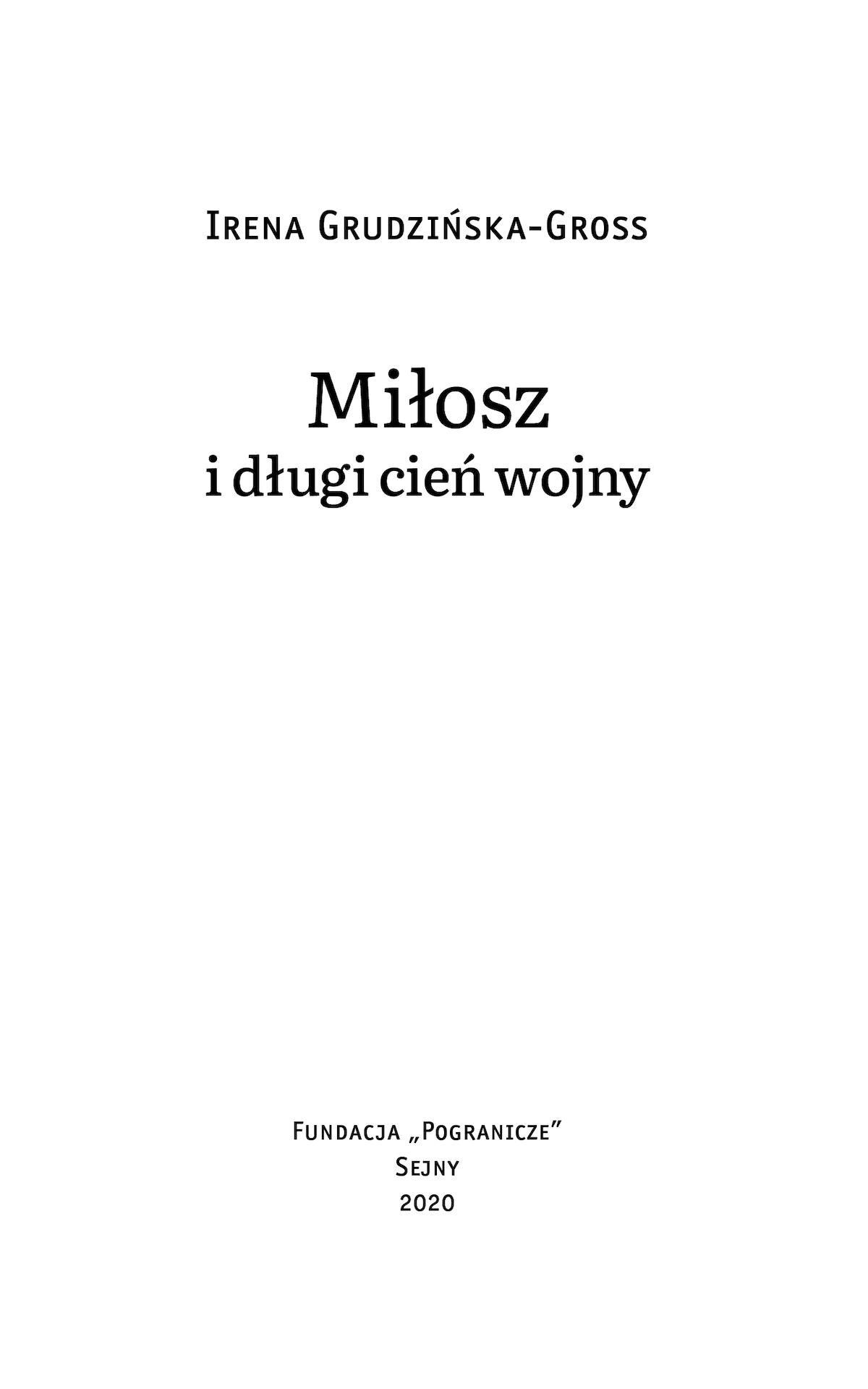
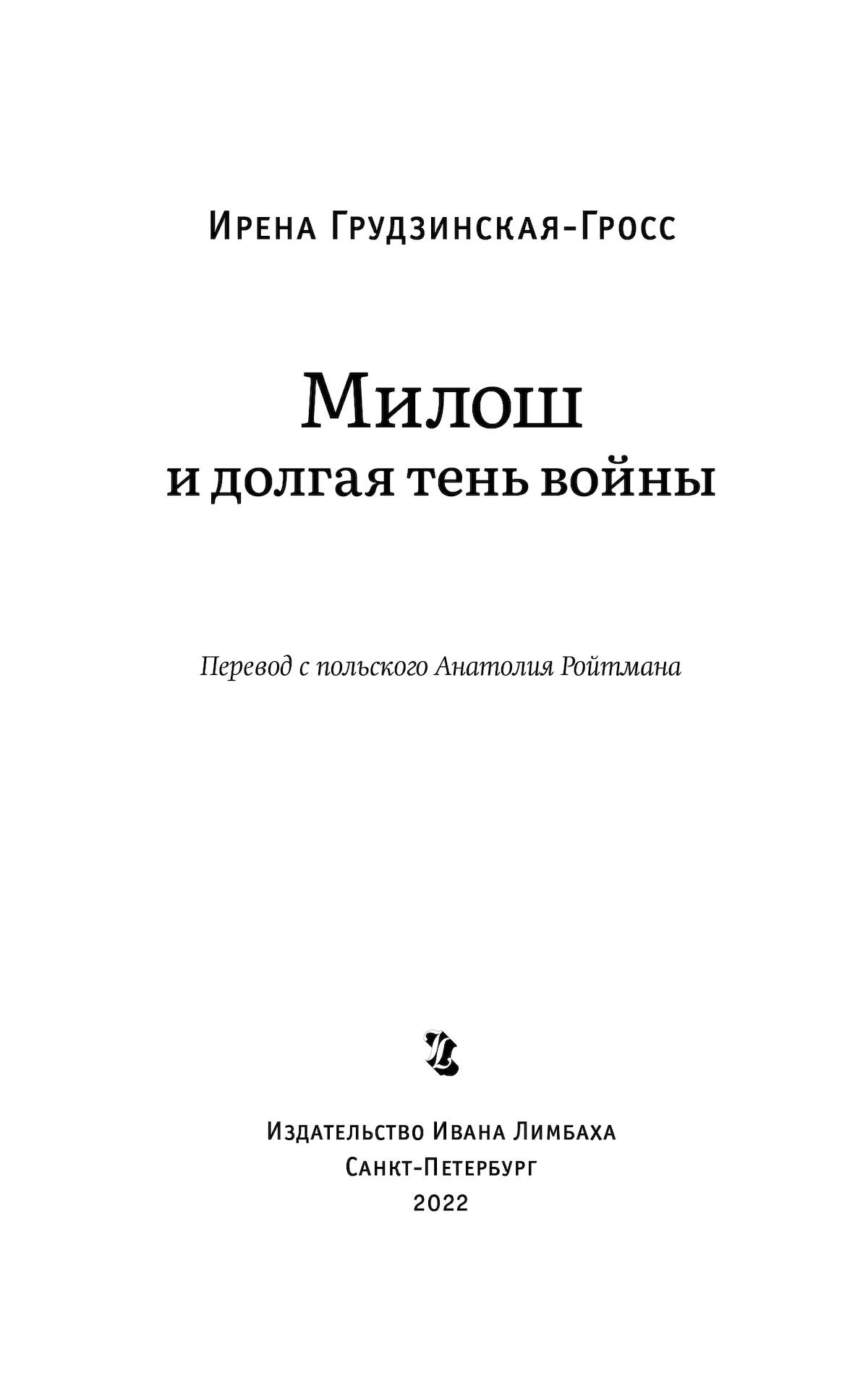
Благодарности
За критическое прочтение этой книги благодарю Иоанну Токарскую-Бакир и Яна Т. Гросса, ее рецензентов Алину Молисак и Марка Залесского, редактора Лукаша Галюсека и издателей Малгожату и Кшиштофа Чижевских.
Посвящаю ее моим детям Томеку и Магде с надеждой, что война, в тени которой они выросли, не пробудится вновь.
…с тех пор, как открылись мои глаза, я не видал ничего,
Кроме резни и пожаров, кроме лжи, униженья,
И смешного бесчестья гордыни.Чеслав Милош [1]
Народ, который не умеет существовать без страдания, вынужден сам себе его причинять.
Мария Янион
[1] Перевод А. Драгомощенко.
[1] Перевод А. Драгомощенко.
Введение
Если бы эта книга была картиной, то на первом плане мы увидели бы Чеслава Милоша на фоне грозного и мрачного пейзажа Второй мировой войны. Обрамление картины было бы, однако, вполне современным, может, даже злободневным, ведь война сейчас — в самом центре польской исторической политики. Взгляды и поступки Милоша подводят нас к темам, которые ежедневно обсуждаются в средствах массовой информации, появляются в городских граффити и на одежде спортивных болельщиков. История Второй мировой войны, представленная в учебниках девяностых годов минувшего столетия, сильно отличается от той истории, которую преподают в школе сегодня. Чуть ли не на наших глазах меняются ее герои и жертвы. Конфликт, относящийся к прошлому, становится все острей. Говоря словами Мирона Бялошевского, история нарастает [1].
После первоначальных скитаний Милош провел четыре года войны в Варшаве, где был важным участником культурного и интеллектуального подполья. Критически настроенный по отношению к государственным эмиграционным и военным властям, он не присоединился к Варшавскому восстанию. В своих более поздних текстах поэт неоднократно возвращался к этому решению. Писал он и о других аспектах войны, прежде всего об уничтожении евреев. Был голосом, который умел передать жестокость войны, не подменяя ее утешительным клише. Его оценка военных событий и действий отличалась от той, которую сегодня представляет официальная историческая политика. Это расхождение — одна из причин возникновения данной книги.
В 1979 году Милош писал Ежи Гедройцу: «Я всю жизнь не могу прийти в себя, ведь порядочный человек обязан был отправиться в варшавское гетто и там погибнуть». Порядочный человек — а Милош был порядочным человеком — этого не сделал. Скорее всего, тогда это не пришло ему в голову, так как не имело смысла. Война не имела смысла, не имела ни границ, ни правил. Ибо «ненависть войны к человеку безгранична, ее безумие убийства бесконечно, оно не в силах вынести ничего человеческого» [2]. К этому можно добавить, перефразируя Зигмунда Фрейда, что война с яростью бросалась на всё, что вставало у нее на пути, как будто после нее уже не должно было быть ни будущего, ни мира [3]. Рыцарство, солидарность, верность, отвага убивали. Мудрость и рассудок вызывали отторжение и даже презрение, спасать жизни было делом постыдным. Подобная переоценка ценностей стала ключевой проблемой военной судьбы Милоша.
Нынешняя общественная жизнь проходит в тени Второй мировой войны. Невыносимо трудная правда о жестокости военного насилия, унижении и моральном падении превратилась, если использовать выражение Марии Янион [1], в сказку о двух противниках, в своего рода черно-белый вестерн. Одних героев заменили другими, отбросив при этом основу прежней исторической политики — антифашизм. Его роль взяли на себя аисторический антикоммунизм и антилевизна. Такая замена способствовала усилению национализма и возрождению польского фашизма.
Жизнь и творчество Милоша показывают нам, как он справился с тяжелыми и многочисленными испытаниями века, в котором ему выпало жить. Им руководил рефлекс несогласия, неумение ходить строем, что сегодня особенно заслуживает внимания. Далекий от морализаторства, всегда во власти сомнений, он писал о своей борьбе, колебаниях и ошибках. Поскольку творчество Милоша в огромной степени автобиографично, я рассматриваю его стихи, романы, письма, интервью и эссе не только как литературу, но и как свидетельство, и даже репортаж. Я ищу в них описания конкретных событий, которые сформировали его интеллектуальное и чувственное восприятие насилия и страдания, а также размышления и выводы, какие он из этого опыта извлек. Ищу подсказок, как думать о насилии, присутствующем в нашей повседневности, и об угрозах, к каким оно ведет. Здесь Милош — мой проводник.
В книге я постоянно возвращаюсь к вопросу о воинской солидарности, о военном насилии и о судьбе евреев в творчестве Чеслава Милоша. Я давно занимаюсь его отношением к войне, и в основу этой книги легли некоторые из моих ранее опубликованных эссе (их список находится на с. 181 наст. изд.). Поводом вернуться к этой теме стало все более воинствующее национальное обособление и подчеркнутое восхищение романтическим идеалом социального поведения. Сопротивлению такому поведению на страницах этой книги покровительствуют Симона Вейль, Сьюзен Зонтаг, Казимеж Выка [2], Ежи Анджеевский, Ежи Гедройц и другие. Значительная часть книги посвящена Холокосту, центральной Проблеме (намеренно пишу это слово с большой буквы) Второй мировой войны. Этот вопрос — Холокост и антисемитизм — сегодня также становится все актуальнее.
Кроме того, книга представляет собой полемику с голосами многих расположенных к Милошу людей, в частности с Анджеем Франашеком [3] и Станиславом Бересем [4]. Ведь меня интересует дух истории, почти автоматическая цепочка положительных ассоциаций с войной: солидарность, братство, целомудрие, жертвенность, гордость, поступок. Я бы хотела освободить эти понятия от их романтической или рыцарской родословной, перенести их на гражданское лицо. Это нелегко, ибо Дух Истории, который у Милоша прогуливается и посвистывает [4], после короткого перерыва вновь ускоряет шаг. Да, история в самом деле нарастает.
[1] «Война нарастает» — цитата из Мирона Бялошевского. Цит. по: Janion M. Wojna i forma [Война и форма] // Płacz generała. Eseje o wojnie [Плач генерала. Эссе о войне]. Warszawa, 1998. S. 115.
[2] Janion M. Wojna i forma. S. 45. Это ее парафраз слов Анри Барбюса.
[3] Фрейд З. В духе времени о войне и смерти // Фрейд З. Собр. соч.: В 10 т. Т. 9 / Пер. с нем. А. М. Боковикова. М.: СТД, 2007. С. 34–60.
[4] В «Поэтическом трактате» он гуляет там, «где дым от крематория клубится / И где по деревням звонят к вечерне» (Горбаневская Н. Мой Милош. М.: Балтрус, 2012. С. 34).
[1] Мария Янион (1926–2020) — польский историк литературы, исследователь культуры XIX и XX веков. Философ, автор трудов о польской идентичности. Критик польских национальных мифов, польского культа войны, солдата, геройства. Критик расизма и антисемитизма. Здесь и далее примеч. пер.
[3] Польск. Andrzej Franaszek (р. 1971) — литературовед, биограф Чеслава Милоша.
[4] Польск. Stanisław Bereś (р. 1950) — современный польский поэт, литературный критик, переводчик и историк литературы.
[2] Казимеж Выка — польский критик и литературовед (1910–1975), много лет руководил Институтом литературных исследований Польской академии наук.
I. Насилие
Чеслав Милош принадлежал к поколению, пережившему крупнейшие европейские катастрофы ХХ века. Он родился в 1911 году в Российской империи, умер в 2004 году в Польше, в Кракове. «Мои первые воспоминания детства, — писал он в письме к Ежи Анджеевскому, — нескончаемые вереницы повозок на дорогах, забитых толпами беженцев, рев погоняемого скота, зарева 1914 года, революционный октябрь в России» [5]. Слова эти были написаны в 1942 году в оккупированной Варшаве, годом позже поэт записал похожее признание, на сей раз в стихотворении «Бедный поэт»:
…с тех пор, как открылись мои глаза, я не видал ничего,
Кроме резни и пожаров, кроме лжи, униженья
И смешного бесчестья гордыни.
(Перевод А. Драгомощенко)
Эти строки служат эпиграфом к данной книге, поскольку вопросы войны, насилия и унижения настойчиво возвращаются во всем творчестве Милоша. Значение этой темы кажется мне сегодня не меньшим, чем семьдесят семь лет назад. Стоит напомнить и другой эпиграф, слова, сказанные Марией Янион на Конгрессе польской культуры: «Народ, который не умеет существовать без страдания, вынужден сам себе его причинять».
Обе цитаты из Милоша неслучайно взяты из текстов, написанных в 1942 и 1943 годах в Варшаве, где поэт провел бóльшую часть войны. В 1943 году усилились преследования со стороны оккупационных властей, было подавлено восстание в гетто, а затем уничтожено и само гетто, то есть были истреблены тысячи его жителей и сожжена четвертая часть города. Вспоминая тот период, Милош назвал Варшаву «анусом Европы» [5]. Это момент перелома в его поэтическом творчестве, а также кристаллизации его позиции по отношению к гражданским обязанностям. «Перед поэтом, — писал он позднее, — независимо от того, в какой захваченной стране он проживал, но особенно в Польше, стояли две задачи: во-первых, не поддаваться отчаянию; во-вторых, стараться угадать причины тотального триумфа зла» (WW [6], 412). Поэт должен был также найти новый язык, а «новая поэзия — интеллектуальная и ироничная — суметь дать отпор жестокости и ощущению абсурда» (WW, 415).
В своих автобиографических текстах Милош отмечает, что на его формирование повлияли столкновения с насилием, которое свойственно не только природе, но и истории, творимой человеком. В «Долине Иссы», романе о своем детстве, он описывает всеядность природы, познает, что такое смерть и ее причинение. Страдание для него зло, а природа — страдание безвинное. Он пишет об этом в адресованном Тадеушу Ружевичу стихотворении «Unde malum» («Откуда зло»). О природе зла он рассуждает и в книге «Земля Ульро». Однако не буду поднимать эту тему. Здесь я займусь рассмотрением насилия, его форм и исторического контекста.
Тело
«Каждому ли из людей от рождения суждено страдать от насилия?» — пишет Симона Вейль в эссе о войне [6]. Я цитирую ее не случайно, влияние ее трудов на Милоша было огромным. В эссе, из которого взята цитата, Вейль исследует насилие в отношении тела. Сила обращает тело против него самого, делает его орудием пыток и в конце концов уничтожает, превращает в вещь [7]. История реализуется через тело и его движение во времени и пространстве. Присущий Милошу рефлекс несогласия, во многом определивший его жизнь, встроен в его тело, а не только в разум.
Поскольку сила отпечатывается в теле, ее трудно передать с помощью языка и даже на картине — обычно видны только ее последствия. Страдающее тело не может выразить того, что с ним происходит, оно извлекает из себя только крик, как монотонное «А» в стихотворении Збигнева Херберта «Аполлон и Марсий»:
голос Марсия
только кажется
монотонным
и состоящим из одной гласной
А
в сущности
Марсий
повествует
о неисчерпаемом богатстве
своего тела
лысые горы печени
пищевода белые ущелья
шумящие леса легких
сладкие холмики мышц
суставы жёлчь кровь и дрожь
зимний ветер костей
над солью памяти [8]
Этот внутренний пейзаж тела является описанием, а не нарративом: тут нет повествования, время остановилось, в нем ничего не происходит — страдание длится, сосредоточенное на самом себе. Визуальные сцены насилия, например в «Бедствиях войны» Гойи, страшные по своей сути, также не связаны между собой никаким нарративом: каждая из сцен самодостаточна, как если бы мир кончался именно на ней. Это выражают подписи под всеми восьмьюдесятью тремя офортами, которые Гойя создал в 1810–1820 годах и на которых изображены зверства наполеоновской оккупации Испании: «Невозможно на это смотреть», «Это плохо», «Еще хуже», «Хуже всего», «Варвары!», «Безумие», «Почему?» [9]. Здесь видна пропасть между насилием и смыслом; подписи являются восклицаниями, указывают на беспомощность языка. Боль и физическое насилие невыразимы на языке привычного общения, они прерывают контакт человека с миром значений. Разрыв затрагивает обе стороны, как страдающий, так и равнодушный мир [10].
Это не означает, что насилие с его пугающей вездесущностью не подвергалось анализу. Из многих определений нам подойдет здесь антропологическое описание насилия, так как оно сочетает в себе применение силы с преднамеренным унижением. Такое определение приводит Иоанна Токарская-Бакир в обзоре разнообразных форм насилия и их концептуализации. «Насилие — это спорное применение разрушительной физической силы с возможными смертельными последствиями, представляющее собой преднамеренное унижение одних человеческих существ другими». Это понятие негативное, редко используемое насильниками, «явно предназначенное для жертв и свидетелей» [11]. Насильники, как правило, изображают себя вынужденными обороняться жертвами. Сказанное в равной степени относится к психическим и символическим формам насилия, которые были повсеместно распространены во время войны.
В связи с возрастающим насилием — в 1943 году в Варшаве — Милош уходит в состояние предельной безэмоциональности.
Поражает масштаб разнообразных поэтик, использованных во время войны Милошем, — от просветительских, сентиментальных (знаменитая поэма «Мир») до современных, аскетических. Складывается впечатление, будто Милош ставил каждую из исторических эпох польского стиха перед лицом самых ужасных военных испытаний и «исследовал» их выносливость в экстремальных этических ситуациях [12].
Это не безразличие и не технические упражнения — это попытка самозащиты. Во время войны, говорит Милош, сосредоточенность на форме была спасением.
Это была операция аутотерапии, согласно следующему рецепту: если всё в тебе — дрожь, ненависть и отчаяние, пиши предложения взвешенные, совершенно спокойные, превратись в бестелесное создание, рассматривающее себя телесного и текущие события с огромного расстояния [7].
В зрелых военных стихах, тех, которые Милош писал с 1943 года, видны многочисленные попытки описать насилие, не глядя ему прямо в глаза. В первой части стихотворения «Бедный христианин смотрит на гетто» мы видим акцию уничтожения, ее сила направлена против вещей; человеческая субъектность, человеческие тела уже под землей. Насилие по отношению к телу совершает здесь природа: тела, а точнее, их части пожирают насекомые. Повторяемость действий ненасытных насекомых, акцент на них выводят стихотворение за пределы морали. Жестокость природы, хотя и ужасна, не принадлежит к универсуму человеческих ценностей.
Если, однако, мы присмотримся пристальней к этой оргии уничтожения, то увидим в ней погром или мародерство после погрома:
Не выдерживает бумага, резина, шерсть, мешковина, лен,
Материя, хрящ, клетчатка, проволока, змеиная кожа…
(Перевод С. Морейно) [13]
На это указывает и один из вариантов названия. Первоначальное, как и во многих других стихотворениях цикла «Мир (Наивная поэма)», название состояло из двух слов — «Бедный христианин». Вероятно, Милош заменил его на «Бедный христианин смотрит на гетто», опасаясь, что стихотворение не будет понято так, как он задумал. Через год после появления стихотворения в печати, возможно, на основе одного из бытовавших вариантов, название будет расширено: «Бедный христианин смотрит на резню в гетто» [14]. Но автор последнего варианта — не Милош.
Вторая часть стихотворения касается вопроса о моральной ответственности «прислужников смерти / Необрезанных». Субъектность, хотя и рассматриваемая безлично, однозначно приписывается человеку. А когда насилие совершается, его сопровождает молчание, как и в другом стихотворении того же периода, «Campo di Fiori». Охваченный огнем Джордано Бруно не кричит, не издает ни звука. Молчание отделяет его от мира. Если подвергаемое пыткам или умирающее тело и издает какой-то звук, то это «вой» еврея, всю ночь умирающего в глиняной яме (из «Поэтического трактата»), либо «заунывный плач» заключенных в вагонах, проезжающих по «Окраине» (из сборника «Спасение» («Ocalenie»)). В обоих случаях перед лицом смерти из этих людей извергается не человеческий, а звериный голос, язык страдания, не знающий слов, уже цитировавшийся «рёв погоняемого скота». Словно страдание выводило их за пределы человечества и переносило в другой мир. Не нам (равнодушным) был адресован их зов.
Мать
В польской литературе образ матери часто становится образом страдания. В стихотворении «Подготовка» (1984) рассказчик долго собирается написать «большое произведение»,
В котором мое столетие явится, каким было.
Но он все еще медлит:
Нет, это будет не завтра. Лет через пять, десять.
Всё ещё много думаю о занятиях матерей
И о том, что такое рожденный женщиной человек.
Сворачивается в клубок и голову прикрывает,
Под пинками тяжелых сапог; горит пламенем ясным,
На бегу; бульдозер его сбрасывает в липкую яму.
Её дитя. С медвежонком в объятьях. В наслажденье зачатый.
Не научился еще говорить я, как надо, спокойно.
А гнев и жалость вредят равновесию стиля.
Насилие показано в этом стихотворении как последовательность образов, чуть ли не кадров; нас поражает взгляд матери, которая в каждом страдающем видит ребенка, ребенка, по своей природе беззащитного и невинного. Образ матери как знак боли появляется во многих текстах Милоша, в том числе в его книге о Варшавском восстании «Захват власти», по мнению Стефана Хвина, написанной с «женской точки зрения» [15]. «В „Захвате власти“ удивляет постоянное присутствие „матери“, которая неоднократно появляется в различных ипостасях и обычно сталкивается с миром смертоносных мужских принципов» [16]. В стихотворении о Тадеуше Гайцы «Баллада» (1958) также появляется образ его матери, Ирены Гайцы. Верная памяти сына, она возвращается с кладбища и смотрит на город, в котором жизнь течет своим чередом, уже без него [17]. Боль матери — это протест против насилия, против традиционных способов изображения матери, гордящейся сыном, готовым принести себя в жертву на алтарь Отечества. Милошу ближе точка зрения Марии Янион, которая утверждает, что в «Дневнике Варшавского восстания» Мирона Бялошевского «мать — воплощение гражданственности» [18]. Пожалуй, именно гражданственность имел в виду Стефан Хвин, когда говорил о «женской точке зрения».
Вера
Именно своей матери Милош обязан религиозным воспитанием, католицизм стал частью его польско-литовской идентичности. Далеко не во всем согласный с требованиями католической ортодоксии, перед смертью он написал письмо Иоанну Павлу II с просьбой подтвердить, что он был хорошим католиком. Тем не менее, говоря о началах христианства на территориях «родной Европы», Милош видит главным образом насилие. Религиозных миссионеров он представляет жестокими захватчиками, «похожими на танки и носящими поверх брони белые плащи с черными крестами» [8]. «Эпопея христианского миссионерства, — продолжает он, — была в основе своей эпопеей убийств, насилия и бандитизма, а черный крест надолго остался символом бедствия хуже любой чумы» [9]. Эту точку зрения и симпатию по отношению к насильно христианизированным «благородным дикарям» Милош приписывает книгам, прочитанным в детстве, «когда формируется психика. Из прочитанного тогда, — пишет он, — мы вынесли абсолютно инстинктивное отвращение к насилию, какая бы идеология его ни маскировала, а также известное сомнение в правоте цивилизаторов любого разбора» [10].
Таким образом, Милош был глубоко убеж-ден в колонизационном характере христианства в языческой Литве. Осознание этого может частично объяснить его манихейский отход от католической ортодоксии и интерес к пацифизму в буддизме. В беседе с Иренеушем Каней Милош говорил, что его поэзия и мышление содержат «очень сильные буддийские элементы, а причиной тому отзывчивость к боли мира…» [19] Этот интерес был очень интенсивным во время войны, когда благодаря переводам Леопольда Стаффа Милош познакомился с поэзией Востока.
Именно во время Второй мировой войны Милош в поисках объяснения «триумфу зла» выходил за пределы христианства. Буддизм был для него примером «объективной мысли», то есть «видения действительности такой, какая она есть» [20]. «У Милоша, — пишет Каня, — оно проявляется в стремлении к „объективной поэзии“, переламывающей солипсизм, чуму современной поэзии». Такая позиция нашла выражение в «наивном реализме» написанного в оккупированной Варшаве цикла «Мир (Наивная поэма)» [21]. Милош понимает буддизм как религию, которая призывает внимательно смотреть на мир. И лишь потом приходит сочувствие. В своей поэзии он колеблется между отстраненностью («черствостью сердца») и всеохватным состраданием.
[5] Фьют А. Беседы с Чеславом Милошем / Пер. А. Ройтмана. М.: Балтрус-Новое издательство, 2006. С. 218.
[6] Вейль С. Формы неявной любви к Богу / Пер. П. Епифанова. М.: Квадривиум, 2017. С. 158.
[7] Там же.
[8] Херберт З. Аполлон и Марсий // Херберт З. Обновление взгляда / Пер. А. Ройтмана М.: ОГИ, 2018. С. 275.
[9] Sontag S. Regarding the Pain of Others. New York, 2003. S. 44–45. (Русский перевод: Сонтаг С. Смотрим на чужие страдания. М.: Ad Marginem Press, 2013.) См. также: Benfey C. Introduction [Введение] // Weil S., Bespaloff R. War and the Iliad [Война и «Илиада»] / Transl. M. McCarthy. New York, 2005. S. XI.
[5] Милош Ч. Легенды современности: оккупационные эссе. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016. С. 235.
[6] Список сокращений см. на с. 182–183 наст. изд.
[7] Милош Ч. Легенды современности. С. 440.
[8] Милош Ч. Родная Европа / Пер. К. Старосельской и др. М.: 2011. С. 17.
[9] Милош Ч. Родная Европа. С. 17.
[10] Милош Ч. Родная Европа. С. 18.
[21] Ibid.
[20] Ibid.
[15] Chwin S. Czesław Miłosz wobec powstania warszawskiego [Чеслав Милош о Варшавском восстании] // Teksty Drugie. 2011. № 5. S. 73.
[14] В издаваемом в Лондоне журнале «Nowa Polska» (1946. Том 6, тетрадь 3, с. 145). См.: Bem P. Dynamika wariantu. Miłosz tekstologicznie [Динамика варианта. Милош текстологически]. Warszawa, 2017. S. 139–140.
[13] Лаура Кверчоли-Минцер обращает внимание нa подобное перечисление в стихотворениях Владислава Шленгеля «Вещи» («Rzeczy») и Зузанны Гинчанки «Non omnis moriar». См.: Quercioli Mincer L. Dwa wiersze z Szeolu. Zagłada Żydów w okupacyjnych tekstach Czesława Miłosza [Два стихотворения из Шеола. Уничтожение евреев в оккупационных текстах Чеслава Милоша] // Rodzinny świat Czesława Miłosza [Родной мир Чеслава Милоша] / Red. T. Bilczewski, L. Marinelli, M. Woźniak. Kraków, 2014. S. 183–193.
[12] Matywiecki P. Portrety. Czesław Miłosz (1911–2004) [Портреты. Чеслав Милош (1911–2004)] // Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968) [Польская литература о Катастрофе] / Red. S. Buryła, D. Krawczyńska, J. Leociak. Warszawa, 2012. S. 238.
[19] Kania I. Czesław Miłosz a buddyzm [Чеслав Милош и буддизм] // Dekada Literacka. 2011. № 1–2. S. 82.
[18] Janion M. Wojna i forma. S. 91. Алина Марголис-Эдельман говорила, что в гетто самой тяжелой была судьба матерей. А Анна Павелчинская именно «Матерям» посвятила свою книгу «Wartości a przemoc. Zarys socjologicznej problematyki Oświęcimia» [Ценности и насилие. Очерк социологической проблематики Освенцима]. Warszawa, 2004 (первое издание 1973).
[17] К слову сказать, сам Гайцы написал исполненное предчувствия смерти стихотворение «Прощаясь с матерью» («Żegnając się z matką»). См.: https://polskapoezja.com/gajcytadeusz/zegnajac siezmatka/
[16] Ibid. S. 75.
[11] Tokarska-Bakir J. Antropologiczne teorie przemocy 1980–2011 [Антропологические теории насилия 1980–2011] // Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku [Антиеврейское насилие и контексты погромных акций на польских землях] / Red. K. Zieliński, K. Kijek. Lublin, 2016. S. 21–46.
[10] Scarry E. The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World [Тело, испытываюшее боль: создание и разрушение мира]. Oxford, 1985.
II. Гражданское лицо в оккупированной Варшаве
Война, или Ножницы
Поскольку война — экстремальный социальный опыт, в литературе она ищет экстремальной образности. А также высочайшего морального тона. Здесь наиболее широко раскрываются ножницы противопоставлений: добро — зло, наш — чужой, честь — позор, верность — предательство и, конечно, солдат — гражданское лицо. Противопоставленные категории абсолютизируют различие, поскольку в основе их разделения лежит пара «жизнь — смерть». Хотя война осязаемо реальна, эти понятия выступают на уровне сверхреальном: не каждая смерть противопоставлена жизни, смерть в сражении может означать вечную жизнь, посмертную жизнь в славе. Честь, рыцарство связаны с братской дружбой, преданностью, величием, славой. Военные гимны изобилуют подобными словами.
Эти понятия не отображают военную реальность, они лучше всего подходят для описания рыцарских турниров. И уж точно не годится они для описания войн ХХ века, когда насилие становится массовым, анонимным и случайным. Война милитаризирует всё, даже такие слова, как «мать». В гитлеровской Германии, в странах, охваченных милитаристским безумием, матери получали ордена за рождение будущих солдат [22]. Массовый и едва ли не промышленный характер резни Первой и Второй мировых войн даже величайшую победу превращал в поражение. Сверхреальность подобной лексики допускала и обратную метаморфозу: поражение могло обернуться моральной победой. Польская история знает немало подобных утешительных превращений.
Город конца света
Поэт трижды жительствовал в Варшаве, и все три пребывания в столице оказывались неудачными. В автобиографических записках и в интервью Милош называл первый период, 1931–1932 годы, позором, второй, с 1937 по 1939-й, — бесплодностью, а третий, 1940–1945, — кошмаром.
Два первых пребывания в Варшаве были связаны с виленскими хлопотами. Академический год 1931/32 Милош провел в Варшаве, чтобы избежать сложнейшего экзамена по налогообложению и статистике в Виленском университете. Но в Варшавском университете ему пришлось так же нелегко, и, вспоминая этот период, Милош использовал лексику, которая обычно относится к делам войны.
Разумеется, в моей биографии есть позорные моменты. Для меня этот год в Варшаве относится к позорным. Провалить экзамены казалось мне столь страшной трагедией и столь страшным унижением, что я никогда не вспоминал об этом в своих книгах, хотя это не тот позор, от которого нельзя оправиться в течение всей жизни (смех). Теперь я могу говорить об этом варшавском годе спокойно. Я был просто измучен, совсем без денег, неслыханно беден [23].
Милоша уволили с виленского радио, а в 1937 году он перешел на службу в редакцию Варшавского радио. Жил на улице Дынасы, на работу ездил на площадь Домбровского. На сей раз денег ему хватало, но пришлось тянуть лямку на тяжелой и скучной работе. Эти годы он считал бесплодными. Лишь война освободила его от мучительно однообразного труда. И ввергла в ад.
Начало Второй мировой войны застало двадцативосьмилетнего Милоша в столице. Благодаря своей работе 5 сентября 1939 года он вместе с другими сотрудниками радио выехал в направлении Люблина, чтобы развернуть военную радиостанцию в Барановичах. Когда стало понятно, что из-за хаоса и тотального коллапса открытие радиостанции невозможно, он вызвался перевозить звуковую аппаратуру к линии фронта. Эта задача также оказалась невыполнимой. Из Люблина его отправляют во Львов, затем он безуспешно пытается вернуться в Варшаву. Вместе с другими работниками радио эвакуируется в Бухарест, оттуда прорывается в Вильно: литовский паспорт или литовский проездной документ, который ему в этом помогает, становится частью «черной легенды Милоша», причиной для обвинений его в предательстве [24]. В августе 1940 года Милошу удается наконец вернуться в Варшаву. Он проведет там всю войну.
То, что характеризовало ее начало, особенно слабость государства и коллективное дезертирство элит [25], включая правительство, навсегда подорвало доверие поэта к военным властям.
В разное время Милош называл Варшаву то великолепным «неистовым городом», то городом жестокого равнодушия. Во время войны и после он пишет о ней по-разному. Написанная в годы войны пьеса «Пролог» (1942) заканчивается гимном в честь Варшавы:
Слава, столица, слава, столица,
Стойкость и доблесть тебя спасут.
Вихри огромные будут кружиться,
На крыльях имя твое понесут.
(WCT, 692)
Сразу после войны, в сентябре 1945-го, в статье «Варшава ранней осени
