Евгений Тимофеевич Рекушев
Осколок истории
Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»
Редактор Александр Владимирович Цовма
© Евгений Тимофеевич Рекушев, 2018
Стремление выделиться всегда ведет к конфликту. Умные не нужны никому, если их нельзя запрячь.
Но умные ломаются не всегда, иногда они творят историю.
16+
ISBN 978-5-4493-1674-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Оглавление
- Осколок истории
- Об авторе
- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
- О ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ
- ДЕТСТВО
- ОТРОЧЕСТВО
- ЮНОСТЬ
- МУЖЕСТВО
- СТАРОСТЬ
- ЧАСТЬ ВТОРАЯ
- Вступление Экономика Политика Приложение Выводы Эпилог ВСТУПЛЕНИЕ
- ПОЛИТИКА
- О-О-О…
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- СОЦІАЛЬНИЙ УСТРІЙ І СУСПІЛЬНІ СТАНИ
- ВЫВОДЫ
- ЭПИЛОГ
- Вступление Экономика Политика Приложение Выводы Эпилог ВСТУПЛЕНИЕ
книга первая
проза
2007
Об авторе
Я хотел бы обратить Ваше внимание на пять маленьких книжечек, написанные с молодым задором, хотя автору перевалило далеко за 60 лет. Это его первая проба пера и, очень надеюсь, не последняя. Не каждому дано в этом возрасте впервые перешагивать через длинные интервалы времени и заставить себя, отбросив в сторону нашу человеческую лень, хоть на пару часов в день, присесть за письменный стол. И, несмотря на их, несколько наивный стиль, оригинальная трактовка привлекает своей чистотой слога и правдивостью изложения. Прочитав, очень хочется верить пережитому и написанному. Хотя…
Отдаю должное скорости создания этих произведений. Ему, почти слепому, на ощупь, понадобилось всего месяц работы за компьютером, чтобы донести до нас эти осколочные сведения истории его памяти. С чувством мягкого юмора изображены вехи его исторической мозаики жизни, описанные в первой книге, а юмор и грусть в следующих книгах, возвращает нас к ее обыденности. Да, он еще не писатель, но политические события не прошли мимо него и я, откровенно сообщаю, что на его стороне.
Мне не хочется проводить глубокий анализ его труда. Еще очень и очень рано. Но надеюсь, прочитав эти книги, вы сами получите удовольствие от заочного знакомства с этим автором. Что касается других его произведений — рассказов и поэзии — трудно выделить или оценить, что-либо отдельно. Мне кажется, что стихи написаны чуть ли не для каждого возраста, хотя иногда заметна натужность в их создании. Но любой читатель может выбрать что-то для себя, на свой вкус. Однако думаю, что это не Есенин или Пушкин, а тем более не Маяковский, но что это самобытный Рекушев, отметил точно. Я не критик, что бы разложить по полочкам его труд и это его право донести до нас свои мысли.
Интерес представляют собой его рассказы, как фантасмагория мыслей, по-видимому, действительно навеянными безумными снами. Заметно, что фантазии автору не занимать. Лично я очень хотел бы дождаться продолжения творчества этого подающего надежды, почти «молодого», автора. Удивлен, что он в сборник не включил свои лучшие, на мой взгляд, рассказики, и с которыми он меня ознакомил. Они представляли особый интерес и скорее всего это новеллы, а не рассказы.
А, может быть, он готовит новую книгу? И даже, если продолжение его творчества не будет напечатано, я с радостью и шуткой скажу всем своим коллегам и знакомым: — я первый, кто прикоснулся к этому, только родившемуся роднику мысли и чувств.
С уважением,
Доктор филологических наук, академик
Анатолий Яковлевич Опрышко.
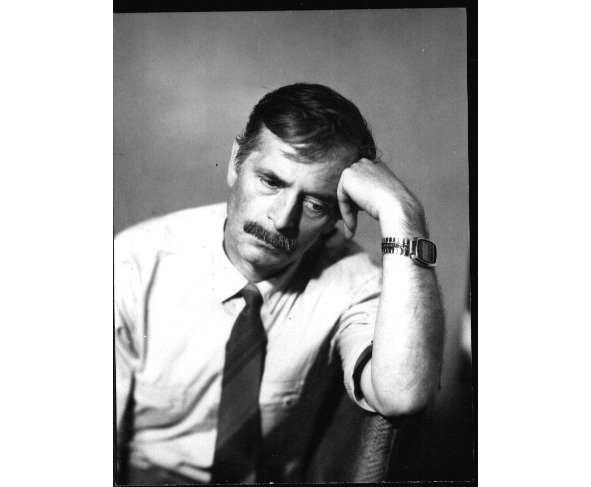
Осень прошла, и зимы вновь начало,
холодом снежным морозит мне рот.
Времени мне, как всегда, не хватало,
чтоб раскрутить все наоборот.
А дни улетают из жизни как птицы,
и нет молодой, и задорной любви,
но стыдно не стало, за эти страницы,
в написанной мной, этой книге судьбы.
Усталость от жизни, как нечто иное,
чем жабы прыщавой, сидящей в груди.
Я выплеснул вам все свое дорогое-
все то, что осталось давно позади.
Что-то поверхностно, что-то наивно,
личные тайны рассказаны мной.
Но я улыбаюсь с ухмылкой невинной:
прожита жизнь? Ну и бог с ней, с судьбой.
С любовью к Вам! Е. Т. Рекушев
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
.ПРЕДИСЛОВИЕ
О ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ
Наконец я зашел в редакцию компьютера, и могу высказать все, что хочу. Бессловесное и единственное устройство, которое молча принимает от меня информацию и так же молча отвечает мне печатными знаками, не критикуя меня и не вмешиваясь в ход моих рассуждений. Самое большое горе для меня, даже не горе, а так, обида, за то, что оказался в хвосте событий. Во-первых, вся моя жизнь была направлена на осуществление только общественных проблем и желаний. Однако впоследствии судьба распределила эти проблемы несколько по иному. Во-вторых, рождение детей поставило меня в положение должника. Я должен всем. Должен матери за рождение, должен жене за детей, должен детям за их присутствие в моей жизни, должен государству налогами даже за то, что вообще существую. И нет того, кому я не должен. Почему я всем должен? И где тот, который должен мне. Эй, где ты! А его нет! Не отвечает. Меня прорвало. Всю жизнь я старался жить честно и праведно, а получилось как у всех. Меня всегда тянуло создавать что-то новое, собирая мозаику из разных деталей существования. Я хотел создать то, чего у других нет. Семья и государство, забрав мои желания, изъяли у меня это право. Я перестал смотреть в будущее. Стал обычным сморкающимся обывателем и обозревателем, без желаний и стремлений. Нет деталей мозаики а, следовательно, нет и возможностей создавать что-либо. Любимая жена постоянно искала во мне этакий постамент, который ей, наверное, и был нужен, и на который она могла бы опереться. Ни у кого, ни разу не было попыток найти во мне человека, который был бы и ей, и детям, и обществу родственной душой. И эта обида на жизненные парадоксы постоянно сопровождала меня, вот почему меня прорвало, и спасибо бездумной машине, которая молча воспринимала меня и давала возможность изливать свою душу в мелкую мозаику букв, слов, предложений, не мешая мне, и не поправляя меня. По сути дела, я стал обычным осколком прошедших событий, а, следовательно, и осколком истории. Понимая, что это последние вздохи моего разума, я и решил выплеснуться в этом опусе и приоткрыть занавеску той жизни, которую прожил, и с которой меня связывала пуповина воспоминаний. Конечно, я сказал далеко не все, и отнюдь не претендую на определении моего труда как некий шедевр мирового или местного масштаба и то, чем я с вами поделился, несколько личные всхлипы сердечной деятельности под слоганом — поплачем и посмеемся вместе.
У литературного критика, не помню фамилии, прочитал следующее: каждый пытается сочинять и писать. Умную книгу пишет не всякий. Это классики. А остальные домашние писаки пишут одну книгу. Всю жизнь. И то, лишь о себе и своей жизни. Издав ее, радуется, а на вопросы, ну как, ответа не получает. Наверное, это касается и меня.
Тем не менее, я попытался мелкий свой труд разделить на две книги. В первой книге и в первой ее части определен кусочек моего жизненного пути и личные заметки о событиях, как листки, опавшие с древа истории. Во второй части отражены политические и экономические наблюдения, а так же рассказы. Во второй книге — поэзия души. В ее первой части — армейские первые шаги, во второй части — стихотворения моих лет, после 60-ти, а в третьей части книге — смешинки. В четвертой части книги — тоже стихи. В пятой — баллады.
Очень хочется, чтобы попытки мои найти с вами душевный контакт, не приняли вид или насмешки, или осуждения. Не понравится — закройте сей фолиант и в костер. И вам хорошо и мне спокойно.
Ну, а если вам все-таки хватило терпения, времени и мужества, и удалось прочитать мой «бестселлер» до конца, начните снова читать мои стихи с начала и вам станет намного легче от сегодняшней жизни
Привет!
P.S. (Откровенно признаюсь, удивительно, но во снах я писал столько сильных и прекрасных стихов, а утром они бесследно исчезали, не оставив даже строчки в моей памяти.)
ДЕТСТВО
Пожалуй, начну свое повествование шуточной формой, поскольку до начала своего рождения о себе мы ничего не знаем и не можем ничего знать. Тем не менее…
Ах, как приятно, и в то же время тоскливо, вспоминать свое детство. Первые часы деятельности полушарий мозга. Темно, тесно и ужасно сыро. Болезненные толчки вне меня, и еще эта веревка из пуза, которая держит меня. Фу! Наконец-то свет. Эта старая тетка с марлевой повязкой на лице больно шлепает меня по попочке, отрезая держащую меня пуповину, и я вынужден отстаивать свои конституционные права на свободу криком возмущения. Слава богу, мне затыкают рот чем-то сладким и липким, и я засыпаю. Это как ностальгия о прошлом. Смеешься над тем, что ушло и грустишь о том, что уже не свершится. Рождение, когда плод вынашивается 9 месяцев, и неизвестно, что выйдет из этого малька, брошенного в океан этой суровой жизни. И детские годы, когда еще не созрел мозг из нескольких извилин, ожидающий новой информации, чтобы расти в объеме. И отрочество, когда уверен, что все знаешь. И период времени, когда без оглядки, работаешь как вол, создавая ячейку общества — свою семью с последующими потомками. Надеешься на свою, благодарную тебе за твой труд «любимую Родину», в последние годы своей жизни, перед переходом в мир иной. И она «заботится» о тебе, еле передвигающим ноги, пенсионной подачкой, и обижающимся на притеснения от когорты людей, наделенных властью. Людей, которых сам же и выбираешь для защиты и поддержки твоей старости. И эта старость, когда думаешь уже не о себе, своих детях и внуках, а о бесконечности бытия, и вспоминаешь о прожитых тобой днях, месяцах, годах, веках и, анализируя свой пройденный путь, вдруг осознаешь, как мало ты знаешь. И радуешься от души, что из твоей пенсии, которой едва хватает на хлеб и воду, отнимают больше половины на фиктивные коммунальные услуги и смеешься от души, вспоминая старую притчу о короле, который спрашивает у своих сатрапов, что делает народ после повышения налогов? — плачут, отвечает визир. Добавляйте налоги, говорит король, у них еще есть деньги, а через время спрашивает, — ну, что делают люди, и снова ответ: — плачут, повелитель. Добавляйте налоги, требует правитель. Что делает народ, спрашивает король? смеется, о мой повелитель, отвечает визир. Хватит повышать налоги. У них больше ничего не осталось. И мы все хором уже смеемся над Богословскими и Азаровыми, Тигипко и Шуфричами, Ефремовыми и Чечетовыми и пр. составом великой Рады, над этими королями, визирями и сатрапами нашей Украины. С горечью про себя добавляем: — чтоб у вас лопнул мочевой пузырь, и моча ваша принесла пользу земле Украины, изгаженной вами и уже трудно восстанавливаемой. От вашей каловой консистенции и гнилой конституции, созданной для вашего же депутатского больного «большинства», защищающего депутатские карманы и мешки награбленного от нашего «меньшинства», образующего, якобы, народ Украины, как государство. Не дай бог еще раз пережить нашествие голубых ПР-дунов на нашей земле.
300 лет нахождения под татаро — монгольским игом не принесло такого уничтожения стариков и молодежи в нашей стране. Из 52 миллионов жителей Украины в 19 столетии, сегодня, в 20-м столетии осталось 42 миллиона. Я уже не говорю за бандитский налет власти на стариков повышением тарифов на коммунальные услуги. Более циничного отношения к народу мне не приходилось видеть. Даже варвары не брали больше десятины дани с многострадального народа. А сейчас один только подоходный налог с граждан уже составляет 15%. А всего их больше ста…
Дорогой премьер. Мне смешно. И я даю тебе шанс избавиться от правды, убрав меня на Пушкинский, или другой, забытый уже цвинтарь, или на погост №5, расположенный по пр. Гагарина, где похоронены мои предки, которые спят спокойным сном и не знают, к счастью, что происходит на нашей родной земле, и которая для них является пухом. Твои друзья уже неоднократно производили и производят эти действия с инакомыслящими. Я уже ничего не боюсь, потому, что одной своей ногой нахожусь там, где все прекрасно и спокойно, другой болтаю в воздухе, а день раньше или день позже, для меня уже безразлично. К сожалению это не Вече, которое кануло в анналы истории и вернулось к нам референдумом и уже, к сожалению, не дадут его воссоздать и провести опрос о любви к вам, по причине, уже высказанной мною выше. Это любимые нами Прокуратура, Суды, СБУ, МВД, живущие на наши средства, за наш счет, но решающие проблемы власть имущих. Где ты, Мамай, спаси нашу Родину от нашествия красных, оранжевых и голубых бандитских варваров! Ты со своей десятиной был лоялен по отношению к нам, народу.
*****
Возвращаясь к мысли, высказанной ранее, думаю, что каждый из нас, особенный человек, не похожий на остальных. Со своими мыслями, чаяниями, деяниями, желаниями. Надеюсь, вы простите меня за философские отступления по ходу повествования. Ведь это моя жизнь, выхваченная осколочком из сонма жизней остальных людей, проживающих большим табором на планете под названием Земля.
Однако все эти мысли уже в прошлом. Как, впрочем, судьба каждого из нас. А свои взгляды на жизнь человека и человечества в целом я выразил в разделе философия. Итак.
Парадокс первый.
60 лет. Вот только-только начало жизни, и на тебе. Появление новых слов в твоем лексиконе: артрит, одышка, астма, цирроз, артроз и многие другие, очень красивые на слух, но очень болезненные в быту слова. Очень не хочется знакомиться с тетей, которая изредка навещает тебя. Тетка с железной косой, которая никогда не здоровается, не спрашивает ни твоего имени, не желает знать о твоих желаниях, а только кратко произносит стандартную для нас, людей, фразу: — Ну, ты готов? Пора идти со мной. Когда она приходит к тебе, невольно пугаясь, задумываешься, прячась под одеялом, почему так рано, а я еще не готов, а нельзя ли повременить. Интересно, а почему она всегда в изголовье и нет возможности посмотреть в ее глаза. Многие утверждают, что у смерти нет глаз. А как же она тогда косит головы, не видя их? Красива ли она? А до того…
Воспитание наших детских чувств и жизненных устоев всегда происходило через поколение, т.е. через головы родителей, которым было недосуг, т. к. они работали, и у них не было времени заниматься нами. Моим воспитанием занималась бабушка, сухонькая старушка с морщинистым личиком, вечно улыбающаяся и с большим чувством юмора. Провожая меня в армию, так спешила на проводы, на встречу со мной, что сломала руку, но прибежала на вокзал, к составу с новобранцами, перевязанная и упакованная гипсом, и плача от боли и расставания, крикнула в отходящий состав, свесившимся из входа в вагон и выглядывающим из окон ребятам: — хлопчики, вы ж вернитесь до дому «енералами», а то у нас розумных енералов вже й нэма! Грохнул вагон хохотом, и полетело по вокзалу эхо, а бабулька усмехнулась, перекрестила уходящий состав и, сгорбившись, держа гипсовую руку на перевязи, медленно заковыляла стоптанными резиновыми ботикам домой, через весь город, на холодную часть города, который я, будущий солдат, покидал для прохождения службы на благо отечества. Мне запомнилась беседа ее с соседкой, Карпенчихой, когда я уже пришел из армии и стал невольным свидетелем их разговора. « Оцэ у мэнэ онук такый вже гааарный, такый вже вууумный, як выйде на крылэчко, да як скаже, бабооо, пи-пи хочу. Соседка — а скики ж ему рокив? Бабуля, громко, — да вже двадцять пьятый пишов. И обе громко смеются. Ну, нарочно не придумаешь. Наверное, так и рождаются анекдоты.
*****
О прапрадеде, Карпе Владимировиче Чайка, узнать у родителей не успел, все думал, попозже. Так и кануло в небытие семейное древо. Стыдно. Матушка все обещала, что напишет для меня историю семьи. Так и не судилось. Ушла, не оставив своих воспоминаний, наверное не мене весомых для меня, чем мои, для детей. Старший мой двоюродный брат, Татарченко Леонид Павлович, напомнил мне, что ушел из жизни прадед, убиенный грабителями, и не осталось от него ничего, кроме портрета, висящего в моей комнате, с усами, да крестами через всю грудь. И только улыбка его с портрета напоминает мне, что был такой у меня бравый прапрадед. А более ничего не осталось, ни в домашних архивах, ни в памяти, кроме портрета его лица, очень похожего на меня, или наоборот, я удался в него. А Прадед, Чайка Андрей Карпович, отслужив в царской армии 25 лет, пришел домой георгиевским кавалером, открыл на Сумщине, в селе Мирополье цегельный заводишко и изготавливал качественный кирпич, который с жару, с пылу раскупали у него жители Сумщины для строительства своих домов. Женился, и вместе с прабабушкой воспроизвели на свет семерых девчушек-кудряшек, среди которых самая образованная была младшенькая, моя любимая бабулька, Анна Андреевна Карпенко, в девичестве Чайка. Построил дом, который потом, после революции, отобрал сельсовет, при раскулачивании, как самый большой и престижный, и разместилась в нем советская власть. А прадеда с женой и семерых девчушек под зад ногой, на свежий воздух, и гуляй по миру на здоровье, проклятое кулачье. А потом и убили наемные бандюги, не оставив и искорки памятного костра. Интересны людские судьбы. Влюбилась бабушка и вышла замуж за деда, Луку Емельяновича Карпенко, простого медянщика паровозного завода. Ныне завода им. Малышева. Вот ведь как. Этой свадьбы не хотели, мол, не пара он ей. Но случилось то, что случилось. Его называли «золотыми руками». Много всякой всячины, вплоть до самоваров, изготовленные им, после его смерти нашли свой покой в сарайчике, а потом тихо-тихо растворились в небытии. То — ли родственники, то — ли соседи разобрали на память эти чудеса мастера медных дел. Мне довелось пить чай, пахнущий костром и цветами, из его самовара, с сапогом сверху. Было весело, когда вся семья садилась за круглый стол, и мячиком скакал юмор по белоснежной скатерти. В углу зала стоял в кадке фикус, как дерево, взятое в Африке, напрокат. А напротив — трюмо. И отраженные в зеркалах листья создавали впечатление в детском мозгу о громадном и бесконечном парке, в котором среди деревьев с фикусными листьями, как бы под пальмами, расположилась за круглым столом наша семейственность, начиная от прадеда и заканчивая молодой и красивой матушкой с ее тремя сестрами, и мной, мало говорящего пока еще только, малышом. Сейчас я смотрю на этот, тогда еще громадный зал, и улыбаюсь. Маленькая, низенькая комнатка, 15 кв. метров в деревянной хате, но сейчас уже по современному обложенная кирпичом, напомнила мне это детство. Вглядываюсь на потекший потолок и неровные стены, побеленные тысячу лет тому назад и вдыхаю в себя запах детства. Я вижу лица моих молодых и цветущих теток, и бабульку с дедом, кусающую маленькими щипчиками куски сахара, откалывая маленькие осколочки от большого куска сахарной глыбы и счастливо чему-то улыбающуюся. Мне было четыре годика, когда дед зачах и более не вставал с постели. Я до сих пор не понимаю, как я в этом возрасте мог запомнить последние дни деда. Сидя на полу в маленькой комнатушке еще недостроенного им дома, я пытался молотком бить по стопке кирпичей. Бабушка, прикрикнув на меня, пытается вывести из комнаты. Лежащий на кровати дед тихонько, сквозь боль, выдыхает: — Аню, нэ чипай дытыну, нэхай трошкы посыдэ биля мэнэ. Я ж його бильш нэ побачу. Бабушкины слезы и затуманенный, предсмертный взгляд деда. Удивительно, но по мужской линии нашего рода я имею намного больше информации, чем о женских ветвях одного и того же родственного дерева, семейного древа нашего «Чайко-Карпенковского» клана. После этого события, слайд качающегося призрака деда затуманился, погасли его лицо и голос, и глубокий провал в памяти до пятилетнего возраста, когда услужливая память, отрывками, пытается наверстать пропущенные прошедшими событиями годы. От Сычевки, на работу матери, филиала конфетной фабрики «Красный Кондитер», расположенном на Тарасовском переулке, и на которой она работала бухгалтером, каких-то 20 минут ходьбы. Путь в детский садик проходил мимо 20-й средней школы, разбомбленной во время войны, а затем в 50-тые годы восстановленной, необходимо было пересечь крутой яр, ручей грязной воды, широко текущей из-под стен Паровозного завода, ныне завода им. Малышева. Клоака. Мать, держа меня на руках, четырехлетнего оболтуса, каждый день тащит меня в садик через это скользкое месиво. Необходимо опустится на 5-ть метров вниз, к этому ручью, пересечь его по тонкому льду, или по камням, брошенным в ручей для перехода, а затем подняться еще на пять метров вверх. По дороге диалог между взрослым и умным четырехлетним сыном и маленькой непонятливой старушкой, сорокалетней мамой.
— Давай быстрее, я устал сидеть на твоих руках.
— Ты тяжелый.
— А зачем ты меня родила, роди обратно.
По вечерам, укладывая меня спать, мама читала стихи, а не сказки, которые она знала наизусть великое множество. Будучи молодой, она преподавала литературу и даже была директором школы на Сумщине, пока не переехала в Харьков, где стала работать простым бухгалтером. Она наизусть читала Евгения Онегина так, что, слушая ее, я невольно запоминал тексты и даже сейчас могу прочитать несколько глав, не учив их. Особенно с первого раза я запомнил стихотворение, по-моему, Гете — Кто скачет, кто мчится прохладною мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу, весь, издрогнув, малютка приник, в руках его держит и греет старик. Дитя, что ты робко ко мне так прильнул? Отец, лесной царь в глаза мне взглянул. Он в темной короне, с седой бородой. О нет, то белеет туман над водой. Ну и т.д., оно длинное и приводить его полностью не имеет смысла, а окончание стихотворения: — ездок весь извелся, ездок доскакал, в руках его мертвый малютка лежал. Я прячусь от страха под одеяло и начинаю горько, до истерики, плакать. Мне не только очень страшно, но и очень жаль мальчика, который умер. Больше мама это стихотворение не читала, но в моей детской памяти оно осталось навсегда.
Но с бабушкой было проще. Это сказки, небылицы, мифы, вся эта безобидная каша, в шуточном исполнении бабульки, вызывала улыбку на моем лице, и я спокойно засыпал. А днем, за непослушание, естественные розги, заранее срезанные с куста сирени, который рос в нашем саду. Я находил эти заготовленные загодя пучки наказательного и исправительного инструмента и закапывал их в огороде, и наблюдал, как лукавая бабушка делает вид, что разыскивает их и беспокоится, чем же вразумлять беспокойного та нэслухняного онука. Мне кажется, что она, не показывая это, любила меня больше, чем мама, однако это субъективный взгляд на далекое детское прошлое.
5-ть лет. Сижу на коленях у матери в кинотеатре «Металлист» на улице Плехановская, на которой потом, собственно, и прошла моя юность. Последнее прости — прощай отца и матери. Я не ожидал этой встречи. Мать мне сказала, что мы идем смотреть кинофильм «Тарзан», на который она взяла билеты. Пятидесятые года. Новинка! Американские фильмы были в диковинку. 20-ть минут ходьбы до кинотеатра. Вопросы и ответы во время движения.
— Мама, а где «Тарзан».
— Вот сейчас, за углом.
За ним следующий, и так 5-ть раз. Вопросы и скупые ответы. Вопросы совсем не об отце. Привычка быть одному, или не одному, а с матерью, заставляют идти молча. Медленно гаснет в зале свет и начинается фильм. Рядом сидит отец. Мать с отцом о чем-то говорят, а я не прислушиваюсь, мне отец почти незнаком. Для моего возраста фильм не интересен и я тихонько начинаю дремать. Обратный путь домой был полит материнскими слезами и всхлипами, причину которых я не понимал.
*****
По Сычевскому переулку, перпендикулярно проспекту Гагарина (бывшему Змиевскому шоссе), которое восстанавливали пленные немцы после отечественной войны, вколачивая в песочный грунт тяжеленные булыжники и разговаривая на своем, непонятном нам, мальцам 5—7 летнего возраста, языке, проживали люди, пострадавшие от набега этих варваров. Понимая и осознавая боль родных, близких, матерей, не дождавшихся мужей, братьев, отцов, мы из укрытий и заборов, с криками «Гитлер — Капут», забрасывали пленных камнями и палками, якобы вымещая злобу пострадавших жителей, и получая от этого эфемерное удовольствие, не сознавая на самом деле, что действительно творится в наших душах. Но когда в обеденную пору они садились у обочины дороги обедать, и охранники насыпали им в металлические миски еду большими черпаками, у нас, мелюзги, текли слюни, вызыая рези в животе, в большей степени от недоеденных огрызков, сорванных нами в чужом саду зеленых еще яблок, и нами же оставленных про запас на завтра. Тихо садились недалеко от их «стола» и наблюдали, надеясь, как и вчера, магическим чужим словам: киндер, мамка, яйко, ком цу Гер, ням-ням.… Это было непонятно и до боли обидно. Стыдно было нам, пацанам, не понимающим, что происходит, бросавших в них камни и палки, слушать их ласковый незнакомый мужской голос. Мы отвыкли от доброго слова и мягкой интонации мужчин, которые могли взлохматить наши непослушные вихры и прижать к своей широкой и могучей мужской груди. Мы тихонько подползали поближе и жадными глазами смотрели, как они, отщипывая свои куски хлеба и насыпая жидкий суп в миски, от которого пахло до коликов в животе, протягивали нам сквозь проволоку ограждения, отделяющую нас от них, свои миски. Какие там злые овчарки. Какие там охранники. ЕДА. Только сейчас, с возрастом, я понимаю, что такое безнаказанность, особенно для детей того периода. Охранники отворачивались и слегка, незаметно от нас, вытирали глаза, прищуривались будто бы оттого, что в глаз попала пылинка. Они тоже были живыми людьми и у них тоже были дети. Мы, как кролики к удавам, подползали к пленным, с урчанием в желудке, ожидая ударов от охранников палкой по заднице, к которым, исходя из нашего возраста и опыта, мы уже привыкли, внюхиваясь в эти запахи еды, и икая, молчали. Мне сейчас стыдно, что как собачки жадно лакали эту еду, но оправдываю сейчас это голодным инстинктом.
50 года. Восстановление и строительство самой длинной трассы Москва-Симферополь. Булыжная мостовая. Мощная по тем временам трасса. Взамен уничтоженных дорог в России — центральная дорога Москва — Симферополь. Нет наших отцов, которые отдали жизнь свою, чтобы мы, щенки, наблюдали за созданием этой новой трассы, новой эпохи, нового развития спирали жизни. Абсурд. Сначала разрушение — потом восстановление. До сих пор голоса: мамка, млеко, яйка, звучат в моих ушах. Но это потом, когда пленным дали более спокойное существование и доброе взаимоотношение с жителями нашего поселка, которые сами не доедая, жалея, подкармливали их.
*****
Бывший поселок холодный. Змиевское шоссе. Сейчас эта трасса из булыжников заасфальтирована и носит название проспект Гагарина. Место моего детского и юношеского проживания — район мясокомбината, где уже развитое движение транспорта: троллейбус, автобус, такси. В прошлом это глушь. Приезжие на поезде в Харьков, не могли добраться до холодного края, обочины Харькова. Ямщики отказывались везти их в этот, богом забытый, уголок.
Извозчики в основном были сосредоточены в центре города. Они были пароконные, одноконные, их по местному называли «ваньки», выезжавшие в город и в взимавшие за свои труды 20 коп. за поездку из конца в конец. Расценки были: для пароконных — 15 коп. и 10 коп. для «ваньков». Сообщение конечно же было дорогим и не по плечу людям из холодных краев. В старом Харькове, с его невылазной грязью, у людей малосостоятельных не было своих экипажей. Зато дворянство, высшее чиновничество, купечество — все имели собственные экипажи. К услугам остальных были извозчики, не желавшие посещать эту дыру. Грязь по колено, отсутствие света, бандитизм, деревянные чурбаки вместо переходов — словом, натуральный северный край. И в памяти всплывают слова, оставшиеся из обихода прошлых поселений. Некоторые даже чисто Харьковские, по которым нас узнают в других городах. Шо, Раклы, Марка, Северский, Жевержеев и т. д. По разным сведениям, источником которых для меня были воспоминания стариков, я передаю вам эту информацию. Однако не отрицаю, а тем более и поддерживаю исторические сведения о Харькове историка Богалея. Кто был более правдив среди представителей писательских ремесленников, не мне решать. Чья легенда или версия интереснее, то и есть правда. Для понимания исторических событий, я для вас отпечатал несколько страничек из оригинала исторической справки Богалея, которую приложил в конце своего опуса, в разделе «политика».
Однако, возвратимся к событиям дней уже из нашего времени.
По Бурсацкому спуску, из бурсы святого Ираклия, это недалеко от зала органной музыки, сейчас там выход метрополитена «исторический музей», толпой несутся отпущенные с занятий голодные студенты. Они ненасытной толпой, как саранча, по деревянному мосту через реку «Харьков», стремительным потоком летят на благовещенский, ныне Центральный Рынок, хватая по дороге с торговых прилавков, кто яблоко, кто пирожок, кто помидор или огурец. А торгующие бабки, обхватывая и прикрывая свою продукцию, истошными голосами, с ударением на последний слог кричат — ираклы, т.е. мол, студенты из бурсы святого Ираклия. Так и появилось это укороченное слово, раклы, объясняющее ненасытное, безудержно хамское, будущее поповское сословие, носившее в душах стариков оттенок презрения к этим молодым людям. Хотя есть и другие версии о рождении этого Харьковского сленга. Якобы бабки, прикрывающие свой товар, кричали Гераклы, с ударением на последний слог, укорочено те же раклы. Кстати, имя Ираклий, является производным от имени Геракл. И, наверное, эти студенты были не самые глупые неучи в нашем сообществе. Но это в миру.
В отношении «марки», даже сейчас, иногда старики, ожидая трамвай и вытирая, слезящиеся от старости глаза спрашивают, а это какая марка трамвая? Дело в том, что в Харькове, в пору их молодости ходили конки, хозяевами которых были различные компании. По Клочковской и Московскому проспекту ездили конки Бельгийской компании, по Свердловой — компании Франции, На каждом вагончике, запряженном парой лошадей, был прикреплен фирменный знак компании, так называемая фирменная марка. Следовали они от Южного вокзала по разным направлениям, и жители, по этим маркам определяли, куда им необходимо направиться, по какой улице будет следовать определенная марка трамвая, т.е. конки, ведомой лошадьми. Отсюда и вопросы стариков, какая это марка трамвая. Наиболее полно осветил историю Харьковской конки, которой исполнилось 125 лет, в своей книжке « История Харьковского конного трамвая», А.Ф.Ивченко, мой родственник, которому перевалило за 80, и дай Бог, проживет еще столько же. На тот момент лошади были единственным источником тягловой силы. На Конной площади по линии Тарасовского переулка, не выступая проезда переулка Власовского был устроен парк Харьковской конно-железной дороги на 153 лошади,, превревратившийся через 50 лет в трамвайный трест. Но лучше всего о трамвайной эпопее можно прочитать исторический очерк А.Ф.Ивченко — История Харьковского конного трамвая с 1882 г. По 1919 г.
На Полевой улице находился санитарный трест города и на его территории были конюшни и располагались цепочкой в ряд телеги. Конюхи проживали напротив сантреста, на Сычевском переулке и Золотых въездах. Первом, втором и третьем. Их называли «золотарями», так как они выгребали длинными черпаками из сточных ям и сортиров «золото», которое очень мерзко пахло, при наполнении баков, и жители мгновенно разбегались при появлении их обозов. Там же были и телеги для сбора и вывоза мусора, а так же перевоза грузов жителям. Каждое утро пустые и вычищенные телеги, запряженные лошадьми, выезжали из сантреста, для зачистки города от мусора, который накапливался, благодаря жизнедеятельности горожан. Мы, мальцы, бежали вдогонку за телегами, и просили ездовых мужиков подвести нас до школы. Не дай Бог без разрешения вскочить на телегу. Не глядя назад, они щелкали кнутом и, черт возьми, как-то попадали нам по спине. Их путь пролегал по улице Державинской, как раз мимо школы, и мы радовались, что ехали, свесив ноги с края телеги и болтая ими в воздухе, укорачивали свой путь не пешком, а едучи. Перед въездом на Державинскую стоял ларек, в котором продавалась всякая мелкая всячина, в том числе и водка, и лошади останавливались возле него, ожидая, когда их хозяин закатит в себя столбовые двести грамм и не даст ей кусок посоленного хлеба, предварительно занюхав им принятую водку. Караван телег продолжал свой путь, а мы наблюдали, как жирным рукавом тулупа конюхи вытирали с губ остатки алкоголя и крошек хлеба, оставшиеся на губах, причмокивая ими от удовольствия.
Конный базар. Рынок. До сих пор не потерявший своего названия. На нем действительно торговали живностью. Я застал то время, когда производилась на этом рынке торговля лошадьми и коровами, и козами, и овцами. От Балашовской железнодорожной станции, мимо гастронома предпринимателя Жевержеева, снабжавшего продуктами и необходимыми товарами обихода жителей холодного края, (сейчас это Коминтерновский район) через территорию мыловаренного завода, рядом с велозаводом, пролегала узкоколейка, по которой на конный базар завозили уголь, керосин, лошадей и прочие атрибуты, необходимые для проживания жителей района. Когда рынок реорганизовывали, приводя его в санитарный порядок, и сносили разные ремонтные мастерские и покосившиеся от времени деревянные киоски, громадные жирные крысы бегали по рынку, потеряв свои кровные гнезда, и не могли найти какую — нибудь щель или нору, чтобы запрятаться от гула и треска ломаемых строений. А мы, пацанва, бегали за ними с палками и нещадно колотили их. Они, повизгивая от боли и страха, метались между нами и, мотая длинными хвостами вдруг ощетинившись, становились в позу агрессии, оскалив мелкие зубы, да так, что теперь мы, со страхом отбегали в сторону. Санитарная служба города травила их, и долго еще витал в воздухе гнилостный запах разлагающихся трупов крыс, забившихся в щели еще не снесенных сарайчиков, в последней агонии. С этого рынка на телегах, ямщики развозили жителям домой приобретенные громоздкие товары, уголь и прочее, что невозможно было нести в руках. В моей памяти еще звучит визгливый сигнал дудки реализаторов керосина, проезжающих по улицам. Почти как сегодняшняя продажа воды из цистерн на шасси автомобилей. Долгие и частые сигналы клаксона, и люди, приученные к этим сигналам, как собаки Павлова, бегут с пластмассовыми бачками занимать очередь для приобретения пайки чистой воды.
На телегах, проезжающих по улицам холодного края, железные помятые бочки с надписью белой краской — керосин. Пищит дудка водилы конной тяги, которую он достает из-за кушака засаленного тулупа, мятую и седую от постоянного пользования и времени. Телега останавливается, и жители поселка с бидончиками спешат пополнить домашний дефицит горючего топлива. Керосинка, керогаз, примус, буржуйка с мокрыми дровами, с удовольствием кушали этот продукт перегонки нефти, отдавая нам тепло и свет. Керосиновые лампы, чадя, высвечивали светлые пятна на темных стенах, и мерцающий фитиль лампы делал живыми эти пятна, бегающие по потолку и стенам помещений. И игра этих пятен завораживала и вызывала какое-то внутреннее беспокойство и растерянность. Мне почему-то кажется, что новое поколение не сможет объяснить, чем отличаются друг от друга керосинки, керогазы, примуса. Как и патефон от граммофона и радиолы. Просто потому, что не сталкивались с этими раритетами. Не держали в руках, не заправляли и не пользовались ими, оставляющими на руках и одежде, на длительное время, вонючий запах керосина. Шум работающего примуса, как гул мотора самолетика, тревожит тишину маленькой кухоньки и языки пламени, раскаленные до синевы, нагревают будущий обед или ужин. А патефон, сквозь шум и треск заезженной и заигранной пластинки, и тупой иглы, царапая виниловый и хрупкий диск, доносил до нас далекий и мягкий бас Шаляпина. И эти вечера ностальгической памятью воскресают в дремоте сегодняшних дней.
А потом появились электротрамваи, с открытыми тамбурами и металлическими перилами по бокам дверей, за которые цеплялись и повисали на них люди, не попавшие в глубь вагона из-за тесноты. Догоняли на ходу трамвай и вскакивали в тамбур молодые, накачанные ребята, да и мы, дети, старались от них не отставать и с шиком повисали на колбасе. Так называли прицепной вагон, имевший сзади выступы по краю, и на которые мы становились ногами, цепляясь руками за свисающую лестницу, ведущую на крышу вагона. А во время проведения футбольных матчей было весело наблюдать за обсыпанные трамваи людьми, как пчелы при роении вокруг матки.
Но то ли дело сейчас, в век полного сервиса. Троллейбусы, трамваи, метро, такси. И номера на каждом виде транспорта. Однако я был обескуражен, когда, прослужив три года в армии, вернувшись домой, не узнал родного Харькова. Дома, пятиэтажные, девятиэтажные, двенадцатиэтажные. Из-под крыла самолета — Харьков как на ладони. Боже мой. Как все изменилось. Но детство свое изменить и забыть невозможно. Это одна из временных вех, которая как заноза сидит в тебе и постоянно о себе напоминает, то ли в жизни наяву, то ли в виртуальных снах.
*****
Уже 6 лет. Почти все понимаешь. В этот год ушел из семьи отец, оставив четверых детей на плечах матери. Затем ушли из жизни брат и сестра. Осталась сестра да я, самый младший и самый понятливый ребенок в семье. Наверное, поэтому и самый желанный и любимый. К тому же мне, воспитанному как атеисту, иногда было непонятно, почему изредка все же смотришь куда-то далеко в высь с мыслью, что все-таки несуществующий бог, как отец, которого никогда не видел, наверняка знает о тебе. Как это приятно сознавать, что иногда, какие то силы поддерживают тебя и не дают упасть.
На месте выстроенного сейчас оперного театра, в парке Шевченко, по улице Сумская, стояли просторные полуоткрытые деревянные беседки, с обвивающими их по деревянным рейкам жасминовыми лианами и растущими кустами мимозы, источающими тонкий аромат, и в которых отдыхали вечерами горожане, играя в шахматы, домино и шашки, выдаваемые стареньким дежурным, в залог под какой-нибудь документ. За беседками располагался ряд лотков с мороженым и газированной водой. Из сифонов раздавалось шипение и в стеклянные граненные стаканы, стоимостью семь копеек, отраженных на днищах ценой, с пузырьками и брызгами, шипя и пенясь, впрыскивалась сладкая газированная водичка. Возле этих лотков стайками кружилась детвора, тянущая своих родителей, чтобы они вновь дали возможность вкусить эту шипящую жидкость и влить ее в, уже и так, переполненные животы. Напротив беседок располагался макет города Харькова. Маленькие домики вокруг стеклянной речушки, разрезающей город пополам, зажигаясь по вечерам малюсенькими игрушечными окошками, и узенькие улочки между домами освещались крошечными фонарями. И, в подсвеченной, в наступающей вечерней темноте казалось, что этот сказочный город живет, и что сейчас, вот-вот, по этим улочкам пройдет игрушечный народ. Я, шестилетний малыш, держась за мамину руку, пытаюсь найти свой дом, среди огромного количества этих крошечных домиков, и пускаю слезы, пока мама не подводит меня к месту, из которого видна наша улица и наш дом.
Я ненавидел праздники первого и девятого мая. Перед этими праздниками, за пару месяцев до этих великих событий, раз в год, мама покупала мне новые дешевые туфли. Я был бесконечно рад покупке обуви и тайком целовал и гладил их блестящие бока. Они имели своеобразный запах, вид, цвет. Цвет новизны и нетронутости. Но была одна особенность в жизни этой обновки. Туфли не росли. А мое тело с изумительной скоростью росло, и вместе с ростом тела рос и размер стопы. И когда радостные и счастливые люди толпами шли на площадь, для прохождения рядами в демонстрации своей любви к хозяевам города, стоящим на трибунном возвышении и махающим пухленькими ручками муравьиному потоку там, внизу, с флажками, бантиками и шариками в руках, я, как наездник, проскакавший сотни верст и только что слезший с лошади, раскорякой от боли обнимающих и давящих ногу новых туфлей, полз за улыбающейся от гула и гомона, счастливой толпой демонстрантов. И дойдя с людским потоком до здания госпрома, быстро снимал с ног колодки, изобретенные инквизиторами, под названием «испанский сапожок». Я ложился на уже зазеленевшую травку, на склоне задворков городского зоопарка, и слюнями стирал кровь, выступающую из лопнувших волдырей, натертых кандалами новых туфель. Вот где прячется настоящее счастье. Не было более приятного ощущения, чем босиком идти по колдобинам и острым камешкам домой, неся под мышкой распаренную обувку, держась за теплую ладонь улыбающейся в сочувствии матушки. Я невольно вспомнил модное в то время «армянское радио», с их вопросами и ответами:
— что такое удовольствие?
— удовольствие, это когда бьешь молотом по пенису.
— так, где же удовольствие?
— удовольствие, когда промахиваешься.
И дорога домой уже не кажется длинной и волдыри на ногах почти не досаждают, и ты понимаешь воочию это удовольствие, примеряя на себя юмор от «армянского радио». А самозащита, привитая жизнью и мамой, или мое внутреннее понятие законов жизни, не давали долго задумываться над этими мелкими неприятностями. Но если бог и существует, в чем я, как атеист, сомневаюсь, он простит мне мое видение судьбы, как простил его я, осознав и приняв как догму свою непростую, наполненную сложностями жизнь. Но не прощу ему свою боль и безысходность в том, что происходит и, наверное, будет происходить со мной, и с моей семьей в наше время, в эти двухтысячные, с хвостиками, года. Та же бедность и боль бытия. Чушь собачья. История повторяется вновь.
Я сам начал становиться на ноги. Забитый до одури науками в школе, урка, с постоянными драками за авторитет, сам на сам, и даже с группой себе подобных, что позволило мне выжить. Неизвестно, кем бы я был, если бы не действия всевышних сил.
Меня выгнали из школы, 7-го класса, за отвратительное поведение. Кто и как мог оценивать поведение послевоенных пацанов, потерявших своих отцов. Безотцовщина. Гнетущее это слово до сих пор коробит меня. Большое спасибо матери, ей, как первой комсомолке города Харькова и друга наркома Постышева, после того, как меня выгнали из школы, удалось пристроить чадо в ремесленное училище. Одежда, обувь, постель, еда. Если вы этого не ощутили или не знаете, чем это пахнет, то грош вам цена в базарный день, как человеку. Это присказка. Это фраза из лексикона живущих в то, послевоенное время взрослых и ребят. Нужен был отрыв. Отрыв от бандитской этики, чтобы ощутить удовольствие окунутся в мир книг и знаний, быть нормальным человеком и иметь нормальные отношения с обществом. А еда? Тот, кто никогда не голодал, не поймет состояние души хлопчика, у которого тонкая животная ткань прилипала к хрящикам спины. Ремеслуха нас кормила. Во-первых, это отсутствие голодной икоты, а во-вторых — громадное желание двигаться вперед и что-то сделать, не сознавая пока еще, что именно. В прошлом, при Сталине, наверное, люди, определяющие политику государства, были из нашей среды. Которые, тоже выжив, дали нам, мальцам, путевку в жизнь. Многим своим соратникам Сталин не вложил мозги в их черепные коробки. Однако многие люди, родившиеся и выросшие на периферии, бежали из глубинки в город, в котором все-таки была возможность избежать голода, медленно наступающего на село, и находили свое счастье, становясь горожанами. Но, прежде чем достигнуть этого счастья, они испытывали немало жестоких разочарований. Они внутренне понимали, что тот, кто всегда был обделен — легче довольствуется малым. Смерть Сталина и горькие стенания и плач людей, сидящих у круглых бумажных тарелок — репродукторов, ждущих сообщений о состоянии больного лидера Великой страны СССР, теряющих символ счастья и надежды. Но все это было. Каждый год, к новогодним и весенним праздникам, происходило снижение цен на продукты и товары широкого потребления. Уверенность в завтрашнем дне, бесплатное образование и лечение, крыша над головой, отсутствие коррупции и взяток, работа и отдых, пионерские лагеря и многое другое, что давало нам уверенность в завтрашнем дне, и надежду войти в прекрасное будущее. Каждый год средняя семья имела возможность провести отпуск на море. На каждом заводе висели объявления — требуются рабочие. Безработицы не существовало. Везде нужны были рабочие руки и инженерный персонал. Была возможность пожаловаться на несправедливость и притеснения, и эти вопросы мгновенно решались, и негодяи наказывались. Это было! Это было!
Я не имею права давать оценку событиям прошлого и винить строй, которого я, ребенок, еще не знал. Была ли социальная справедливость, или ее не было, не мне судить. Я не судья. Кому-то она была не по нраву, а кто-то искренне поддерживал существующий порядок — это на совести историков, которые зачастую лгут, зарабатывая на желтизне фактов зеленые купюры. Еще раз повторяю, я не судья. Все имели крышу над головой и стремились к созданию справедливого общества. Сейчас к власти пришли денежные дегенераты, не знающие цену куску хлеба. Зарвавшиеся снобы, беспардонные, наглые, бесцеремонные, бескультурные мажоры и полуграмотные люди. Князья и бояре. Они заботятся только о своем благе и им глубоко наплевать на развитие нашего общества, и существование себе подобных человечков. Они свое хамство и наглость передают, и своим детям, и своим внукам. И меня это очень сильно огорчает. Что вырастет на поле, которое не вспахано и не засеяно? Овсюг и осот. Ненужный никому, паразитирующий бурьян. Недоразвитые морально ребята, начиная от губернаторов и кончая низами местного самоуправления, делают «под себя». И сладу с ними нет. МАФИЯ. Нет развития. Экономика разваливается. Многие предприятия прекращают рабочий цикл. Все покупается и перепродается, даже то, что возведено и построено руками сотен тысяч людей, и имеющих право на свой кирпичик в здании общественного имущества. До смешного дошло обращение ваучеров в акции предприятий, и которые до 90% находятся в руках одного-двух человек — дирекции и представителя коррупционеров. Пример — Харьковское ООО завод «Электромашина», на котором из 15 миллионов акций, всего 15 тысяч находится у пенсионеров, в том числе 240 акций и у меня. Остальные у Лазаренко. Это родственник известного вам бывшего парламентария, проживающего вне родной Украины. Как простое быдло может защищать свои права? Я уверен, в других ООО и пр. аналогичная картина по всей Украине.
У каждой истории свои имена героев и связанные с этим политические события. Они могут быть или заляпаны черной краской, или подняты до уровня постамента с визерунками золотых желудевых или миртовых листьев. Сталин не подпускал это наглое сословие негодяев к руководству страной. Но я не об этом. О выше сказанном потом. Если дадут.
*****
В школу пошел в 6-ть лет, уже умея читать, писать и считать. Шестилетний возраст оставил в воспоминаниях еще одно неизгладимое пятнышко в моей жизни. В школе были разные преподаватели. И те, которые не нюхали пороха, и те, кто прошел войну от А до Я. Они очень сильно отличались друг от друга отношением к нам, детям. Уроки украинского языка, в том числе рисования и графики, называемую, наверное, сейчас ИЗО, вел учитель, вернувшийся с войны. Его обезображенное лицо, как маска ужасов, пугало нас. Окончил театральный институт и ушел в армию, где и получил подарок в свое тело, как подарок на память о войне, осколок снаряда. Рисовал он отменно. Украинский язык знал безукоризненно. Благодаря ему я научился сносно рисовать и достаточно чисто говорить и писать на украинском языке. Но более всего его фраза, которую я пронес через свою жизнь, поразила и запомнилась не только мне, но и моим школьным сотоварищам. «Дети, мать дала вам жизнь, а это не шутка. В Индии был установлен в прошлом закон, по которому неверные сыны, оскорбившие мать, или принесшие ей страдания, обязаны были изжарить яичницу на своих ладонях. И даже тогда они оплачивались лишь одной третьей тех страданий, которые вынесла мать, давая им жизнь». Потом, по прошествии лет, я узнал, что эта притча принадлежит индийскому философу, жившему тысячу лет тому назад. Конечно, нас забавлял послевоенный недостаток нашего учителя. Его перекошенное лицо — одна часть лица неподвижна, а вторая часть лица, полная мимики — пугала нас. Но когда его мужская рука гладила наши жесткие отростки волос, мы всем сердцем понимали его слова и чувствовали доброту, исходящую от него. Из травмированного осколком глаза постоянно вытекала слеза, но когда он говорил о чем-то своем, внутреннем и очень серьезном, слезы наворачивались и в наших глазах. Это был настоящий учитель и друг. Наш БОГ. Я, как ни странно, помню его и сейчас. Иван Данилович Радченко. Наверное, от слов — Рад чему-то. И мы, уже не хлюпики, а семилетние взрослые особи, слушали его, открыв рот, о человеческих судьбах, об исторических событиях, невольно вдыхая аромат этой самой жизни и будущих обязанностях перед ней. Перед нами всплывали яркие картины военных баталий и отрывки, чьих-то судеб. Наверное, тогда зарождалось начало первых азов той жизни, которая у каждого из нас своя. Ничто не приходит или проходит просто так. Где-то есть свое начало, а где-то обязательно конец. Пока это только начало. Это как экскурс в прошлое, мое милое и одновременно тоскливое, ностальгическое детство.
Первый класс. Классная учительница смотрит на меня задумчиво — загадочным взглядом и ласково произносит: Женечка (не просто Женя), к тебе пришли. Это отец. Громадное оконное стекло в коридоре школы. Громадная и тяжелая рука на плече, а голос мягкий и ласковый.
— Ты поедешь со мной?
— Зачем.
— Я куплю тебе велосипед.
— Нет.
— Почему?
— Мама не хочет.
— А как же я? Ведь ты и мой сын.
— Не хочу.
— Поехали со мной.
— А я люблю маму.
— Наверное, это она тебе сказала, чтобы…
— Нет, я сам, и я ее не брошу, как это сделал ты.
— Значит, она все-таки настроила тебя против меня.
— Нет, я сам.
— Возьми.
В мои руки опускается громадный кулек серого цвета. Я иду в класс. Сажусь за парту и пытаюсь втиснуть кулек, врученный отцом, в эту маленькую щель в парте. Мне это не удается и кулек рвется. Содержимое кулька — виноград, халва, печенье, конфеты, пряники и многое другое, вываливается на пол. Я плачу. Стою и плачу и не могу остановиться. Не из-за порванного кулька и рассыпанных сладостей, а от чего-то более серьезного и пока не понятного мне. Наверное, тогда и началось мое возмужание и понимание сложной жизненной действительности. Даже сейчас невозможно оценить и проанализировать чувства, хлынувшие со всех сторон, и не дающие мгновенно решить эту задачу со многими неизвестными. Учительница, Анна Алексеевна, морщинистого лица которой я уже и не помню, обнимая меня и, гладя по стриженой налысо голове, уводит из класса, вытирая льющиеся из меня слезы носовым платком. Я прижимаюсь к ее плечу и медленно успокаиваюсь. А стихотворение, которое написано для нее, уже не сможет найти своего адресата. Я благодарен моему армейскому сослуживцу, который тоже писал стихи, Гриншпуну, он помог отредактировать это стихотворение, и в его редакции оно заиграло как долголетнее вино, процеженное сквозь марлю времени. Жаль, что матери уже нет. Как и многих других, которые меня жалели, любили и поддерживали в этой злой и гадкой, по тем временам, жизни. Жизни на выживание.
Учительница литературы искренне помогала мне осваивать языковые барьеры и находить удовольствие от знакомства с классикой. Это она пыталась убедить меня на наличие поэтического дара, заставляя писать стихи, корявые и неуклюжие, и якобы в способностях, которые я, к сожалению, так и не стал в дальнейшем развивать.
Ночами, открыв поддувало печки, я «поедал» романы. И при мерцающем свете догорающих в топке углей, всю ночь, или грустил, или смеялся вместе с героями удивительных романов. Я жил их жизнью и был одним из них. Отцами по жизни стали Дюма, Твен, Лондон, Грин, Ремарк, Гоголь и многие, многие другие, которые появлялись в моей библиотеке впоследствии, и которыми я восхищался, становясь хоть на час одним из героев этих произведений. Но, возвращаясь к оценке своих учителей, не могу не отметить, что иногда мне не хватает мозговых извилин памяти, чтобы вспомнить кто, зачем, за что и почему. На одних есть обида и на них за пазухой еще прячется камень горечи и обиды, а кому–то я обязан своим образованием и воспитанием. Действительно, всех не упомнишь.
Учительница русской литературы в 6-м классе дала задание написать в стенгазету стихотворение. Первый в моей жизни заказ. И я благодарен матери, за то, что она сохранила этот мятый, пожелтевший и сморщенный от времени листок. Смешно и наивно. Я не изменил ни единой буквочки, ни строчки, ни пунктуации в этом опусе, посвященном критику Белинскому, которому исполнилось в то время не помню сколько лет.
Что так давно Белинский завещал.
Великий критик правильно писал
И видел он на много лет вперед
Что самой образованной страною
Россию сделает великий наш народ.
Завидовал он правнукам своим
Что в это время жить им суждено
Что строить и творить свободно
Большое право им дано.
Другой теперь Россия стала
Не нищая, отсталая страна
Державой мира, мужества и щястя
Россия называется моя.
На службе у народа атом
Ракеты в космос запустили
И сделал это русский человек
Великий человек его России
И все сбылось в эпоху коммунизма,
Что так давно Белинский завещал.
Как бы хотелось правнукам его,
чтоб он теперь Россию увидал
Учительница не стала поправлять и корректировать это стихотворение, и оно в таком виде попало в стенгазету. Мои сотоварищи по школе подтрунивали надо мной, а мне было стыдно и неловко, поскольку писалось не от души, да еще к тому же с партийным пафосом, внедряемым преподавателем и от которого меня тошнило. Больше я не писал, вплоть до службы в армии, где меня потом чуть-чуть и прорвало. А о плохих людях в памятных извилинных листах, мозговых записных книжек, о жизненных ситуациях, связанных с их сообществом, и сохранить не захотелось. Достаточно. Я не хочу перешагивать через пороги времени. Всему свое время.
*****
Музыкальные желания рвались из меня и из моего друга Гурьева до такой степени, что мы решились в пятом классе на беспрецедентный, для нашего возраста, шаг — записались в школьный духовой оркестр. Николаю дали, как сейчас помню, трубу корнет-пистон, такую из себя, блин, всю блестящую и золотистую, а меня хотели усадить за барабан, от чего я категорически отказался, представив себя идущим по городу с красным пионерским ошейником и Тимуровским барабаном на перевязи, тыкающего палочками в шкуру убиенного, когда-то, какого-то животного. Руководитель оркестра, усатый и высокий мужичек, постоянно, наверное, по привычке размахивающий руками, покачав головой, молча указал пальцем на одиноко стоящий в углу комнаты, увешанной и установленной инструментами, громадный музыкальный инструмент под поэтическим названием контрабас. Вслушайтесь в звучание слогов. Контра. И сразу перед глазами революция, Аврора, и бегущие солдаты, и моряки, гордо рвущие тельняшки на груди. И слово Бас. Шаляпин, блохи, судаки с кумой, Гнатюк и т. д. Мягкое и приятное звуковое, низкочастотное объятие. Поэтому мы сразу поверили друг — другу и обнялись для знакомства. Он был моего роста и вполне упитанный. Четыре зуба колков, торчащие из грифа, не портили его довольно забавный, четырежды зубастый вид, представленный тонкой осиной талией грифа и раздавшимися в ширину пухлыми бедрами деревянной деки. Он принял меня в свою компанию сразу, и отозвался на мою протянутую руку глухим и обволакивающим, словно мягкое одеяло, голосом струн. А я гладил его по лакированным бокам и, представлял себе крутую сцену, на которой я веду музыкальный диалог со своим новым другом и мы радуемся наступающей новой жизни и ждущим нас чудесам бытия. Была единственная неурядица в общении с инструментом, это его отсутствие у меня дома. Руководитель, понимая мое состояние души, разрешил взять инструмент домой с условием приноса его на репетиции. Конечно, я был счастлив представившейся мне возможностью, и понес его домой, гордо перебросив моего нового друга через плечо. Улица Державинская, по которой каждый день я ходил в школу, была не очень длинна. Это только по утрам, для меня, с неохотой идущим на занятия, она была бесконечной, а по вечерам, после занятий, короче пути не было. Сначала мой друг был легким, но после ста метров, вес его почему-то увеличился в несколько раз, а еще через сто метров, его объятия стали невыносимы. Благо была зима, и скользкая дорога подсказала мне мысль о волочении моего, уже уставшего друга за собой, как санки. Что и было с успехом произведено. Продолжалось это действие по времени недолго, где-то около месяца. Руководитель заметил неблагополучность в теле контрабаса, и его усы приподнялись выше ушей. Он осматривал контрабас, шипя и сплевываясь, и крутил свое, и так уже красное, от натуги, ухо. Наверняка его не переполняло чувство радости видеть контрабас и меня, цветущих и здоровых, лакированных братанов. Там, на деке, образовалась дырочка, появившаяся в боку контрабаса, от соприкосновения его тела с дорогой, по которой его, как труп, таскали по усыпанному и обрамленному снегом и льдом асфальту. Ему не удалось долго сопротивляться перед издевательствами трущей его дороги и, конечно, у него образовалась каверна в боку. Я смотрел на синеву носа брызгающего слюной возмущения маэстро и молчал. Я понял, что мы не подходим друг другу. Больше я оркестр не посещал, потому, что и мой, стонущий от боли друг контрабас, и руководитель оркестра не пожелали продолжать дружбу со мной. Однако это не помешало потом, в более зрелые годы, продолжить дружбу с братом контрабаса, электронной бас-гитарой, и с которой мы нашли общий язык, и которая выручала меня на свадьбах, концертах, танцах. Я вспомнил эту историю, когда после армии, уже руководителем музыкального ансамбля в клубе «Металлист», был приглашен на должность штатного гитариста в джаз-банд, под управлением Слатина, во дворец «Строителей» в начале проспекта Гагарина. Дековая классическая гитара, без усиления, была как шутка на паперти, с просьбой о подаянии. А когда заболел контрабасист, я принес бас гитару с усилителем на репетицию и забабахал импровизацию в поппури на темы советских песен, репетируемую Слатиным. Не по нотам, написанным в партитуре, а свое видение в аранжировке опуса. Благо я теоретически был подготовлен, а практики мне хватало для того, чтобы разбираться в гармонии и отличать септаккорды от нонаккордов и держаться тоники любого произведения. А тем более это нравилось музыкантам, играющим со мной в одном коллективе. Больше Слатин листков с нотами мне не давал, а я играл так, чтобы тоника произведения определялась устоями бас гитары и ритмом ударных, и украшалась синкопами остальных дудок. Прошу простить меня за сленг лабухов, живших музыкой и сердцем, и за то, что снова нарушаю ход событий, отпущенных мне судьбой, интервалом времени мелких событий, осколков истории, и за то, что я снова отвлекся.
второй парадокс.
46 мужская средняя школа. Школа взросления и возмужания и понимания кто есть кто. Учитель химии, Кардончиков, был препорядочной сволочью и благодаря этой черте характера, впоследствии стал директором этой школы. Это он выгнал меня из школы, как не пытался помешать этому Иван Данилович Радченко. Это он, меня, вместе с Колей Гурьевым, моим единственным и настоящим другом, впоследствии погибшим на подводной лодке, убрал из школы, заставив забрать документы и катиться к чертовой матери, после окончания 7-го класса.
Как интересна судьба людей. Я эту 70-ти летнюю Кардонческую гниду, страдающую апломбом и маразмом, потом опекал, поддерживал и содержал от имени государства, будучи впоследствии начальником отдела социальной защиты населения. И даже в 70 лет апломб у него не исчез. Он не помнил меня. Но моя обида ушла на второй план. Может быть, утешал я себя потом, он оказал мне неоценимую услугу, бросив меня в этот жизненный омут, в котором я не захлебнулся. Может быть, благодаря его скотству, я получил 3 высших образования и стал уважаемым человеком, грамотным специалистом, кандидатом технических наук, депутатом различных уровней.
Молодыми мы пытались уверять себя, что именно с нас, юных, начинается мир, как в свое время считали наши отцы, и наши деды. Потом мы попадаем в такой же жизненный круговорот, демонстрируя такие же привычки, и продолжаем делать такие же ошибки, как наши предки. И самое интересное случается тогда, когда кто-то из нас пытается вернуть себе молодость — что запрещено природой. Это говорит о наступающем старческом и умственном маразме. Все мы относимся к разряду людей с запоздалым созреванием и, достигнув полной зрелости, и найдя равновесие в жизни, не стремимся из него выйти. И даже самый современный тест на тупость не даст гарантии, что человек дозрел или достиг этого равновесия, и что, перестав быть глупым школяром, он стал шедевром матушки — природы. У каждого из нас обязательно должна появиться возможность, как бы, отойти немного в сторону и взглянуть на прошедшие фазы жизни. С такого расстояния, с которого отдельные деревья сливаются в сплошной лес — наше гражданское сообщество, живущее по законам, обязательным для всех без исключения, но нарушаемые им по разным, как объективным, так и нет, причинам. И только тогда начинаешь понимать, что человек — это не только физико-химический биологический аппарат, но и комплекс тончайших и хрупких датчиков определения чувственно-психологических процессов, происходящих в душах каждого индивидуума в отдельности.
77 женская средняя школа. Девчачий пансион, как мы ее называли. Нам один раз в год разрешали посещать эту женскую цитадель. Нас водили на, так называемый, праздничный бал. Новогодние праздники. Страшно грустное воспоминание. Рваные ботинки. Штопаные и перештопанные штаны. А о рубашках и говорить не приходилось. К чему это я? В нашем классе училось и не такое нищее отребье, как мы, мальцы, оставшиеся без отцов, или брошенные ими в разгар послевоенной жизни, когда заработной платы матерей хватало только на хлеб, картошку и селедку, продаваемой в больших бочках и стоившей в тот период копейки, как и заработная плата простых людей. В школах учились «бандюги, урки, подлюги», как их называла школьная элита, и чему мы, конечно, перечисленные выше, обязаны были незабвенному и любимому Кардончикову, директору мужской средней школы №46 по Плехановской улице. А теперь можно представить себе отличников и «хорошистов», сыновей высокопоставленных родителей с крутым достатком, в галстуках и накрахмаленных рубашках, Гузманы, Стельмахи, Авербахи, Шендеровичи и другие, впоследствии сменившие свои фамилии на Ивановых, Петровых и Сидоровых, поскольку в то время это было модным политическим решением. Но это никоим образом не относится к нации евреев, как таковой. Среди них достаточно умных и достойных людей, которые так же как русские и украинцы сражались на фронтах, делили пополам последнюю краюху хлеба и невзгоды бурной жизни. И среди русских и украинцев попадались негодяи.
Через два года эти школы, разнящиеся по половым признакам, объединили, и руководство школ заставляло родителей приобретать единую для всех форму одежды. А до того нас, «отребье», в количестве 12 человек из класса эти снобы презирали, но одновременно боялись и нашей сплоченности и непримиримости к «врагам отечества». Имея представительных родителей и зарубежных родственников, эти детки блистали кремами, одеколонами, одеждой и конечно знаниями, что особенно нравилось «педикам», как называли мы педагогический персонал. В то время в школах существовали тройки, впоследствии — родительские комитеты и эти тройки, родители из обеспеченных семей организовывали, как подачку, раздачу рубашек, ботинок, трусов и прочих шмоток, бывших в употреблении и ранее носившихся их детьми. В то время мы тайком плакали и преднамеренно пропускали эти вечера «счастья», ссылаясь на недомогания и болезни. Сейчас я понимаю их жаркий порыв к облагодействованию, но тогда…
Мы носили парусиновые туфли, которые натирали зубной пудрой белого цвета зубной щеткой. Эта обувь была как повседневной, когда становилась черной от пыли и грязи, и выходной, когда натиралась этой белой зубной пудрой. Парусиновая обувь имела один единственный, но существенный недостаток. Стельки в этих туфлях наклеивались казеиновым клеем, за неимением в то время других клеев. Этот клей варился из костей и жил животных до вязкой густоты, и перед употреблением разогревался, как столярный клей. Наши ноги, естественно, потели от беготни, и этот пот вступал в реакцию с этим животным клеем и выделял омерзительный запах, от которого избавиться практически возможности не было. Мы поджимали ноги под себя, набивали туфли бумагой, но этот запах нас преследовал повсюду, поэтому очень часто мы ходили, по сезонной возможности, босиком, пряча туфли в торбы, вместе с учебниками. Портфели и ранцы были только у детей из обеспеченных семей. Поэтому нас называли босяками. Я бы и не вспоминал вчерашний день, если бы из наших, «драных и рваных» босяцких рядов нашего класса, не вышли в строй нашего общества достойные, по моему, люди. Коля Гурьев — орденоносец, погибший на подлодке имени «Ленинского Комсомола», Жека Глагольев, ставший кумиром джазовых представлений в Америке, Юра Николаев — главный инженер крупного предприятия, ваш покорный слуга Жека Рекушев, представитель исполнительных и депутатских органов в городе Харькове и многие, многие другие, или не дожившие до наших дней, или рано ушедшие в небытие. Вырываясь из стен школы у нас был только один путь — или ремеслуха, или зона. Школа нас отторгнула благодаря Великому в своей глупости и несменяемому асу злокозней — директору Кардончикову. Но, одновременно, благодаря этому негодяюи его действиям, мы получили возможность взлета и исполнения наших мыслей, желаний и возможностей.
*****
Мастера ремесленных училищ были из нашей среды. Грамотные специалисты и человеки. Наши названные братья и отцы. Лотин Владимир Сергеевич, мастер нашей группы, впоследствии ставший директором ремесленного училища №5, несмотря на молодость, где-то под тридцать, остался нашим кумиром и названным отцом на всю последующую жизнь. Мы стали мыслить другими категориями и задумывались не только о своем благе и имидже, но и о будущем нашей страны. Не хотелось, чтобы это было воспринято как пафос. Мы были ими так воспитаны. Сейчас, с точки зрения своих прожитых лет, и удивительно полноценной интеллектуальной жизни, понимаю следующее: если я качественно и искренне живу для себя, семьи, детей — благо не только для меня, но и для Родины, страны, в которой я живу, на которую тружусь и которой горжусь. И, к сожалению, надеялся, что это взаимно. Однако геноцид в нашей стране принял необратимые формы. Погибает Украина. Уничтожение стариков и несоздание природной возможности молодым воссоздавать потомство.… Более глумливого воздействия со стороны всех ветвей власти не создавала еще ни одна империя. Кто виноват? Поищи ответ в разговорах народа на кухнях. Но все молчат в тряпочку, ожидая, что вот придет барин, он все рассудит. Я пережил и красные флаги, бог дал мне увидеть и бело-синих и сине-красных, и оранжевых, и даже увидеть голубые, представители которых, Господи, меня уже пытаются поиметь. Эти неграмотные рвачи и хапуги. Хотя Украину они уже «поимели». Экономический развал, нищета, падение нравов молодежи и возвратившиеся бандитизм и воровство. Государство — это мы с вами, весь наш народ. И если мы это терпим, то мы с вами достойны этого правительства, которое мы же и выбирали. А теперь ешьте и не подавитесь. Вспоминаю с горечью слова таможенника из фильма «Белое солнце пустыни». За Державу обидно!
Утро. Выпускник ремесленного училища №5 пересекает весь город, торопясь на работу. Два года учебы за спиной и он уже «мастер». В карманах ни шиша. Утром чай, вечером тоже чай. Днем — тормозок, данный матерью. Он определяет прожиточный минимум. Кусок хлеба и жареное, или вареное, яичко от куриц, пока еще бегающих по подворью родной Сычевки в послевоенных частных хибарах на далекой, пока глухой еще, холодной окраине Харькова. Тяжело обществу. Молча зализывает раны, оставшиеся после войны и, кряхтя, строит и поднимает экономику страны. Восстанавливает разбомбленные строения и разглаживает скомканные от горя души населения. Но нет и в помине упаднического настроения, и люди все-таки иногда и улыбаются, надеясь на завтрашнее счастливое будущее, и которое с надеждой ожидали наши предки, и которое теперь ожидаем и мы, и даже, может быть, будут ожидать наши потомки. Ну не мы, так наши дети или внуки, а может быть и правнуки, когда-нибудь увидят этот остров «Утопия» писателя Томаса Мора.
После окончания Отечественной войны страна залечивала не только раны нанесенные войной, но и смягчала горечь памяти людей. Подрастающая молодежь нашей эпохи слишком рано вступала в жизнь. Но она уже была готова к этому и быстро созревала. Юность не страшилась ответственности за произведенное по своей воле, своим разумом, опираясь на патриотизм, без подсказки старшего поколения, без понукания начальственных слоев. Вот именно в это время вырос и я. Морально и физически. Окончив ремесленное училище, я получил диплом слесаря, т.е. стал мастером.
Проезд в троллейбусе, через весь город, от мясокомбината до завода ХАЗ, авиационного завода, на который меня направили работать, составляет 28 остановок. Каждая остановка равна четырем копейкам. Мой бушлат ремесленника каждый раз вызывает жалость у кондукторов, которые клянут всех и вся, теребя каждого входящего, требуя оплаты за проезд, и одновременно мягко подталкивают меня бесплатно пройти дальше, в середину салона, в упругость нагретого от теплых тел воздуха, чтобы я смог, уцепившись за поручень, досмотреть свои сонные химеры о красивом и счастливом будущем, и проснуться от сонной дремоты возгласом — авиазавод, и выскакиваю наружу, не забывая сказать этим мягким и усталым от жизни, повидавшим много горя людям, спасибо. Иной раз во сне, лица этих добрых людей, как слайды моего прошедшего детства, всплывают в моем альбоме мозговой памяти.
ОТРОЧЕСТВО
Иногда приятно взглянуть на себя со стороны, минуя зеркало. Зеркало может только подсказать о твоей небритости, или смущенно указать на отсутствие бицепсов и наличие приличного животика, или отметить синенькие мешочки под глазами и кучерявость отсутствующих волос, или потухший от старости взгляд слезящихся глаз, или темный загар почерневшего и сгорбившегося, от неумолимо быстро скользящего времени, твоего силуэта. Но оно не может отобразить внутреннего загара, который и делает нас такими разными людьми. Загара, приобретенного знаниями, опытом, трудом и загара самобытности, вложенной в тебя генами родителей и матушкой природой, которая наделяет определенное количество потомков Адама и Евы удивительными качествами таланта. Кому–то она дает возможность изумительно танцевать, кому–то прекрасные вокальные данные, кому-то вложила в руки музыкальные инструменты и т. д. Во мне этого всего было понемножку, как сдобы в тесте, но я не воспользовался возможностью развить, что-либо одно, поэтому юность моя прошла под девизом: «Интересно все и сразу». Опекали меня тетки — музы и феи. Каждая из муз, поцеловав меня в детский лобик, отдавала мне крохотки своей любви. Каисса, дунув на меня, дала возможность стать кандидатом в мастера по шахматам. Мельпомена ввела меня мир искусства. Эрато провела меня коридорами любви, хотя после рассматривания Камасутры, на старости лет я понял, как мало я знаю. Клио и Талия тоже не забыли меня. И только остальные музы смотрели на меня сквозь пальцы, не вмешиваясь в мое развитие, однако и не мешая мне находить красоту в моей наступающей и развивающейся жизни.
Я никогда не был ни пионером, ни комсомольцем, ни членом какой-либо партии, поскольку вожди этих организаций боялись моей непредсказуемости и моего иронично-злого языка и, соответственно, старались держать меня на расстоянии от участия в их «великих свершениях». Сорокалетние дяди и тети, «молодые» комсомольские вожаки пытались учить нас уму разуму, проводя свой отдых в баньках и ресторанах, с девочками и водочкой, и их оргии длились до самого утра. С большой радостью, только чтобы от меня избавиться, комсомольская организация дала характеристику в духовную семинарию, в которой, по юношеской глупости, мне захотелось учиться. В то время без этой бумажки, рекомендации комсомола, в Бурсу не принимали, так как преподавателями в Бурсе были сплошные члены компартии.
третий парадокс
Для меня тогда это было историческое событие, потому, что я нечаянно ознакомился с содержанием этой четко написанной характеристики. Оказывается я положительный, степенный, начитанный, характерный, обязательный, уважительный, умный, и т.д., а в самом низу этого документа, как рекомендация к действию: желательно ограничить лидерские и организаторские способности, а также понизить ораторский пыл. Во как! Указание поповскому персоналу к действию. Действительно, с моим характером я продержался там всего четыре месяца, и был отчислен «Попашей» за внедрение атеизма в епархии. Но я благодарен комсомолу хотя бы и за это. Однако, имея сейчас за плечами достаточные лингвинистские познания и кое — какое скудное образование, до сих пор не могу понять, что все-таки означало слово в характеристике — характерный. Какое качественное понятие оно имеет? Ну, бог с ними, очень умными комсомольскими ребятами того времени. Хотя сегодня я принимаю это больнее, чем вчера, потому, что все они, работники комсомола и партийные работники, все без исключения, стали рвачами и негодяями, отбирая последнюю копейку у народа, стали (теперь я могу применить это слово) характерными хабарниками и захребетниками нашей сегодняшней жизни. Меняя свою политическую окраску, они отбирали народную собственность, возглавляя коммерческие структуры и госаппарат и, сливаясь в дружеских и родственных объятиях с криминалом, делали и делают свое общее грязное дело, под себя. Рыба гниет с головы. Но и об этом потом, поскольку я своими извилинами нахожусь еще в юности, а не под голубыми знаменами маразморегионов. Наверное, хватит и о парадоксах, потому, что вся наша жизнь состоит из одних парадоксов. Это отнюдь не потому, что бью себя кулаком в грудь как обезьяна, пытаясь доказать, что непревзойденный, и громила, и умница, и Кинг-Конг, и вообще…
*****
Нас было семь человек, одного примерно возраста, проживающих на родном Сычевском переулке. Саша Гурьев, Виталик Черножуков, Шурик Кулаков, Виталик Сторожев, Коля Поляков, я и брат Николая, Валентин Поляков.

Я у них был лидером не потому, что был наиболее начитанным, и на голову выше по развитию. Просто я пользовался уважением и, наверное, чувством уверенности, что не подведу их в трудную минуту, как герои Джека Лондона, о которых я им рассказывал.
Я рассказывал им о том, что сам прочитал, и что было для меня совсем понятным, но для них это были сказки, о которых они хотели слушать часами. Это истории, обрамленные в сутану прошедших событий и выставленные на обозрение вам, уже потомкам. У каждого из моих друзей своя биография, свой жизненный путь и не мне судить, что было в их жизни правильно или не правильно.
И молодыми щенками, лежа на зеленой траве и наблюдая за движениями облаков, подложив под головы руки, мы упивались свободой мысли в обработке фигур, создаваемых облаками, а я в это время рассказывал им римские и греческие мифы и был уверен на тысячу процентов, что они мысленно создавали и превращали эти фантазии, трансформируя все это каждый по-своему, эти легенды и мифы, в свой сказочный, и только им знакомый и близкий мир, до которого можно было подать рукой. И, между прочим, я этому был искренне рад.
Шурик Кулаков «подзалетел» и вынужден был жениться на девушке Вале, старше его на три года, с которой он встречался. Свадьба была скромной и быстрой, оставив на память ряд фотографий, фиксирующих это событие, а нам, шестнадцатилетним хлопчикам было не интересно на этой бесшабашной и алкогольной свадьбе. Взрослые отгородились от нас алкоголем, распевая веселые песни, а мы гурьбой, вывалившись из хаты, пошли по Державинской на стадиончик чулочной фабрики, где и расположились на зеленой травке, в предвечерней туманной дымке и под гитару пели свои песни, присущие нашему возрасту. Два молодых милиционера подошли к нам, когда я пел «сиреневый туман», очень модную по тем временам песню, и приказали прекратить песнопения. Мы пытались возражать им и объяснили, по какому поводу собрались здесь. Но милицейский апломб и чувство вседозволенности и власти, преобладало над правилами этики и порядочности. Была вызвана черная машина и нас сапогами под зад затолкали в этот «воронок» и привезли в участок на Плехановской. После долгих препирательств все были отпущены, а я, отстаивавший свои законные права на свободу по Конституции, и самый «ишь ты, какой грамотный, ах ты гаденыш», был оставлен в камере. Утром состоялся суд, на котором судья, страшная карга, с бородавкой на носу, и сильно курящая мадам, крикнула из кабинета: — старшина, заводи следующего. Не выслушав меня и не разговаривая со мной, она произнесла речь, из которой следовало, что я, находясь в стадии опьянения, жестоко избил милиционера, оказывая сопротивление мастеру спорта по самбо, распевал злобные, похабные, не комсомольские песни. И игрой на гитаре «мешал на поле стадиона чулочной фабрики спокойно спать, в девятом часу вечера, жителям города Харькова». Во как! Я мешал жителям спать на стадионе. Ни больше, ни меньше. Я попытался возразить: — но я… Она ответила: — мотня. Пятнадцать суток. Старшина, заводи следующего! И была моя голова обрита под ноль, и познакомился я с нарами, и пришлось мне увидеть живых клопов и ощутить их ночные поцелуи, и расчесывать ногтями свое зудящее тело, и увидеть настоящих урок, и попробовать баланду, и научится правильно мести улицы в 5 часов утра. А радовался я только одному, что какому-нибудь дворнику я дал лишних пару часов поспать в мягкой постели и помог нашей милиции моим арестом выполнить план по поимке преступников, злодеев, бандитов и расхитителей социалистического имущества. И ни наши родители, ни профсоюзы с работы наших родителей, не смогли сломить правильный, апломбный, вонючий дух нашей доблестной милиции и судебных органов, оберегающих наше радостное и счастливое детство, и вершащих высшую «справедливость». И я так же понимаю, что сегодняшние дни мало чем отличаются от вчерашних дней по оценке работы как судебных, так и правоохранительных органов.
1-го Мая я был осчастливлен 15-тью сутками, а 15-го Мая, в 6-ть часов утра гордо, светя своей лысой головой, топал в грязной одежде и порванных башмаках домой, и нес в карманах, щелях и складках своей одежды клопов, как награду за честный свой труд на благо милиции и самого справедливого советского суда в мире.
На душе было тепло и спокойно от мысли, что я впервые на практике сам понял: любая власть — это насилие!
*****
Футбольные баталии, происходившие между улицами или поселками, собирали множество поклонников и фанатов любого возраста. Заброшенное футбольное поле чулочной фабрики на улице Державинской, перпендикулярной улице Плехановской, собирало по воскресеньям множество народу. Все, и стар и млад, жаждали крови. Нет, это не то о чем вы подумали, хотя в этом тоже был некий смысл, потому, что и проигравшие и победители в послематчевых разборках, доказывали на кулаках — кто и как, во время этих игр, был неправ. И более всего именно за эти периоды нас и любили наши поклонники и фанаты. Стенка на стенку, в которую втягивались знакомые, друзья и родственники. До разбитых носов, ушей и треснувших бровей Все мы искали истину взаимоотношений. Самое интересное, что не было ни проигравших и побежденных, и победителей, а была общая эйфория, снимания со своих плеч какого-то вожделения быть первым. Нет, этого не было. Поколение моего возраста, наверняка помнит свои юношеские и, уже достаточно взрослые года. Это все прошлое.
Как лидер нашей Сычевки, я ходил на встречи с лидерами других улиц и поселков, договариваясь о днях и времени встреч и проведениях состязаний. Меня знали в нашем хулиганском Коминтерновском районе, уважали и не обижали, хотя я никогда и ничего не боялся, отстаивая свои права и права своих соплеменников, и что в последствии сослужило хорошую службу, когда я стал играть на танцплощадках, войдя в мир взрослых.
В этих футбольных встречах меня всегда просили быть голкипером. Это сейчас слово голкипер означает вратарь, а тогда это было модным словечком, и это был единственный человек, являвшийся последней опорой в матче. При моем высоком росте, физруки наперебой выхватывали меня в свои секции, и благодаря этому, я достиг определенных успехов, получив первые разряды по волейболу, легкой атлетике, велоспорту, стрельбе из мелкашки, и т. д. Наверное, вы помните слова из фильма того времени, «Эй вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот. Ты представь, что за тобою, полоса пограничная встает». Поясняю вам, почему эти встречи происходили на пустырях, на заброшенных площадках. В городе Харькове была единственная футбольная команда «Локомотив», представленная в высшей лиге и затем игравшая с противниками пару раз в месяц на стадионе «Авангард». И естественно, на стадион нас не пускали. Там были свои правила и своя пропускная система. Юниоры и ГТО появились в Харькове много позже. Этот стадион переименовали в стадион «Металлист». Конечно, были и другие стадионы, но на этот, родной, нас не пускали. Остальные дни поклонники футбола проводили на этих заброшенных полях, наших аренах битв гладиаторов юношеского возраста. В чем смысл их посещений? Конечно, это адреналин, которого в те годы не хватало послевоенным людям, и ребятам, боящихся родителей и боли, но желавших доказать, что они не хуже соседских пацанов. И, естественно, горячо накричатся, и поболеть за своих. А, между прочим, вам известно какие были в то время мячи? Ха-Ха! Кирза, искусственная кожа, чуть ли не металлическая ткань, остающаяся в мастерских после изготовления сапог, в виде кусочков, шла на изготовление красавцев мячей. Эти мячи, попадая вам в щеку или в лоб, оставляли выпирающими швами приличные отметины, которые в последующие годы очень медленно стирались с лица. И вечера или ночи, когда разорвавшиеся и лопнувшие мячи мы сшивали, действуя шилом и иглой, пропуская дерюжную нитку в швы, остающиеся в мячах, и вставляли в них вновь склеенные камеры. И эти вновь сшитые рубцы мяча оставляли отметины в памяти и на лице шрамы, как от настоящих гладиаторских битв.
*****
Самым большим поклонником наших поединков был дядя Яша. Нет, не с точки зрения посещений этих встреч. Он их физически посещать не мог, в виду отсутствия ходячих частей тела. Его ноги остались лежать в земле далекого неизвестного германского городка, закопанные с другими частями тел наших солдат, которые по счастливой ошибке Ареса, греческого бога войны, все-таки сумели вернуться в родные пенаты из этого кровавого месива отечественной войны, может быть без рук и ног, но живые, к своим близким и родным. Его месторасположение, дяди Яши, было напротив моего дома. Он почему-то благоволил ко мне и постоянно, обнимая меня, когда я приседал рядом с ним на корточках, говорил: — сынок я с тобой, дайте этим гадам. Я знаю, я уверен, вы победите, я с вами, помни об этом. За меня. За Родину. За Сталина. Вперед. Не подведи…
Каждый день, начиная с семи утра, он на своей коляске, нет, не правильно, точнее, на своей подставке с колесиками, встречал очередной, наступающий день. И страшно пил. Да, ему приносили кто водки, кто самогон, а кто покушать, но суть не в этом. Он страдал. Наверное, каждый из нас проходил этот жуткий период, когда моральная боль достает до самого нутра, даже больше чем физическая, и когда невмоготу смотреть на этот суровый мир глазами человека, у которого в душе более ничего не остается, как тихо уйти в мир иной, где ни проблем, ни злопыхателей, а только одно спокойствие и лад. К сожалению, а может быть и к счастью, человек цепляется из последних сил за надежду, что завтра все будет хорошо и все станет на свои места. Завтра. Завтра. Завтра. И это каждое завтрашное утро, в виде теток с нашей улицы, кланяясь ему, крестясь и вытирая слезы, проходя мимо, говоря, дай тебе боже здоровья. Мужики, проходя мимо него, говорили чуть в сторону, но от души: — спасибо, брат. Но вся улица Сычевки и соседние, Переездная, Полевая и Стрелецкая, ждали выхода на девятое мая, праздник победы над Германией, с утра, этого события. Собирались посмотреть на чудо, которое я, как малец, забыть не могу и не хочу. Человек около полста собиралось на улице, и молча ждали выхода этого человека. Вы понимаете, о чем я говорю? Выхода этого безногого инвалида, артиллериста, цыгана, смешливого, умного и тоскливого парня, потерявшего ноги на этой проклятой войне. Сто метров улицы. Всего сто метров. Обычная стометровка для спортсмена,
Десять — двенадцать секунд и слава. И стометровка без славы в течение часа…
Когда я пишу об этом, у меня киснут глаза, и я ничего не вижу. А затем, протерев свои очки, я пытаюсь продолжать. Из ворот дома выходит красавец парень, увешанный орденами и медалями, бывший кавалерист, любивший лошадей, а затем артиллерист, роста где-то под два метра, и без костылей, без поддержки, проходит до конца улицы. Это не надуманный Маресьев. Это история, которая рядом с тобой, и которую можешь пощупать руками и увидеть своим юношеским взором, и которую придумать нельзя. Это наше прошлое, от которого отворачивают свои взоры люди, наделенные властью, и которым дали жить, хорошо жить, эти реликты, и которых, к сожалению, уже нет рядом. Он возвращается к своей калитке, пройдя всего, каких-то сто метров, где его поджидает жена, бывшая медсестра, спасшая его на поле боя и не отдавшая чертям и шакалам забрать его тело и душу. Она подхватывает это, уже почти невесомое тело на свои маленькие ручки и, отстегивая на ходу страшные и тяжелые, как оковы, протезы, которые падают возле ворот, обагренные кровью его истертых конечностей, несет в дом. Все молчат. Мужики похнюпившись, женщины вытирая слезы. Я боготворю всех женщин, которые бескорыстно отдают свою душу семье и заботятся о семейном уюте и очаге домашнего счастья. И глядя на маленькую медсестру, понимал, какую тяжесть вынесли и выносят на плечах наши милые женщины. Сколько нужно сил и упорства выдерживать на своих хрупких плечиках бесконечный и неподъемный груз бытия. А вечером он снова, черт возьми, цыганская его душа, появляется у палисадника на своей подставке с маленькими колесиками, с перебинтованными обрубками ног, с выступившими сквозь марлю пятнами красных цветов. И улыбается, и поет свои цыганские песни под гитару, и дуновение его души настолько приятны и знакомы, что думаешь, эх, сейчас свернусь в прошлом и развернусь в настоящем, чувствуя, что его желание защитить свою родину ценой собственной жизни не было надуманностью и фальшью. И своей нелогичной и нелепой бедой, все-таки нашло отклик в душах людей его окружающих и жалеющих его от чистого сердца. Это он дал мне толчок для любви к музыке. Это он дал мне первые азы игры на гитаре и понимание душевного состояния человека через музыку. И вся Сычевка сползается вечером к его дому со своими харчами, какие у кого есть, и как дань его жертве за нас, медленно и тихо, сносят ему эти последние, может быть для своей семьи крохи, к этому алтарю мужества и бескорыстия. Громадные слезы, как сосульки свисают из его глаз, и он молчит и толпа молчит, смотрят друг на друга, и на него, а мы, мальцы, стоим в стороне и плачем. Мне очень тоскливо было передавать это бумаге. Нет ничего более обидного для нас, сегодняшних, видеть то, что государственный аппарат забывает о людях, давшим им эту жизнь и позволивших им жить шикарно, но забывшим, кому они за это все должны. И мне за это стыдно и больно, понимая, что должники высвечиваются и проявляются негативом на пленке истории. И я развожу руками, сжимая кулаки в бессильной ярости…
ЮНОСТЬ
Привет тебе, привет, моя доблестная, ободранная, срамная Армия. Очаг страстей, вони, подлости и в еще большей степени отщепенства нашей жизни. Орган, одновременно и воспитующий, и разлагающий молодые, не сформировавшиеся еще, молодые души. И что рыба гниет с головы, я уяснил для себя, однозначно, с вонючих портянок. Понял я это, отслужив положенные конституцией и приказами министра обороны, три вычеркнутых из жизни года. Так уж сложилось, что когда нас призывали защищать родные пенаты, это звучало как доброволие. Мы и понятия не имели, что на самом деле ожидает нас. Тем не менее, я уже курсант и тысячи проблем остались за спиной. Это я, «мастер», окончивший ремеслуху, не пионер, не комсомолец, не член партии «комунестичегокуда», стал учиться защищать свою родину. Люблю историю, которая преподносит сюрпризы, связанные с воспоминаниями и сравнениями. И сегодняшние события очень напоминают наше прошлое. То же самое, только другими словами и подтекстами.
Однако, сегодняшние дни постоянно проводят параллели сравнений с историческим прошлым. Губернаторы, председатели всех уровней и мастей, головы, мэры, «пердизенты», депутаты, независимо от их званий и названий, все так же защищают свои собственные интересы, интересы и карманы своих детей и внуков. Ребята, стоящие у руля власти, не желая плохого для своих отпрысков и себя, заставляют защищать их кланы моим здоровьем и моими руками. В свое время я получил ответ на мой депутатский запрос, подписанный президентом Кучмой. Обычная отписка. «Пердизент Украины, на Ваш депутатский запрос сообщает следующее…» И смешно и обидно. Документы подписываются не глядя, так как наш лидер страны их даже не читал. А дяди и тети, готовившие эти документы, зачастую полуграмотны и работают в аппаратах по протекции и семейным связям.
*****
Я отсутствовал целых три года. Моя мать, в мое отсутствие, перенесла инсульт, а я не имел возможности ей помочь и поддержать в последние годы ее жизни. Абсурд. Я ненавижу вас, протолкнувшихся к корыту власти, не потому, что вы нехорошие дяди и тети, а потому, что, воздействуя на умы молодых ребят, возвращаете общество к исторически уже описанным кабале и рабству. Самое неприятное в этой ситуации, что ваша когорта сегодня неуязвима. Я с искренним уважением вспоминаю исторические справки Богалея. Все снова повторяется. История возвращает нас на круги своя, меняя только названия. В ваших руках судебные органы, зависимые получением квартир, земель, и всевозможных льгот, прокуратура и силовые структуры, якобы защищающие наше спокойствие и благополучие, и эта гребаная армия, все вместе защищающие вашу неприкосновенность. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что сотрудники прокуратуры, налоговой полиции, органов милиции, судьи, ездят на дорогих машинах, которые при их зарплатах приобрести невозможно? Трех-четырех этажные коттеджи, «малэсэньки хатыночки», если помните изречение нашего первого президента. Ежедневно обедающие в дорогих ресторанах и отдыхающие где-то там, в теплых и прекрасных странах. Выводы делайте сами. Все это я понял, только тогда, когда прожил свои, уже ушедшие в никуда, и пропавшие мои 70 лет. Но, возвращаясь к армейским будням и, связанные с этим воспоминания, спешу сообщить следующее. Подмосковье. Переславль — Залесский. Школа сержантов связи. Место рождения потешного флота Петра первого, на знаменитом озере Плещеево, где находились дачи наших великих вождей, и на берегу которого снимались известные фильмы: «Война и мир», «Петр первый», и многие другие. Я ходил по этой малюсенькой макетной старой деревянной Москве, среди маленьких игрушечных домиков и будто с высоты птичьего полета рассматривал фигурки воинов, зданий и сооружений. Пожар в Москве времен Наполеона. Сгорающие как спички дома, и клубы дыма, поднимающиеся над макетным городом. Впечатляющая картина. А за окраинами Переславль-Залесского торфяные болота, на десятки километров влево и вправо, и далеко–далеко. И тоже горящие, но изнутри, и мы солдаты, привезенные на эти торфяные болота, пытались тушить эти пожары. Ни техника, ни наши руки и желания, не могли остановить эти процессы, разгоравшиеся под землей, под верхним, подсохшим слоем болота. Мы могли лишь только снижать уровень горения, но не остановить этот процесс. А на том берегу озера Плещеево, живописные дачи — дворцы. Дачи наших вождей. Сталина, Андропова, Хрущева, Брежнева. Это только сейчас дачи стали принадлежать «сильным мира сего» — нашим «нардбздепам». Действительно живописные места, которые созданы природой не для нас. Прискорбно. Прозябая в наших хибарах, думаешь: эх, твою мать… Почему этим клопам — отщепенцам и глистам, паразитам нашего общества, дано беспредельное право быть судьями над жизнью ни в чем не повинных людей. Неужели этот верховный судья, наш и их Бог, позволил этим хорошим и добрым, и любимым нами дяденькам, вершить судьбы людей, которые тоже произошли от Адама и Евы. Это глупость и тупость наша, позволившие соглашаться с этим. И я, этот старенький, и может быть глупый человечек, презираю их. От души. Чтоб вы насытились этой голубой, на сегодняшний день, вашей свободой и нашей кабалой. Будьте счастливы, если сможете, и подавитесь этим. Наверное это высказано очень зло, но что поделать…
Майор, представляющий органы защиты народа от иноземных посягательств, нашей родной и любимой Совармии, по политической ориентации, майор Митусов сказал мне искренне, от души, слова: — я тебя, страшная сволочь, отправлю служить к белым медведям. И, от слов которых, я рассмеялся. Это было связано с сознанием, что там, где живут белые медведи, никаких воинских частей нет, и быть не могло. Конечно, то, что я привнес в армию новые слова, слегка обескуражило и обидело офицерский состав. Понятно, кому может понравиться звания «Поллитруха» вместо политрука, или «Замкомзада», вместо замкомвзвода, или «Комотчасти», вместо комчасти и так далее. Обиду их я и сейчас осознаю и принимаю, однако… Каждую субботу, вечером, в местном кинозале проводились показы фильмов, на которые нас, солдат, будто слонов, гурьбой водили в зал, как на водопой. И не важно, что в трех тысячный раз смотрели поистине изумительный фильм про Чапая. Да бог с ним, с этим Амоном того времени, с этим солнечным богом израильской империи, суть в другом. Мне до сих пор приятно вспомнить слова Чапаева, врезавшиеся в память, «где должен быть командир», и уже вся часть повторяла хором мои слова — в жопе! Хохот и тишина, и все ждут, а кто сейчас из офицерского состава крикнет: — курсант Рекушев — на выход! Я сейчас улыбаюсь этим детским воспоминаниям. Но тогда! Стадо солдатских мустангов впускали в стойло зала в одни ворота, а остальное плебейское офицерское общество и их родственные и семейные ветви, заносились в другие. Ну и что с того, что я над этим офицерским входом приколотил табличку «вход только для белых». Я что-то нарушил? Однако майор Митусов в течение получаса рассматривал меня, как амебу под микроскопом пытливого ученого, и многоязычно изрек: — ……Я надеюсь, всем понятна тирада военного политрука, которой я не хочу пачкать писчую бумагу. Для этого существуют туалетные рулоны описивания и уничтожения нежелательных словесных отходов подобного творчества. В то время в моду входили представления КВН, клуба веселых нахалов, как с моей легкой руки, и не менее легкого в то время языка, и по детски надеялся, как будущего космонавта, вырывались подобные изречения. С предложением о проведении которых, я и обратился, к своему непосредственному начальнику, то есть к сержанту. Он, опасаясь, что я смогу что-нибудь опять отчебучить, естественно, доложил об этой инициативе своему непосредственному начальнику — командиру взвода, который в свою очередь обратился к своему непосредственному начальнику — командиру роты, который в свою очередь, обратился к своему, непосредственному начальнику, командиру полка, который в свою очередь обратился к своему непосредственному начальнику — командиру части. Как вы думаете, для чего я вам все это рассказал? Только лишь с моей точки зрения. С точки зрения маразма. Когда у меня уже поехала крыша от этого уставного дегенератизма, его величество, командир части, соизволило взглянуть на меня далеко не как майор Митусов на амебу, но более серьезнее, чем как на таракана, выловленного на космическом корабле. Я стал во фрунт перед очами его величества, уже зная заранее, что дни мои сочтены дисбатом. Каково же было мое удивление, когда это животожелеобразное и мерзоколыхающее создание, впившись в меня маленькими свинячьими глазками просипело: — ты знаешь, сынок, может быть это и хорошо. Разрешаю. Я онемел. Это же, сколько нужно было инстанций, для того, чтобы сделать для солдат маленький праздник, и для них же, увидеть, что рядом с ними такие же люди и может даже менее ущербнее, чем они. Обделаться и не вытереться. Конечно, я пропускаю подробности этих подготовок. В каждой роте я переговорил с харьковчанами, из соседних взводов, которых было немало и, с которыми, я был знаком, Гриншпун, Козырев, Кручаков и многие другие, и мои братаны из взвода, составляющие список из 22 человек, который у меня сохранился. Я перед выпуском из сержантской школы написал шуточную присягу с детским и мягким, на мой взгляд, юмором, и все двадцать два сослуживца нашего взвода оставили свои адреса и скрепили их подписями. А я изготовил местные печати, изговляясь ночью над резиновой подметкой сапога, со скальпелем в руках, вырезая клише заголовка и печатей, и ударял этим печатным клише, слюнявя на этом местном резиновом шедевре чернилами, и впивался в этот бумажный документ изо всех сил, изготовленными печатями. 22 листка присяги, получили сослуживцы нашего взвода перед расставанием и разъездом по точкам дальнейшей службы. Я, конечно, приведу ниже этот документ
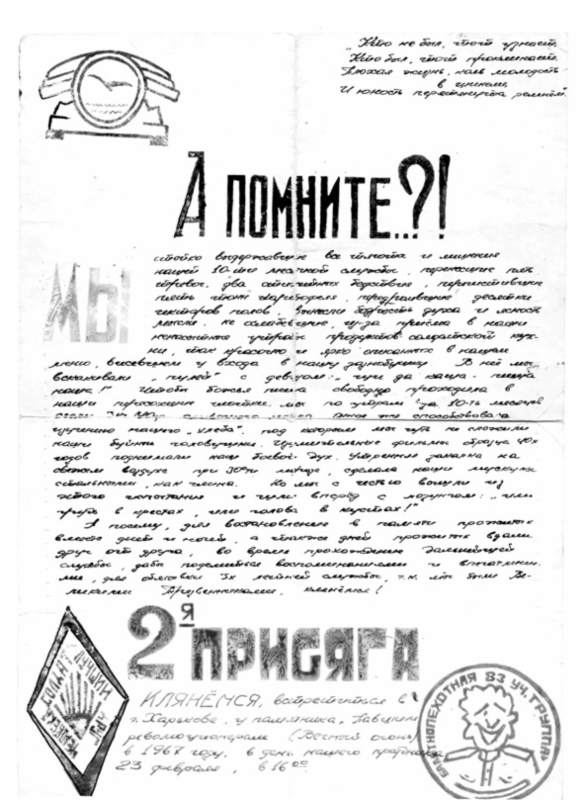

для подтверждения этих событий, и, чтобы вы, мои друзья по армейским будням, вспомнили обо мне и сказали, Жека, мы тебя не забыли и любим. Правда, чернил на языке не осталось. Но если появится в этом необходимость, то я готов еще раз вымазать синей штемпельной краской свой язык для большего доказательства, что это действительно было на самом деле.
Вы помните курсанта Рекушева, с синим языком, который, проходя мимо офицеров, отдавал честь, высунув этот сине-штамповальный языковый аппарат до самой шеи, получая за это удовольствие наряды вне очереди? Поскольку масштаб этой присяги не стыкуется с масштабом книги и не позволяет ознакомиться читателю, что же там написано, я приведу этот текст печатными буквами, чтобы и вы могли представить себе, что же там было написано:
В правом верхнем углу: Кто не был, тот узнает.
Кто был, тот проклинает.
Плохая жизнь,
коль молодость в шинели,
а юность перетянута ремнем
А помните?!
Мы, стойко выдержавшие все тяготы и лишения нашей 10-ти месячной службы, перенесшие пять тревог, два стихийных бедствия, перечистившие пять тонн картофеля, передраившие десятки гектаров полов, вынесли бодрость духа и ясность мысли, не ослабевшие из-за приема в наши ненасытные утробы продуктов солдатской кухни, так красочно и ярко описанных в нашем меню, висевшем у входа в нашу зазнобушку.
В нее мы вскакивали «пулей» с девизом: «щи да каша — пища наша!». Чтобы божья пища свободно проходила в наши пересохшие глотки, мы по утрам, за 10-ть месяцев, съели 6 кг. 140 гр. сливочного масла. Оное же способствовало изучению нашего «хлеба», под которым мы чуть не сложили наши буйные головушки. Изумительные фильмы, образца 40-х годов поднимали наш боевой дух. Утренняя закалка на свежем воздухе при 30*ти градусном морозе, сделала наши мускулы стальными, как глина. Но мы с честью вышли из этого испытания и шли вперед с лозунгом: «или грудь в крестах, или голова в кустах!» А посему, для восстановления в памяти прожитых вместе дней и ночей, а так же дней, прожитых вдали друг от друга, во время прохождения дальнейшей службы, дабы поделиться воспоминаниями и впечатлениями мы, для обмывки трехлетней службы, т.к. мы все были великими трезвенниками, клянемся!
2-я присяга.
Клянемся, встретиться в г. Харькове, у памятника павшим революционерам (Вечный огонь) в 1967 году, в день нашего праздника, 23 февраля, в 16—00.
Скрепляем присягу подписью и оттиском перста.
Мы, ниже подписавшиеся: Далее идет список ребят, их фамилии, имена и отчества, с подписями и домашним адресом. Каждый из нас получил на память этот листок.
Слева, в нижнем углу печать, солдат — лучший друг человека. Справа, — балетно-пехотная 83 уч. группа.
Ребята, братаны, а может быть и ответите мне, пережившему свои шестьдесят лет, вашему другу, если еще живы, который не предавал, и который защищал вас, чертей, в часы недоразумений. Я покрывал вас своим языком, и от имени вас, защищал от дегенаратизма службы, как от бомбы, которую я своим языком готов был взорвать в любую минуту. Я надеюсь, что те ребята, которые сохранили эту присягу, сможите ответить мне.
Возвращаясь к предыдущему повествованию, отмечаю, что мы и создали это КВН-овское чудо для солдат, сотоварищей нашей части, примерно из шестисот человек. Это я для того, чтобы не открыл военной тайны о количестве человек в школе. Наши письма прочитывались под микроскопом первого отдела, и жирными штрихами зачеркивались выстраданные мысли и слова, направленные родным и близким.
Как не вспомнить события на Кубе, когда всю часть выстроили на плацу, и зычный голос командира части довел до нас ситуацию о событиях в родственной нам коммунистической державе, на острове Свободы.
Часть! Равняйсь! Смирно! Добровольцы на Кубу, шаг вперед! Замерла часть. Ни один сапог не стукнул на приглашение нашего атамана. Минута молчания, а затем, в морозном воздухе прогремело. Повзводно, марш-бросок, 30 километров. Выполнять! Бегом, марш!
Стадо баранов, ведомые упитанными, и увешанными портупеями командирами, рванулись в синеву раннего утра, пугая одиноких галок, сидящих на высоких и голых деревцах, припорошенные снегом. Смешливое эхо сопровождало наше показательное, бегущее шоу. Ху! Ху! Ху! Из наших бегущих, молодых глоток вырывался пар. А вместе с паром эхо оставляло последнюю недосказанную букву нашего фольклора.
Задание выполнено, и вновь выстроена наша часть в ожидании появления царя-батюшки.
Часть! Смирно! Добровольцы на Кубу, шаг вперед! И снова морозное молчание, и снова ласковое предложение продолжить бег, но уже 50 км, и в противогазах. Возвращаемся почти на четвереньках, хромыми, уничтоженными физически и морально, и с мыслями, далеко не праведными. Нас элементарно, физически, сломали. Поимели, не спрашивая согласия.
Часть! Смирно! Добровольцы на Кубу, шаг вперед! И тысячи сапог впились в землю. И свою задачу выполнил генералитет. И Россия выполнила свой международный долг. И наши кубинские братья могли спокойно заснуть, для продолжения защиты своей родины от этих мало известных и незнакомых нам, американцев, нашим согласием сложить свои головы там, за далеким и чуждым нам, океаном.
Возвращаясь к вечеру, связанному с проведением КВН, сообщаю, что вся часть была на пределе ожидания. Я не был тамадой, отнюдь, однако практически участвовал в самом процессе подготовки. Я не мог чего-либо не организовывать или не быть участником, каких либо событий. (Фиг вам, чтобы стоял в стороне от событий).
Произошел конфуз во время происходящих событий проведения состязания КВН. Бог наделил меня сумасбродным чувством карикатуризма. Я искривлял все, что видел и слышал. Ну, извините, уж я такой, какой есть.
Итак, когда между ротами возникла игра карикатуристов, за пару минут изобразить красками мысли об озере Плещеева, я имел неосторожность на большом листе ватмана нарисовать берег озера и сидящую на валуне большую, красивую и прекрасную задницу девушки. С длинной косой, с сарафаном до пояса, и черт меня дернул, с лицом жены командира части, повернутой на сто восемьдесят градусов и обращенную своим взглядом в зал. То, что я сделал, вызвало гомерический хохот в зале. Минут десять зал невозможно было узнать. И икали от хохота и не могли остановиться. Ухмылялись даже офицеры, пришедшие с женами, дочками, и девушки, работавшие в части, а я молчал и внутренне радовался, сколько же нужно было бы лекарств, чтобы насытить это количество людей весельем. Мне тогда показалось, что хватило одной искорки юмора. Пусть даже, может быть, и слегка пошловатой. Вечер КВН был скомкан, а я впоследствии был отправлен, как и сказал майор Митусов, к белым медведям в Забайкалье, о чем нисколько не жалею.
Жена командира части перед моим отъездом попросила подарить ей на память этот шарж, и я с удовольствием его отдал со своим первым в жизни автографом в стихотворной форме, по ее просьбе, и который записан во второй книге — поэзия.
Искренне был рад, что у женщин из нашей части не было в мою сторону косых взглядов и жестов, или обид на мои незлобные шутки, хотя я каждой тыкал, а не выкал, отпуская шуточные стихотворные каламбуры — комплименты, вызывая на их лицах улыбки. Я их всех любил, независимо от возраста и сословия, а они отвечали мне тем же, четко зная, что никогда их не сдам, даже под пытками. Они не обижались и друг на друга, деля меня как цветок или конфетку, и со смехом поддерживали придуманную мной сказку о себе, юноше — золушке, тихом и страстном поклоннике женских чар, ищущим свою принцессу, щупая и пробуя каждую на зуб, меряющим каждую на свой кирзовый, солдатский сапог. И это есть хорошо! А мои белые медведи приняли меня с любовью и радостью.
*****
Какое красивое слово — Забайкалье. Казарма, построенная Екатериной Первой, до сих пор стоит там не только как памятник истории. Это был в свое время форпост обороны. Не было и нет там деревьев, а только одни сопки, сопки, сопки, богом забытый край, куда Екатерина привезла громадные стволы сосен, из которых и была построена эта казарма. Однако и там были ростки жизни, далеко не глупые и имеющие право на существование — буряты. Я имею в виду и Читинскую область, и полустанки, и эту нацию бурятов, которые этот край окружали и жили в нем. Нас, пятерых солдат, привезли на этот полустанок под рудокопным названием Оловянная. Я был принят на довольствие и занял старшинскую должность, так и оставаясь простым солдатом. Но эта казарма иногда снится мне как символ защиты, когда-то, нашей страны. В этой цитадели, которую строили двести лет тому назад, то ли от татар, то ли от монголов, то ли от других басурманов, не знаю, нам было хорошо и уютно. И эта фортеция, построенная Екатериной, стоит до сих пор, напоминая, что где-то рядом проходит две границы, с Китаем и Монголией. Между толстыми бревнами сосенных стволов, наполненных паклей и еще какими-то наполнителями, проступали моховые разводы и грибные зачатки, которые мы, вместо зарядки, выскребали штыковыми ножами. И стоит это красивое и мощное, старое здание, как оплот нерушимости границ и незыбленности права защищать свои рубежи от нашествия варваров.
Я не мог болтаться без дела из-за своего характера егозы и, конечно, «сколотил» маленький ансамбль из трех человек. Барабан, контрабас, гитара. Инструменты, естественно, мы выполнили сами. Фанерная бочка со штативом, прикрученным к ее боку, и с привязанной к верхнему днищу бочки струной. Сей аппарат, представлял собой низкочастотный акустический прибор, который, благодаря разному изменению наклона штатива, изменял натяжение струны и давал возможность извлекать звуки разной высоты на низкой частоте, то есть, контрабас. Вторая фанерная бочка, с натянутой шкурой какого-то животного, даже не вспомню, и штатив с металлическим подносом из столовой, представляли собой ударную установку. Ну и конечно гитара, вырезанная из некрашеной деревянной доски, с колками из болтов и звукоснимателем от телефонных трубок, подключалась к усилителю клубной киноустановки. Микрофонами служили ларингофоны, вынутые из шлемов танкистов. Этим ансамблем мы, с разрешения командира запасного командного пункта, в котором я проходил службу, капитана Чернышева, играли в малюсеньком клубе, проводя танцевальные вечера, неся в массы культуру далекого, для жителей почти Сибири, запада. Глубинка, никогда такого не видевшая, а только слышавшая, что есть такие ансамбли как Биттлз, Роллинг Стоун и другие, валом валили на эти вечера. Яблоку негде было упасть. Танцевали даже снаружи, забывая о холоде. Но черная зависть есть у каждого, и только ее размеры определяют суть человека. Черноусый старшина, сверхсрочник по хозяйственной части, вроде и молодой мужик, но туповато-глуповатый, постоянно пакостил нам. То посылал в наряды одного из нас перед танцами, то подрезал струны на гитаре и шкуру барабана, то запирал инструменты в каптерке, а сам удалялся домой с ключами, к своей жене, делая вид, что все в порядке, и он здесь не причем. На его пакости мы мало обращали внимание, так как местная молодежь прибегала к командиру и не просила, а требовала: — Командира, давай-ка оркестру! И все становилось на свои места. Но злую шутку со старшиной я все-таки сыграл, о чем нисколько не жалею. Двери домиков, в которых проживали жители поселка Оловянная, открывались наружу. Мы ночью, втроем, наделали по большому перед дверью домика старшины, и спокойно удалились в казарму. Напомню вам, что в Читинской области морозы достигают иногда и под 45 градусов мороза. Но поскольку воздух сухой, мороз незаметен, только и успевай растирать нос и уши. Когда утром старшина попытался выйти из дома, дверь не открылась, так как путь ей преградила ледяная гора дерьма, вмерзшая намертво в деревянное крыльцо. Ему более ничего не оставалось делать, как открыть окно, выбраться наружу и топором вырубать эту застывшую дерьмобетонную сваю. Он, как скульптор, обрубывал топором кусочек за кусочком эту мраморную стелу, тем самым уничтожая нашу скульптуру, наш ваятельный шедевр. Осколки от его рубки разлетались по сторонам, а громадная часть осколков сыпалась на его бушлат, шарф, шапку. Закончив свой нелегкий труд художника по камню, он направился на службу в часть. Поскольку в казарме было тепло, кусочки дерьма, попавшие в разные места его одежды, начали таять и выбрасывать в атмосферу казармы вонь. А я зубоскалил, под хохот сослуживцев, подначивая, как умел. И что он испытатель новых видов дезодорантов, и что у него неправильно работает желудок и его надо переналадить, и что иногда, хоть раз в год, необходимо подмываться, и что апробирование новых видов ядов, для тараканов, необходимо проводить не на солдатах, а дома, вне казармы, на жене и т. д. После этого случая к нам он больше не приставал, да и мы его больше не задевали.
Я там, в Забайкалье, прожил целый год, пока проезжавший мимо капитан, начальник вновь создающегося ансамбля песни и пляски Забайкальского военного округа не был осведомлен, что, дескать, есть неординарный парень, который хорошо играет на шестиструнной гитаре классику, но, кроме того, он еще и говорливый и юморной хлопчик. А, может быть, командир части, в которой я служил, хотел от меня просто избавиться. Но моя судьба была решена. Нас в ансамбле было тридцать человек. Двадцать мальчиков и десять девочек. Ансамбль был только — только создан в Борзе, а затем переехал в Читу, и разместился в маленькой и уютной Читинской гостинице. Все, конечно, долго присматривались друг к другу. Начальник ансамбля, выпускник суворовского училища, красивый, молодой музыкант, окончивший консерваторию, и уже женатый мужчина. Его дочка, пятилетняя девочка, сидя спиной к фортепиано обнимала свою «дочку», замазюканную куклу. Она имела абсолютный музыкальный слух и, баюкая свою милую неживую кукольную доченьку, безошибочно произносила ноты, которые я ей наигрывал на фортепиано. Что потом с ней стало, мне неизвестно, но, наверное, судьба, наградив ее этим дарованием, наверное, не посмела нанести ей душевную травму, которая могла, может быть, связана с последующими жизненными неурядицами в развитии последующих поколений. Начальник ансамбля был счастлив и не скрывал своего восхищения абсолютным музыкальным слухом своей дочери. А я, мысленно вглядываясь в будущее, в свою завтрашнюю жизнь, думал о том, что когда-нибудь и в моей жизни появится такое чадо с косичками, которым, может, даст бог, мне будет, чем гордиться. И которую я буду тащить за маленькую ручку, и которая, в свою очередь, будет тащить за собой маленькую куклу — дочку и вытирать ей простуженный носик.
Сначала жили в отдельных номерах гостиницы, пока все, наконец, окончательно не принюхались друг к другу и разошлись попарно в свои номера. Я приглянулся симпатичной, тоненькой девушке из танцевальной группы, по имени Нюра, и хоть сопротивлялся из последних сил, она перешла в мой номер вместе с вещами. И стали жить совместно. Она хорошо готовила, а мне было приятно, что кто-то заботится обо мне, оторванному от дома и родных, шалопае. Полный конфуз я получил, когда Нюра захотела познакомить меня со своим отцом. Бурятские семьи отличаются от российских своей искренностью и непредсказуемостью, непринужденностью, взвешенностью и жизненной силой. Они знали, чего хотят, потому и выживали в этих нелегких условиях, безлесых и утыканных сопками сизых просторах.
Отвлекаясь, должен вам сказать, что байкальский омуль, вылавливаемый в чистейшем и глубочайшем озере на планете, озере Байкал, этот страшно дорогой деликатес готовится очень оригинально. Рыбаки, вылавливая эту рыбу, брата семейства сиговых, закапывают ее в земляные ямы или бочки и ждут, когда она загниет. Но парадокс в том, что чем больше она гниет, тем больше она пахнет и, тем она дороже, уже на перерасчет «зеленых». Она становится маслом и, одновременно, валютой. И если не обращать внимания на этот запах, который со временем выветривается, то это поистине деликатес, вывозимый за границу. И этот смрад свеже-гниющей рыбы, который привозили девчата, сопровождал наш ансамбль, разъезжающий с концертами. А девчонки, танцовщицы, половина из которых были бурятки, принося нам эту рыбу, улыбались и радовались, смеясь, когда у нас возникали рвотные свойства от этого запаха, и мы гурьбой бежали в туалет, чтобы рассказать туалету наше отношение к этому продукту и оставить свое итого, уже не знаю чего, этому белому красавцу, унитазу. Мы рычали в него, а он своим белозубым ртом принимал в себя все, что мы отдавали, и хохотал спущенной и клокотавшей водой.
Когда Нюра захотела познакомить меня со своим отцом, я упал в обморок, шутки для, а она искренне радовалась, что я воспринимаю неадекватно эту информацию. Получив увольнительную, мы с ней поехали на полустанок Стеклянная, в ее родные пенаты, где ее отец пас отару овец. Среди сопок приютилась замызганная, старая и пахнущая кизяками юрта, а рядом машина. Волга. Белоснежная, блестевшая никелем и наворотами. Полуседой хозяин юрты с раскосыми, как у китайца глазами, сидящий на корточках у входа в юрту, мешает грязным пальцем в стакане водку, как я понял у них это обычай знакомства, протягивает мне и поясняет: — нака командира выпей, наша обычая дорогой гостя. Мы, артисты, в офицерском обмундировании ч/ш. и с портупеей, действительно выглядели как офицеры, но с погонами без линий, определяющими взаимоотношения с офицерским сословием. А он продолжал: — у вас тама, однако, харашо. Шелковеси, занавеси, прожухтора. Ты, однако, к моей Нюрка ходить ходи, любить люби, но вокруг юрты раком гонять не надо. Если она тебе не будит лубить, я тебе свою камчатку дам, ты ее трахни три рази по зада и пусть она вокруг юрта бегает, пока ты ее не пустишь к себе в юрта. А если будет малчик, он будет са мной, я ему буду папа, а девка не надо, повтори еще, я разрешаю, пока не будет мальчика, и я тебе отдам все, что у мине есть.
Я откровенно был рад этой простоте, не требующей чего-либо невозможного. Господи, дай мне возможность увидеть то, что будет завтра, и прости за все, что я рассказываю. Двадцатилетние мальчики и девочки, до этого ли нам было, чтобы рассуждать на семейные и бытовые темы. У нас на уме были репетиции, концертные выступления и немного секса. Нам некогда было думать о завтрашнем дне. Но где-то там, внутри меня, оставалось неясное желание узнать, что же там впереди, в этом неясном и непонятном будущем. Очевидно, что можно было бы выявить некоторые закономерности завтрашнего дня и даже построить некие модели развития общества. Мы устроены так, что это будущее интересует нас с точки зрения прекрасного завтра: лекарства для продления жизни, объемное телевидение, мысленное общение друг с другом и многое, многое другое, что называется желаниями и фантазиями человечества. Но другая сторона медали, о которой мы меньше всего думаем — появление забот, тревог и колоссальных усилий, для выполнения задуманного. Будущее таит в себе не только блага цивилизации, но и появление незапланированных опасностей, возникающих в процессе их достижения. Смею отметить, что это будущее, о котором я вскользь сказал, уже испытало на себе и оптимизм, и безрассудную слепую надежду, и безысходное отчаяние. Да, оно чревато кризисами, которые прогнозировать невозможно, и, естественно, связано с понятием индивидуальности. Но это ведь завтра. А мы, молодые особи, все жили настоящим. А книгу судеб еще никому не удавалось прочитать, потому, что в ней сплошные чистые листы. Да к тому же, и прячется она неизвестно где.
*****
В Борзе был запланирован первый концерт нашего ансамбля. Выпускной, так сказать. Высшее военное руководство должно было принять нашу подготовленную программу, дать ей оценку и добро для проката ее по Забайкалью, нашим братанам по службе, разбросанным по этим точкам, где кроме нас, никто и никогда не посещал и не будет посещать солдатскую братию, оторванную от дома и затерявшуюся в бесконечных просторах Забайкальской вселенной. Коротко опишу фабулу предполагаемого концерта. В глубине сцены солдатская группа на привале. Кто читает, кто пишет письмо, кто подшивает подворотнички и т. д. То есть, большой солдатский привал. Ну и, естественно, идут танцы, вокал, стихи, репризы, сольные и хоровые номера. Справа в углу, в глубине сцены, стоит макет ракеты и в конце программы раздается сигнал тревоги, ракета взмывает вверх и взвод с песнями уходит. Занавес закрывается. Все просто. Поскольку в автобусе, который должен был развозить нас по точкам, места было мало, реквизит должен был быть компактным и занимать мало места. Я предложил командиру ансамбля сделать ракету из обручей, обтянутых парусиной и которая могла складываться как садок для рыбы, точнее как гармошка, и этот сложенный пакет помещался в проходе автобуса. А чтобы создать видимость настоящего взлета и выхлопов сгоревшего горючего, предложил прибить десяток коробок с зубным порошком к сцене и привязать верхние крышки коробков к днищу ракеты. Нос ракеты на тросике тянули за кулисами вверх. Ракета взмывала, веревочки раскрывали коробочки с зубным порошком и эта белая, поднимающаяся пыль, создавала видимость выхлопных газов. Просто, до гениальности. Мой выход на сцену был четвертым, но мандраж первого в моей жизни выступления на большой сцене сотрясал меня до дрожи. Тряслись пальцы и судороги сотрясали мое тело. В этом состоянии я просто забыл прибить коробки с порошком к полу. Начался концерт. Видя мое подавленное состоянии, Володя Кустов, акробат и мой товарищ, низенького роста, смешливый и ловкий, уже выступавший на большой сцене, посоветовал принять сто грамм для храбрости и не обращать ни на что внимание, что и было с его помощью осуществлено. Подошел мой выход. На сцене установили стул и я с гитарой, подталкиваемый начальником ансамбля выкатился на сцену. Плюхнулся на стул и поднял глаза в сторону зала. И испугался. Миллионы глаз засветились светлячками из зала. Сквозь туманную, полупьяную дымку я увидел зрителей, очень внимательно следящих за мной. Трясущимися руками я положил гитару на колени и задрожал, услышав: — полонез Огинского, исполняет… Дальше я уже ничего не слышал. Пьяный туман медленно обволакивал меня. Минуты две, которые мне казались вечностью, стояла тишина, сквозь которую до меня донесся голос из за кулис капитана: — начинай, сволочь, удавлю. Я, почти не соображая, смахивая крупные капли пота, свисавшие на моем носу и капающие на гитару, начинаю играть, автоматически, этюды Каркасси, как обычные тренировочные упражнения. Закончив, поклонился и ушел со сцены. За кулисами никто не смеялся, только из зала доносилось: ха-ха, оригинальная трактовка полонеза, но все равно интересно. Я присел, на какие-то ступеньки и, прикрыв лицо руками, зарыдал. Провал. Полный провал. Вдруг меня кто-то обнял. Начальник ансамбля, этот молодой капитан, чуть-чуть старше меня, присев рядом со мной, сказал: — с крещением тебя, Женька. А первый блин, он всегда комом. Это точно, поскольку я, когда пек блины, всегда убеждался в этом. Но на этом конфузы первого выступлении ансамбля не завершились. Пустил петуха вокалист Виктор Ломакин, драматический тенор, затем солист хора, Виктор Кочкин, лирический тенор, забыв слова третьего куплета, молодец, хоть вывернулся, начал своими словами, речитативом, и не в рифму рассказывать, что там, в песне должно было случиться, и хор, улыбаясь, поддакивал ему не по теме и не в унисон. А Володька Кустов, акробат, выскакивающий на сцену из-за кулис в танцевальную группу, сделав сальто, мягко приземлился не на ноги, а на задницу, и на четвереньках уполз со сцены, и, наконец, под окончание программы, когда прозвучал сигнал тревоги, взметнулась вверх ракета и из ее днища посыпались коробочки с зубным порошком. Хохотнули в зале и раздались крики: — Ура, придумано новое твердое горючее для ракет. Теперь мы можем не заправлять ракет, ну и т. д. зубоскальство на эту тему.
Пошел занавес. Багровое лицо капитана, взрыв эмоций, вороньи взмахи крыльев — рук и словесная лузга. Он подбежал к этим коробкам, и сияющими, начищенными до блеска сапогами, изо всех сил ударил по этим коробкам. Они полопались, и эта мелкая белая пудра взметнулась вверх и как снег осыпала стоящих на сцене артистов, моих друзей, но особенно досталось капитану. А в это время занавес пошел вверх, для выхода на поклон. Гомерический хохот стоял в зале. Белоснежное изваяние капитана и осыпанные пудрой мои сотоварищи, произвели этот взрыв эмоций людей, находящихся в зале. Занавес опустился. Весь ансамбль сгрудился на сцене в растерянности, не зная, что делать. Это нельзя было назвать провалом. Это был крах. Немая сцена, как по «Ревизору». В это время на сцене появился генерал-лейтенант, начальник Забайкальского военного округа. Улыбка не исчезала с его лица. Похохатывая, он сказал: — а вообще ничего, ха-ха, есть замечания, но можно считать, ха-ха, что дебют ваш неплох, за исключением, мелких деталей, ха-ха, которые мы с вами завтра и обсудим. А сейчас я хочу поблагодарить вас, ха-ха, за пробный концерт. Так держать, мои хорошие артисты и, ха-ха, артисточки. Самое главное сделано. Ансамбль состоялся. Лукаво окинул всех взглядом и, похохатывая, удалился. Нельзя, однако, забывать, что нам было всего по двадцать лет, и почти 70% состава ансамбля впервые вышли на большую сцену. Разбор полетов происходил в танцевальном зале гостиницы, где мы расположились полукругом. Меряя своими шагами паркетный пол, капитан скреб свой затылок и приговаривал: — все. Это все. Каюк. Ну вас всех… Мы молча наблюдали за ним и молчали. А что можно сказать еще в этой ситуации, когда жизнь нашего ансамбля висела на волоске. И черт меня дернул сказать следующую фразу: — товарищ капитан, а давайте мы откажемся все выступать и разъедемся в свои части. Он побагровел и сказал: — я всю свою жизнь положил на то, чтобы солдаты, оторванные от дома и семьи, могли получить хоть частичку спокойствия и удовольствия, не забывая, что о них заботятся. Я, окончив суворовское училище, не имея родителей, был в шкуре солдата и очень хотел, чтобы они не считали себя ущербными в этой жизни. Минут пять продолжалось глубокомысленное молчание, прерываемое топотом по паркету его сапог, а затем, махнув рукой, он ушел на встречу с генерал-лейтенантом, начальником Забайкальского военного округа. Его не было довольно долго, но вернулся он сияющий, как начищенный сапог.
И все потом было прекрасно, и ансамбль прокатывал свою программу по точкам, и мой неудачный дебют забылся, как кошмарный сон, и все «набивали свои руки» опытом, так необходимым в будущей жизни, пока не пришла пора возвращаться домой, к родному очагу, через тысячу лет моей юности.
Мои ансамблевые друзяки пришли проводить меня на дембель, в Читинский аэропорт и, расположившись на летном поле, дали прощальный концерт. Были задержаны вылеты самолетов, собралась приличная толпа из отлетающих пассажиров и провожающих, а также весь летный состав маленького Читинского аэродрома. Как я этому был рад, и искренние слезы висели на моих глазах. И я не стеснялся своей сентиментальности, хотя и было стыдно за свое проявление чувств. Убегающая, и обнимающая меня в последнем поцелуе, золотая юность. Тосты, поцелуи, объятия. И, наконец, я был, «потяжелевшим» от прощаний, загружен в самолетик. И взлетели. Прощай ЗабВО, прощай Забайкалье, прощай красивейшее озеро Байкал, прощайте сопки, прощай моя юность, которая навсегда осталась за плечами армейской жизни, и которую больше никогда не вернуть. Прощайте любимые. Прощайте Стеклянная, Оловянная, Борзя, Чита, да и все остальные военные «точки» в глубине сопок и за сопками. Последний раз, махнув крылом над бескрайними просторами прошедшей юности, самолет исчез из поля зрения моих дорогих сослуживцев, принеся мне ласковое и воздушное спокойствие. Приземлился самолет, пронесший меня через просторы нашей земли из далекого Забайкалья, из Читы, с пересадкой в Москве, на крыльях скорого свидания и ожидания встречи с родными и близкими, в Харьковском аэропорту.
Явился домой я нежданно, не сообщая о своем прибытии, и не давая повода для волнений и суматохи. Офицерская форма ладно сидела на моих раздавшихся в ширину плечах, и портупея подчеркивала стройность фигуры, ростом в метр восемьдесят. Начищенные хромовые сапоги блестели от бликов ярко–белого снега. Распахнутый бушлат открывал вид на ряд всевозможных цацек, как знаки доблести и отваги в виде различных медалек и значков, выдаваемых в нашей доблестной и уже, слава богу, далекой и, надеялся, забытой Советской Армии. 30 декабря 1966 года, день в день между призывом и демобилизацией, по прошествии 3-х лет, выброшенных из юности, я появился у порога моего дома. Тишина и спокойствие царили на родной Сычевке. Раннее утро, и на улице ни души. Старое, покосившееся от времени крыльцо, встретило меня скрипом залежалого снега и полупрогнившых досок. Постучав в серое от инея окошко я отошел на несколько шагов от дверей. Натужно заскрипели с трудом открываемые двери и на пороге появилась не молодая и красивая женщина, пышущая здоровьем, проводившая меня в армию, а старуха, с седыми и редкими волосами, без зубов, и, шамкая сквозь выпуклые и блеклые губы, радостно вскрикнула, перед вслед прокатившемуся по морозному воздуху эху, — Женька, Женечка, сынок!!! Рванули перепуганные вороны с деревьев. Затявкали и завыли собаки за заборами. Захлопали соседские калитки от этого эховского набата и любопытные носы начали высовываться из соседних домов. Громкое эхо приветствий и материнской любви разбудило спящие сердца моих друзей, знакомых, соседей и вскоре в хате негде было яблоку упасть. А вновь приходящие старались хлопнуть меня по плечу, да побольнее, пока мое плечо самовольно, без моего вмешательства не стало прятаться, забиваясь в угол комнаты, чтобы его не достали, в порыве радости и страсти, вновь входящие в избу. Разноголосый шум перекатывался волнами по комнате и нескончаемым потоком касался моих ушей, а я сидел молча и счастливо улыбался, изредка смахивая непрошенные слезы со своих щек. И вот прошедшая, моя святая юность, с натугой перетянутой ремнем, осталась там, в далеком Забайкалье, ну и возврата к прошлому уже, пожалуй, мы больше не найдем. Перечитываю написанное и отмечаю для себя, даже не желая этого, получаются почти полурифмованные фразы моего повествования. Естественно, крутой стол до утра. Расспросы, ответы, воспоминания, ахи и охи, фотографии и многое другое, что мысленно разделило вчера и сегодня.
*****
Медленно наступала пора взросления. В первую очередь необходимо было наметить план действий в моей начинающейся гражданской жизни. Что делать дальше? Задачу эту помог решить двоюродный брат, Татарченко Леня. Он тогда работал преподавателем математики на факультете мехмата в Университете. Он произнес: — в первую очередь тебе надо окончить школу, т.к. у тебя аттестат отсутствует, а затем поступать в институт. Я помогу тебе подготовиться. Что и было произведено. Занятия проходили ежедневно по вечерам, за круглым столом в моей комнате и запомнились они мне с точки зрения постоянно разбитого носа, который после неудачных решений всевозможных задач и упражнений, ударялся в стол от подзатыльников брата, этого вурдалака, жаждущего крови и, которая действительно появлялась после встречи моего носа с деревянной поверхностью стола. Но эти занятия для меня не прошли даром. Я перерешал все задачи и примеры учебника Ларичева, и кроме алгебры я освоил тригонометрию и планиметрию, и даже добрался до высшей математики, теории поля, интегралов и т.д., а так же химии, физики, истории, литературы — предметов, необходимых для сдачи экзаменов в высшее учебное заведение. Затем элементарная сдача экстерном экзаменов школьной программы и получение аттестата и подача документов в институт радиоэлектроники. На все это ушло шесть месяцев, о которых я вспоминаю с тоской и ужасом, как о каторге.
Однако экзамены в институт я сдал с первого захода. На экзамене по литературе, за два с половиной часа я написал поэму на двенадцати страницах, пользуясь метафорой об уставшем городе. Как о человеке, после тяжелого и напряженного дня, укладывающегося в постельное сумеречное ложе между засыпающими парками, и с потухающими окнами домов, кряхтя последним трамвайным перезвоном, и наступающей темнотой и тишиной, как одеялом, прикрывая уставших одиноких путников и себя. Принимавший экзамен преподаватель бегал потом по институту и показывал коллегам этот опус. Сейчас это для меня уже давно забытое смешливое далеко. Копии написанного сочинения нет, а в архиве института ничего уже не осталось. Ну, да это и неважно.
По остальным предметам у меня тоже не было проблем, за исключением химии. Здесь я был слабак. Преподаватель химии изо всех сил «тащил меня», сам отвечая на вопросы билета, а затем, посмотрев лист с оценками остальных предметов, долго колебался и трясущейся, наверное, от стыда рукой, вывел на моем листке сдачи экзаменов жирную четверку, зачеркивая тройку, дополнительный балл от которой, помог мне быть принятым в институт, исходя из пятнадцати человек на место. Теперь можно было подводить итоги этого полугодового подготовительного марафона и произвести оценку разбитого носа и выпущенной в пылу подготовки, моей крови. Шутки ради, можно было с гордостью говорить: — я кровью добыл это место под солнцем! И как гладиатор на арене бытия, честно заработал студенческий билет.
Харьковский институт радиоэлектроники был создан за год перед моим поступлением, на базе горного института. Преподаватели были новые и даже плохо знакомые друг с другом. Преподаватель математики, Леонид Абрамович Шор, с колоссальным чувством юмора, интеллигентный старичок, опоздавших на лекцию принимал стоя. И, радостно потирая руки, говорил: — ну, слава богу, ветер на улице прекратился и дал вам возможность, молодой человек, беспрепятственно посетить нашу обитель и лицезреть ваше одухотворенное и умное лицо, которое изо всех сил стремилось к нам на лекцию, чтобы наполнить свою, пока еще пустую голову, знаниями. Спасибо утихнувшему ветру, давшему вам и нам эту возможность. Или, например, неправильно решенный пример или задача вызывали у него чувство притворной тоски и затем следовали слова: — на дворе идет страшный дождь, и чтобы не промокнуть, я вам предлагаю немного пересидеть в аудитории. А чтобы небыло скучно, порешайте пяток вот этих примерчиков. А после правильного решения, надеюсь, и дождь кончится, вот и пойдете догонять не зря потраченное время. Естественно, никакого дождя на улице не наблюдалось, но на него никто и не обижался, ибо он был справедлив, и даже за то, что иногда позволял хорошистам и отличникам реже приходить на лекции, будучи уверенным, что эти ребята на экзаменах не подведут. Политэкономию преподавал сам декан, но я практически редко посещал сей предмет, напоминающий дурно пахнущую гнилую рыбу, которая вызывала во мне тошноту, а во время сдачи экзамена по этому предмету, я с пафосом, как оратор, громко кричал: — да здравствует дело Ленина и Сталина! Карла и Маркса! Фридриха и Энгельса! Вперед к строительству коммунизма! Империалистам — смерть! Рабочим — да! На вопрос кто такой Маркс, ответил: — Великий экономист умер, давайте почтим его память минутой молчания. На вопрос, что вы можете сказать о Ленине, ответил: — Великий политик умер, давайте почтим его память минутой молчания. Меня резко останавливали, боясь действительно глупого минутного молчания, говоря, хватит, давайте зачетку, дальше не надо. Студенты беззлобно шутили в мой адрес, но никто не решался повторить мой номер. Остальные предметы почти не учились, потому, что мы действовали, по словам, как бы классного учителя, руководителя группы: — вас здесь учат только одному — правильно пользоваться учебниками и справочниками. И от того, как вы ими научитесь пользоваться, и зависит ваше будущее, как специалистов. Поэтому большое количество времени мы проводили в пустующей лаборатории, где натирали картами мозоли на пальцах, играя в преферанс.
*****
Богатое пространственное воображение и хорошее знание основ начертательной геометрии позволило мне на втором курсе института оказывать своим сокурсникам помощь в решении задач и написании курсовых по этому предмету. Я не стесняясь, за определенную таксу, чертил им сечения и разрезы, не напрягаясь и лузгая задачи как семечки. И даже соседние группы нашего потока обращались ко мне за помощью. Вскоре преподаватель «начерталки» стал узнавать мой стиль рисования и методику решений, потому, что я решал эти задачки разными способами, которые студенты не могли объяснить при сдаче курсовых и зачетов. К тому же он увольнялся, а так как замены ему не было, он и сообщил Нагибину, декану факультета конструирования, о подходящей кандидатуре для его подмены. Предложение преподавать начерталку мною было принято, и с третьего курса, в течение года я ходил на пары, высоко задирая нос в первый месяц своего преподавания. Затем этот апломб улетучился и все, не связанное с лекциями, отошло на задний план, так как мне приходилось тщательно готовиться к встречам не только с положительной частью учащихся, но и с язвительными студентами, желающих запутать эту молодую выскочку, и затем вдоволь посмеяться. В свою очередь я за словом в карман не заглядывал и, вскоре, меня больше не задевали, боясь хохота сокурсников в свой адрес, после данной мною мягкой характеристики и присвоением клички обидчику, которая прилипала к нему на весь курс. После третьего курса, перейдя на вечерний факультатив, стал работать на радиозаводе инженером — технологом и слился в объятиях с рабочим классом и с ИТР — овской интеллигенцией. Хотя, слово интеллигент не совсем соответствует смыслу выше сказанного, так как интеллигент, это человек, несущий добро и знание в народ.
Даниил, мой коллега и профбосс технологического отдела радиозавода, сообщил нам, что в Харьков, проездом из Таллинна, прибывает какой-то знаменитый гипнотизер, ученик великого Вольфа Мессинга, с единственным концертом, и на его концерт взяты билеты, поэтому желающие лицезреть это великое искусство могут подходить к нему с денежными купюрами и поцелуями от женщин. Мужчины могут не стесняться преподносить пиво, а также водку и коньяк в умеренных количествах. Желающих оказалось много, а мне не хотелось тащиться через весь город во дворец Железнодорожников им. Сталина, возле южного вокзала, и я попытался отказаться. Не тут-то было. Крики: — слабо артисту, да куды ему, зеленый пузырь, молодой ишшо, и т. д. вывели меня из равновесия и я, не ожидая от себя такой прыти, заявил, что не хочу идти, потому, что гипноз на меня не действует, и мне это не интересно. Я не стал рассказывать, что не далее как три дня назад, невеста затащила меня на лекцию о гипнозе. В лекционном зале на площади Советская, куда я прибыл под обильным шафэ, было много народу. Началась лекция, и под монотонный голос выступающего гипнотизера я задремал. Проснулся от громких криков лектора: — спать! Всем спать! и сидя в мягком, уютном кресле я наблюдал за зрителями, которые сонно дергались от этих возгласов лектора. Я громко рассмеялся, и лектор попросил меня покинуть аудиторию, чтобы не мешать пришедшим людям насладится чудом гипноза. Но я не стал рассказывать коллегам эту историю. Она была смешливой лишь для меня и моей будущей супруги, которая пыталась водить меня на различные представления и вечера отдыха в парки, и на всевозможные лекции. А я молча подчинялся, тайком отлучаясь на несколько минут, чтобы насладиться алкогольными парами за стойками ближайшего бара, поднимающиеся из протянутой барменом рюмашки. А затем, с молчаливой и радостной улыбкой, шествовал за подругой, держась за ее цепкую ладошку, чтобы насладиться следующим представлением или лекцией, которыми она мучила меня, пытаясь создать из меня грамотного и умного будущего мужа. Возвращюсь к заводской профлетучке, на которой последовала минута молчания, а затем карусель возгласов и ответов:
— а на сцену выйти слабо?
— ну да, делать больше нечего.
— а пострадать за коллектив?
— нет желания, вплоть до коллективного презрения.
— а бесплатный билет и литр водки?
— маловато будет.
— а женские взгляды и поцелуи?
— бесплатно не отдаюсь.
— а месяц в доме отдыха и яхта в аренду?
И я сломался и поплыл по течению.
*****
Полно зрителей, привычная для меня атмосфера зала, шум, стук открывающихся стульев, гул, разговоры в проходах, кашель и смех, в общем, атмосфера близкая и родная. Пошел занавес, и в зале наступила тишина. Вышел из-за кулис дяденька во фраке и прочитал коротенькую лекцию о силе внушения, несколько приятных фраз о своем учителе, Вольфе Мессинге, а затем предложил переплести свои руки, закинув сцепленные пальцы за голову, чего-то там прокукарекал и предложил расцепить пальцы рук. Не всем это удалось, и те, у кого это не получилось, были приглашены на сцену со сцепленными за головой пальцами, и гипнотизер что-то прошептал себе под нос и пальцы несчастных разлепились. Наша когорта вытолкала меня на сцену, вслед за приглашенными, и я стал в общий ряд из пятнадцати, примерно, человек. Свет на сцене стал более приглушенным и в зале наступила тишина. Гипнотизер подходил к каждому и, делая какие-то крутящие пассы, тыкал в лоб пациента ладонь и обмякшее тело подхватывали стоящие сзади ассистенты и усаживали на стул. Я стоял в этом ряду последним и с интересом наблюдал за этой процедурой. Наконец подошла и моя очередь. Он что-то просипел, покрутил руками и ткнул меня в лоб. Я засмеялся. Он вторично провел руками у меня под носом и за ушами и сильнее ткнул меня в лоб. Я еще раз засмеялся. Задохнулся зал от глухих смешков, прокатившихся по рядам. Третья попытка принесла тот же результат. Наступила тишина, и все стали ждать развязки этой истории. Честное слово, отдаю должное этому гипнотизеру, который наверняка уже имел неоднократно такие нюансы в выступлениях и заранее заготовленные долгими концертами, фразы. Повернувшись к залу, громко пояснил: — уважаемые зрители, должен вас предупредить, что гипнозу не поддаются дегенераты и алкоголики. Подошел ко мне, пожал руку, сказал: — спасибо, молодой человек, вы свободны, и подтолкнул к рампе и к выходу в зал. Прошу аплодисменты нашему герою! Не совсем приятно было ощущать себя «героем» создавшейся ситуации после его несколько непорядочных фраз. Идя по проходу зала, ощущал ласковые шлепки по попочке и вопросы: — так кто ты, первое или второе? Конфузом данную ситуацию не считал, так как меня успокаивали две мысли — первая, что я заработал своим антре литр водки и не заплатил за входной билет, а вторая, что честно отработал клоуном свой выход на сцену, получив при этом еще и бесплатную путевку в дом отдыха, и месячную аренду яхты — класса «кармаран», находящуюся в собственности завода. Права навигатора были у меня в кармане, и я с радостью и утешением думал о том, как буду ходить на яхте по старо-салтовскому водохранилищу и участвовать в регатах, проводимых спорт-клубом.
Но на этом мои приключения не завершились, так как директор радиозавода, Булычев, тоже наслышанный о моих юморных выходках, пригласил меня к себе в кабинет и обратился с вполне деловым предложением, возглавить художественную самодеятельность и создать музыкальный ансамбль. Он шел в ногу со временем, несмотря на преклонный возраст, и, наверное, понимал, что для молодежи необходимо не только трудовое воспитание и трудовая каторга, а и нечто другое, что могло бы расшевелить молодое поколение. Конечно, ВИА был создан и проводил вечера отдыха для работников завода, разбавляя рутину их жизни песнями и плясками, и выступали мы на концертах в городе, и ездили на Черное море, к морякам, служащим в Морфлоте, которые являлись нашими подшефными, и выезжали на вылазки в базы отдыха. Словом, молодая жизнь вертелась, как блоха на сковороде. Мне приходилось быть и конферансье, и музыкантом, и официальным представителем одновременно, но я не жаловался, понимая, что это моя такая жизнь и, что так и надо.
На сторожевом корабле, в военной бухте под Севастополем, куда мы приехали концертной бригадой из Харькова, я был размещен в каюте с матросами, моими сверстниками из Харькова и мы всю ночь проговорили о наших судьбах. Кто, как и почему. Вспоминали родные улицы, девушек и родных. Утром я был приглашен на завтрак в кают-компанию, где офицеры чуть-чуть постарше меня, внимательно рассматривали харьковского гостя. Зашел капитан, все встали и присели, и завтрак начался. Вестовой матрос занес блюдо с черной икрой, а все почему-то замахали руками, и он вынес это блюдо из столовой. Я сделал удивленное лицо и спросил. Почему? И вдруг они, переглянувшись, посмотрели на капитана. Он внимательно посмотрел на них, потом на меня и, улыбнувшись, щелкнул пальцами. Вестовой вернулся и, также улыбаясь, поставил это блюдо передо мной. Вы представляете себе, как я ложкой проглатывал это черное желе из икры. Меня смущало только то, что офицеры с загадочными улыбками смотрели на меня, на то, как я ем это прекрасное месиво. На второй день было то же самое. Однако, я все понял на третий день.
Пресыщение организма этим продуктом сказалось на моем движении рукой вестовому. Не хочу. Все заулыбались, захлопали, и вестовой, пряча улыбку, унес это высокое и полное блюдо с деликатесом из каюты. Для меня стало понятным пресыщение чем бы то ни было. И это стало мне хорошим уроком.
*****
Работая во дворце народного творчества «Металлист» руководителем оркестра, за дополнительные тридцать сребреников, в неурочное время, как было принято говорить, вдруг получил предложение от режиссера народного театра, Любовь Ивановны, фамилии уже не помню, войти в состав театральной труппы, на роль Вершинина, в пьесе Иванова, с ударением на второй слог в фамилии, «Бронепоезд 14—69». Я попытался объяснить ей, что мне 25 лет, и играть пятидесятилетнего мужика, как-то не очень… Она три дня, с висящей сигаретой на губах, прижимая меня к своей громадной груди, убеждала, что Баталов играл эту роль в тридцать лет, и что у меня есть великолепные данные для этой роли. Я молча косился на ее обворожительный, тридцатипятилетний бюст, пахнущий жареными котлетами и тройным одеколоном и слушал, что одна, влюбленная в меня девушка, без меня отказывается играть в этой пьесе, а без нее театра не будет, так как она задействована и в других пьесах, и она очень неравнодушна к тебе. С последним доводом я согласился, потому, что я тоже был неравнодушен к этой красавице, к которой подбивало клинья множество ребят, на которых она не обращала внимания. Я был ее мишенью и целью.
Кстати, у меня с ней были чисто платонические отношения, т.е. массаж груди, поцелуи всех мест, и т. д. так как более ничего она не позволяла, подсмеиваясь надо мной, наблюдая из под тишка за моими душевными и телесными судорогами. Но поскольку я себя уважал, после свиданий гордо удалялся, оставляя ее в недоумении, почему я ухожу, не добиваясь ее, ну хотя бы силой. Я объяснял причину неожиданного ухода ожидающимися осадками, в виде снега, дождей, града, ураганов и т. д. Ну, а потом, через некоторое время, мой друг затащил ее на «сеновал» в своей квартире, напоил, и женился. А я был бесконечно рад за то, что она получила то, что хотела. С моей души упал камень, и я был рад, что не на ногу. И через сотни лет друг мне пожаловался, что не сложилась у него с нею жизнь. Признаюсь. Да, я был молод, но всегда чувствовал, кто и, что собой представляет каждый, и держался на расстоянии от неожиданного.

Во второй книге у меня есть стих, посвященный ей. Но тогда я дал согласие участвовать в театральном представлении, и за три дня выучил текст этого мужика, Вершинина, да еще и на украинском языке. У меня остались фотографии этого сценического образа, как осколочный образец моего молодого творчества.
Запомнился мне этот спектакль только лишь потому, что на его показе, в мизансцене, моя «жена» должна была идя под ручку со мной, и с корзинкой игрушек для наших детей, выйти в народ, но, услышав известие о гибели детишек от пожара, произведенного японцами, упасть в обморок. А при падении раскатить корзинку с игрушками для детей так, чтобы юла, выпавшая из корзинки, чуть-чуть прокрутилась по сцене, для подчеркивания драматизма ситуации. Я слева.

Однако вышло не совсем так, как планировалось. Приглашенной артистке из театра им. Шевченко, было где-то далеко за пятьдесят. Она споткнулась, уже выходя из-за кулис на сцену и, растянувшись плашмя, выронила корзинку с игрушками в публику, в первый ряд, выкрикнув при этом, наверное, от боли, ох, твою мать! Мы, находящиеся на сцене, отвернулись от зрителей, что бы они не смогли увидеть на наших лицах оскалы улыбок. А она, ни капли не смущаясь, протянула руку со сцены к первому ряду, забрала корзину у зрителей, и демонстративно подкрутила юлу по сцене. Она, как профессионал, честно отрабатывала свой хлеб, и откровенно говоря, ей было все равно, что думают об этом зрители в зале. Во втором акте, когда на выстроенной дамбе моста с железнодорожной колеей мы, партизаны, проводили митинг, я должен был крикнуть: — хлопцы, лягай на рэйки! Деревянный поддон лопнул, и мы с двух метровой высоты, со стуком и лязгом попадали на сцену. Мне было не привыкать находить выход из любой ситуации, и я прокричал: — пацаны, ми зробылы що змоглы, пишлы в обход! Никто не обратил внимание на мои слова не по тексту, которые я выкрикнул. Все попадавшие встали, отряхиваясь, и гурьбой за мной ушли за кулисы. На следующий день в местной газете появилась рецензия о спектакле, хорошо, мол, что в корзине, упавшей в зрительный зал не оказалось тяжелых предметов, но задуманные режиссером трюки в спектакле, очень оригинальны, особенно вновь найденное решение провести партизан, ведомых Вершининым, в обход моста, который был так наглядно взорван японцами. На телевидении несколько мизансцен прокрутили, но я, кроме угрюмой и потной своей физиономии, замазанной гримом, и хрипящим басом молодого пятидесятилетнего мужика, более с экрана ничего не ощутил. В газете «Красное Знамя» от 5 февраля 1970 года появилась большая статья, посвященная спектаклю. С громадным удовольствием, (теперь уже можно и расслабиться) я привожу выдержку из этой статьи. «У этой пьесы счастливая судьба… В спектакле много недоработок, не совсем точно решенных сцен и образов. Но есть главный герой — народ, есть в спектакле горячее и страстное биение сердца народа, воли и решимости его отстоять, защитить свободу, родную свою Советскую власть. Есть люди, образы борцов за великое дело народа, которые долго будут жить в воображении зрителей. И это в первую очередь Вершинин, командующий партизанской армией, в исполнении артиста театра Е. Рекушева. От спокойной уверенности этого пожилого крестьянина веет силой, в нем угадывается незаурядный ум и воля. Талантливая игра юного дарования, ему всего двадцать пять лет, заставляет поверить, что перед нами мужественный и мудрый старик, за которым идут народные массы. Этого, к сожалению, нельзя сказать об исполнителе роли председателя Ревкома… и т..д..» если бы вы знали, как приятно было это читать, зная, что проработал на этой ролью всего лишь пять дней. Но я действительно тогда вжился в нее. Цветы, врученные мне за роль, давно усохли, и ветер разнес их по степям времени, и лишь фотографии напоминают мне мою прекрасную и незабываемую юность и отрочество.
Любовь Ивановна, после прогона спектакля, расцеловав меня за кулисами, сказала: — я твоя должница, и добавила фразу, которая насторожила меня: — мы теперь поставим «Лисову писню» Леси Украинки, где я вижу тебя в роли Лесовика.
.Ха! Там, где появляюсь я, всегда жизненные анекдоты. Я попытаюсь это подтвердить и этой пьесой. Восемьдесят лет старику. Или 300…
Откровенно говоря, по молодости, мне было все равно кого играть, и в чью шкуру залазить, чтобы изображать человеческие страдания.

У меня были слова, обращенные к Мавке, из «Лисовий писни»: — Нэ гидна ты дочкою лиса зватысь, бо в тэбэ дух нэ гидный, лисовый…, ну и т. д. по тексту, при этом я должен был, в своей стариковской злости, своим посохом, с ударом о пол, утвердить эту цитату. Загримировав, меня выпустили на сцену, дав впопыхах, суковатую кривую хворостину, наскоро найденную во дворе театра, вместо тяжелого посоха.
Произнеся этот текст, вжившись в роль, я ударил о пол сцены этой суковатой хворостиной, и она, отозвавшись натужным скрипом, спружинила и улетела в зал, откуда, под смех зрителей, была возвращена на сцену.
Чувствуя, что я приношу одни скандальные эксцессы и неприятности, больше на сцену в качестве актера не выходил, как не упрашивали меня знакомые режиссеры, так как постоянно попадал в халэпы, и доставлял массу неприятностей людям, которые меня окружали, и с которыми я встречался, чаянно или нечаянно, и эти халэпы становились анекдотами в моей жизни.
Как один из маленьких примеров смешных ситуаций, в которых я оказывался, вспомнился «культпоход» на рынок Студенческий, где, набрав продуктов, подошел к продавщице зелени, и, положив свои покупки на ее столик, долго выбирал укроп и зеленый лук, а потом, забыв свой товар у нее на прилавке, пошел домой через улицу Академика Павлова, но на середине дороги был остановлен истошным голосом продавщицы: — мужчина, вы у меня оставили свои яйца. Заберите свои яйца назад. Задохнулся от смеха рынок, и молодые девчата, торгующие продуктами, вытягивали свои шеи, что бы посмотреть, это что за мужчина, который оставляет свои яйца незнакомым женщинам. Но тогда, несмотря на анекдотические ситуации, сопровождающие меня по жизни, Любовь Ивановна делала жалкие потуги, внедрить меня диктором на телевидение, однако я объяснил ей, что у меня чахотка, чесотка и сепсис, а так же сильный катар нижних выдыхательных путей, что приводит к созданию неароматизированной атмосферы для окружающих. И, конечно же, портит окружающую среду и воздух, а посему врачи категорически запретили мне смотреть в линзы съемочных аппаратов, дабы избегать эти кризисные явления. На этом и завершилось мое видение прекрасного и свое пламенное отношение к сценическому искусству.
МУЖЕСТВО
Воскресенье. Мы играли ранним утром в домино на открытом воздухе, за столиком, сколоченным из деревянных обрубков, возле моего дома на Сычевке, со своими товарищами, когда появилось на горизонте это семнадцатилетнее создание и спросило, кто из вас Рекушев. Пауза, когда все посмотрели на меня, но промолчали. Мои товарищи имели чувство такта. Я привстал, — тридцатилетний бронтозавр, чудище, которому помешали забавляться глупой и бессмысленной доминоновой игрой, коротавшей личное время, и в упор посмотрел на это юное создание, сотворенное Афродитой и появившееся из городской пены. Она, наверное, догадалась, что это именно я, тот человек, который ей нужен, и это пенистое видение сказало: — я сестра своего брата. Ого! Начало хорошее, с юмором девица. Ну, надо же, во как, коротко и гранито–подобно. Сначала я опешил, а потом, придя в себя, проблеял больше для себя, чем для нее, не трогая ее юных чувств. Господи. Неужели? И как я рад, и что теперь делать, а нельзя ли поподробнее, и может быть Вы хоть имя брата сообщите мне. Или вы принесли мне билеты на космический корабль, на котором я не полечу вместе с вами, и пусть он взмывает в космические дали, но без меня, а я немного повременю с отправкой в космос, потому как сегодня я занят игрой в домино, и мне, извините, не до вас. Я за билеты на корабль, конечно, не сказал, а только смотрел на нее и молчал. А могло ли быть такое? Чтобы я, да стоял молча?!
— Я принесла вам учебники, которые вам нужны для поступления в институт, — произнесла она.
— А я уже поступил, и учусь на пятом курсе, — ответил я, — второй раз поступать у меня нет желания и необходимости.
Мой бог, я подрабатывал тем, что писал дипломные и курсовые работы, и чего греха таить, сдавал экзамены за абитуриентов, получая за это некоторые дополнительные крохи на пропитание. Я, конечно, вспомнил, что обещал одному знакомому сдать за него экзамены в институт железнодорожного транспорта. Нечмир Женя, мой тезка, уезжая куда-то на север, пообещал через сестру передать мне оленьи рога, если я помогу ему поступить в вуз. Я не стал рассказывать и объяснять стоящему передо мной ребенку, что в моем возрасте рога мне еще ни к чему, и что если есть в этом необходимость, я могу наградить рогами любого жителя планеты мужского пола. Но эта пигалица меня проглотила. Эта каракатица меня смяла и, как удав, объяла и задавила. Минут десять мы молча стояли друг перед другом и всматривались, думали каждый о своем, пока похохатывания товарищей не вывели нас из оцепенения. Впоследствии она стала моей второй половинкой по жизни, моей женой, самой верной и самой любимой и любящей женщиной, которой я благодарен своей судьбой и счастьем, а тогда.…Эти голубые глазенки воробушка, который, на мой взгляд, весил не более, как сорок килограммов, смотрели на меня внимательно и задумчиво, пытливо и с интересом. Рыжеватые косички торчали слегка в сторону, обрамленные сиреневыми бантиками. Ну, канарейка, и все тут. Я от жаркого дня, обнаженный по пояс, наверное, в ее глазах выглядел старым мамонтом, волосатым, потным и липким, и лишь потом, через тысячу лет совместной жизни она призналась, что влюбилась в меня сразу, как только увидела, и бесповоротно. Да, конечно, я был вынужден познакомить ее с моей матушкой, чтобы через нее, она передавала нужные учебники для сдачи экзаменов по определенным предметам. И эта семнадцатилетняя птичка, колибри, стала прилетать ко мне домой, чтобы якобы заботится о своем брате, который должен обязательно поступить в институт. Наивно и смешно. Я был занят другими работами, танцами и учебой в институте, и мне не хватало времени уделять ей свой день, и докладывать этому маленькому прокуратору о проделанной мной работе. Однако она так понравилась моей матери, что та стала мне назойливо повторять, мол, ты к ней присмотрись. Тю. Старый дурак, которому не было дел до всяких девиц, и которых у меня хватало. Однако, сдав экзамены в институте за ее брата, я надеялся, что больше, к счастью, ее не увижу. Как бы не так. Эта пигалица пришла к нам домой с громадным букетом роз, как душевное состояние от прошедших экзаменов, потому, что ее брат был принят в институт. А у меня был день рождения. И я поплыл. Старая, тридцатилетняя перечница, не верящая ни одной бабе, пошел на дно, сознавая, что мне еще никто и никогда, как мужчине, не дарил цветов, особенно в день рождения. Она нашла единственные слова, которые меня достали, сказав: — с днем рождения Вас, мой милый Женечка. Мой! Милый! Я не вздрогнул только лишь потому, что рядом была мать, которая смотрела на нас со стороны и улыбалась. Ну а потом, как вынужденное ПА, я пригласил ее на танцевальный вечер, предупредив заранее, что уделить ей внимание и находиться все время рядом с ней, не смогу, потому, что каждую субботу и воскресенье играю на танцах. На мотоцикле мы рванули по шоссе в сторону поселка Жихарь, где я подрабатывал на танцевальных вечерах. Жители поселков Бабаи, Высокий, Покотиловка, ждали наш ансамбль и знали нас в лицо, а при встречах с незнакомыми ребятами и девочками слышали в свой адрес: это они, «Сапфиры», даже называя наши имена и фамилии. Приятно было. Чем не кумиры? Звуки нашей мощной аппаратуры доносились, чуть ли не до города Мерефа. Почти двадцать километров. И знакомые ребята рассказывали, что звуки нашего ансамбля давали возможность танцевать на перронах Харьковской железнодорожной ветки, молодым и влюбленным парам, ждущим электричек.
Она просидела весь вечер, искоса разглядывая окружающих ее парней, отказывая им идти танцевать, и улыбалась, глядя на меня. А я смотрел на нее со стороны, обнимая и пощипывая струны электрогитары, играл и думал, что это судьба, и ни один из всевышних, чертей или ангелов, наверное, не сможет никогда остановить этот роман, будь даже форс-мажорные обстоятельства. Я полюбил ее навсегда и беспрекословно. Мое маленькое, семнадцатилетнее сокровище, с сиреневыми бантиками и невинной душой. Мы на мотоцикле, самом модном тогда, чехословацкой Яве 500, умчались в голубую далекую даль, находить свое неведомое и непредсказуемое счастье. И этот миг жизни, поворотный зигзаг судьбы, связал нас, совершеннолетнего и несовершеннолетнюю одной нитью, под названием Любовь. И не важно, что было потом, это свои маленькие осколочки истории большой и красивой жизни моей и моей супруги Аллочки, которую Люблю и которой поклоняюсь. И красивые дни у золотого озера, когда я поддерживал ее, не умеющую и боящуюся плавать, и своей рукой нечаянно касался маленьких, еще до конца не выросших грудей. А она, чувствуя, что я возбуждаюсь, ненароком, но с любопытством, проскальзывала рукой по моим увеличенным частям тела рукой и улыбалась, когда эти мои части тела под плавками становились уж очень заметными. Ах ты, плутовка, я догадывался о твоей игре, и конечно молчал, хотя мне это было очень приятно. Но и это уже вчера. Как это было давно и, как говорится, уже, наверное, еще один мелкий осколочек истории, когда с возрастом, уже можно смело сказать: — Меня больше огорчает женское согласие, чем отказ.
Коля Поляков со своей невестой и мы, несовершеннолетняя девчушка и клыкастый старый тридцатилетний секач, провели ночь в палатке. Прибыв на Сорочинскую ярмарку поздним вечером, уже под затуманенной синевой наступающей ночи и усыпанном яркими звездочками небо, соорудили палаточный ночлег, и долго умащивались, дурачась, тянули каждый на себя одеяла. Рядом со мной лежало невинное существо, к которому я в темноте притрагивался, гладя ее выпуклые места, которых ни один мужчина еще не касался, и она чуть-чуть пугливо зарывалась от меня в одеяло. Я прикасался ее горячих мест, а она шептала: — я не знаю, не надо, я боюсь… Ее разгоряченное мною тело хотело, не зная чего, но она снова шептала: — не надо, я боюсь… Ее отец, Василь Павлович, разрешив нам эту поездку, долго и нудно объяснял мне правила поведения с его дочуркой, а я терпеливо слушал, поддакивал, и заверял: — Та вы шо! Шо бы я! Тю! Да никогда! Ни-ни! И я честно соблюдал этику и держал свое слово и не позволял себе больше, чем это было в данной ситуации. Это она потом затащила меня на сеновал в деревне, связала объятиями и добилась своего, и пустила меня по рукам. Это она, когда на кухне коммунальной квартиры, сама присела ко мне на колени, и произошло то, что должно было произойти между мужчиной и женщиной. Кровь, испачкавшая мои трусики, сказала мне обо всем, и о том, что приятно каждому мужчине, и что навсегда связало меня с этим милым созданием, не тронутым грязными руками похотливых мужчин, крутившихся вокруг нее стаями, и желавших лишь одного, добиться своего и в кусты. Извините меня читатели за, наверно, очень личное, но я ведь обещал вам быть честным, а тем более это не только мой кусочек моей жизненной истории, который уже не имеет смысла прятать в кустах, как рояль. Я сохраняю в своей памяти эти события. И желал бы, чтобы ни один волосок с ее головы не упал, потому, что моя милая женщина была единственной, настоящей любовью в моей жизни и снах, позволившая забыть все, что было до этого в моей жизни.
И чтобы потом не кричали вдогонку,
есть только одна у мужчин своя страсть.
Догнать, овладеть, в утомительной гонке,
свою и любовь, и надежду, и сласть.
*****
Сорочинская ярмарка, которую я знал по Гоголю, оставила в моей памяти дополнительную страничку начала взрослой жизни. Она встретила нас холодным утром начала дней золотой осени, которой я поклонялся. Последнее воскресенье Августа, после Спаса, когда уже виден конец лета, а стыдливая и вечно плачущаяся осень еще боится вступать в свои права. Днем тепло — ночью холодно, и даже в палатке, где нас было четверо, теплее не становилось от нашего дыхания. Напомню вам изречение. Пришел Спас, готовь рукавички про запас.
Гудит и бушует людским гомоном громадное поле, покрытое травой и мелким, чахлым кустарником, кое-где пятнами покрывая этот полигон веселья. Между шинками и кабаками снует поддатый народ. На украинских тынах и частоколах развешены горщики, крынки, миски и другие гончарные изделия, рассыпанные возле маленьких деревянных, как бы игрушечных хатенок, с ослепленными бумагой окнами, окружающих высокое шапито и площадку со столбами, на верху которых кричат привязанные петухи и свисают женские сапожки и корзинки с ликероводочными изделиями. И пытаются лезть по этим скользким и гладким высоким столбам молодые парубки, чтобы под смех зевак завладеть этими подарками, проявляя силу и сноровку. Блестят, от выглядывающего из-за горизонта солнышка, их обнаженные, потные от напряжения тела. Смеются люди над неудачными попытками молодежи, соскальзывающей обратно на землю, но желающей дотянутся рукой до заветного подарка, для своих любимых девчат, которые в сторонке визжат от радости, когда хотя бы одному удается, чуть-чуть ли не схватить свесивший из корзинки цветастый сапожек. А из шапито доносятся смех и музыка, а после возгласов Алле-ап, слышны дружные аплодисменты. Из шинков выходят мужики нетвердой походкой и, улыбаясь во весь широко открытый рот, смахивают с лоснящихся от сала губ прилипшие крошки белого хлеба. А из-за низеньких заборчиков доносится запах готовящихся шашлыков и поджарок. На длинных шпагатах и веревках, подпертых рогачами, висит всевозможная одежда — обувь, шапки и шляпки, рубашки и штанишки, трусики и чулочки, и все это светится, переливается и блестит от лучей, уже широко улыбающегося и высоко поднявшегося солнечного светила. Молодки и матроны ходят мимо узорной и яркокрасочной одежки и, чмокая губами от восхищения и от жажды приобретения, щупают, мнут, нюхают, обнимают и целуют это красочное богатство. А развешенные бусы и клипсы, а платочки с шелковыми переливами, а туфельки, которые и Гоголевской Оксане не снились? Они уже забыли, что их мужья и суженые, кумовья и соседи, по третьему заходу навещают шинок, где их с улыбками и прибаутками встречают полногрудые и полногубые Одарки и Солохи. А из-за поворота, заслоненного разлапистыми и высокими деревьями лесополосы, доносятся визги, грохот барабанов, хохот и музыка, заглушающая скрип телег, которые медленно и горделиво тащат волы, отмахивающиеся от мух и оводов ушами и хвостами. И этот караван с чертями и ведьмами въезжает на широкую поляну, располагаясь полукругом вокруг мелкого прудика, с застывшей ряской. На первой телеге, на высоком табурете расположился сам Гоголь, что-то пишущий в тетрадке гусиным пером и, отвлекаясь от творчества, приветливо машет публике и своей свите рукой, разбрасывая исписанные тетрадные листки. Ярмарка началась! Я не хочу описывать эти события, так как лучше самого Николая Васильевича Гоголя, до сих пор это не удавалось никому. Уже потом, вечером, мы возвращались с этой Сорочинской ярмарки, с громадной макитрой, как приз, полученный мной за сольное выступление на малюсенькой площадке. На ней проводил «Гоголь», вместе с «Тарасом Бульбой и сыновьями», шутливое представление, прямо с телеги, привезшей его и свою свиту на ярмарку. В маленьком пруду сидели полуобнаженные герои Гоголевского произведения Иван Иванович и Иван Никифорович и пили чай с плавающего подноса. А я, надев на себя усатую маску Дьяка, речитативом из Салтыкова-Щедрина спрашивал: — как будем вас судить, по совести или по закону, то есть — а кто сколько даст. Было весело, хоть и не по теме. Толпа, собравшаяся вокруг, поддерживала хохотом мои импровизации и дружно аплодировала. И мой заплыв в холодную воду этой лужи, был оценен театральной труппой этим прекрасным, расписанным яркими красками, гончарным изделием.
*****
Мы уезжали. Хотя была глубокая ночь, светила громадная луна и Аллочка пыталась обнять и меня, и эту макитру между нами, сидя на краешке сидения мотоцикла. Я ехал медленно, боясь в темноте за нее и макитру. Под шуршание колес и тишину длинной скатерти-дороги она задремала. Где-то, на каком-то повороте, я не ощутил объятий ее рук на своих плечах и, обернувшись, не увидел ее на сидении. Она, задремав от монотонной езды, соскользнула где-то на повороте, и мне пришлось вернуться по трассе назад, чтобы разыскать ее. Я нашел ее сидящей на обочине, обнимающей макитру и тихо плачущей. Сквозь слезы она высказала фразу, от которой у меня тоже прокисли глаза: — Я думала, что ты меня бросил, мой любимый. Но ты здесь, и я спокойна. Несмотря на многочисленные ссадины и ушибы от падения она держалась превосходно. Мама, принимая от нее, как подарок, этот громадный глэчик, сказала ожидаемые слова. Пусть этот сувенир, как я чувствую, может быть вашим свадебным подарком друг другу. Они целовались и плакали, а я стоял в стороне и улыбался. Эта макитра еще долгое время напоминала нам о наших первых совместных шагах по жизни. В этой мпкитре мы долгое время хранили муку, пока разбитые от времени ее осколки, не превратились лишь в воспоминания.
Она первая предложила создать семейный союз. Я, улыбаясь, ответил ей: — я женюсь на тебе только в случае, если пообещаешь родить футбольную команду. На что она ответила мгновенно и радостно: — ах! Ну конечно! Да! Я согласна! Хоть сейчас! Однако потом, после рождения первенца, она заявила: — Женюрка, может нам хватит волейбольной команды, (т.е. вместо одиннадцати оболтусов, достаточно шести). Я был вынужден согласиться. Но после рождения второго чада, мне было высказано требование: — все, родной, трио Мареничей, и хватит. И мне пришлось согласиться и с этим. Потому, что видеть из под фартука тайком выставленные мне дули, не очень хотелось. На этом и остановились. Но нет у меня сильнее чувства, чем чувство любви к своей ненаглядной женщине, перед которой я стою на коленях, не стесняясь этого, и которую безумно люблю. Аминь.
Мой коллега, Олег Леонидович Салтыков, уже ушедщий из жизни, не писатель и не певец, просто однофамилец известных людей, мой кум, товарищ и коллега по работе, подарил на свадьбу нам отличный подарок — перечень имен, существующих в нашем сообществе, из двухсот наименований на букву «Е». Можно ли представить себе, свернутый в рулон, громадный список имен на букву Е. И из них — Егор, Евгений, Елисей, которыми я и назвал своих сыновей. Однако в жизни это принесло свой негатив. Все Рекушевы стали Е.Е., что иногда приносило путаницу с перепиской и адресацией. Егор Евгеньевич, Елисей Евгеньевич и Евгений Евгеньевич. Кстати, в свое время я делал запросы в Госархив и адресное бюро, которые четко дали ответ, что фамилия Рекушев, на сегодня, единственная в Союзе, и более родственников с такой фамилией разыскать не удалось. Поэтому я сейчас слегка жалею, что Рекушевых по семейному списку так мало.
*****
Моя бабулька, царство ей небесное, в погребе закопала бутылку яблочного вина, сделанного ею, залитую сургучом, пролежала в погребе тридцать лет, ожидая рождения новой семьи. Она должна была подарить этот подарок мне на свадьбу, как символ вечности времени. Она хранила бутылку в погребе и часто проверяла, на месте ли она. Однажды, поскользнувшись на скользкой погребной лестнице, упала вниз и я, услышав ее стоны, восьмилетний мальчуган, испугался и побежал в 13-ю больницу, в километровую даль, крича о помощи. Да так, что мои соседи тоже бросились туда, чтобы вызвать скорую помощь, а я, возвратившись после длительной беготни из больницы, услышал спокойные голоса врачей и ее стенания: — ироды, убылы, а бутылка хочь цила? Все улыбались, а мне уже тогда было не до смеха. Для бабушки это была своя цель, от которой она отойти не могла, и я искренне благодарен ей за это, часто вспоминая ее худенькое, смешливое и морщинистое, личико.
Моя будущая супруга, получив штамп в паспорте, стала поистине красавицей. Розовые щечки, лукавые и счастливые взгляды, красные сережки на покрасневших ушках и искрящийся, довольный смех. И не важно, что мой черный костюм, был моей матушкой перелицован из костюма, сшитого до армии. Целую ночь она шила мне галстук бабочку, не зная как, и эта бабочка была мне очень дорога, так как была полита ее слезами и кровью из исколотых пальцев. И неважно, что туфли были утром потрескавшиеся от высохшего черного, технического лака, которым я их на ночь покрыл. И неважно, что взятое напрокат свадебное платье все-таки удалось замарать. Важно было другое, золотое кольцо из девяти грамм, обнимающее ее палец и который она ненароком выставляла на обозрение, «во, я кака, и что есть у меня», и которое потом вынес из дома старший сын и продал для своих нужд, и радостные вопли моих и ее друзей. Нас встретили, как и полагается, хлебом и солью. Поцеловались с тещей и с тестем, родными и знакомыми. Тесть, Василий Павлович, сказал: — ну, шо, сынок, теперь у меня есть надежная опора. И я дуже рад, шо дочка попала в надежные руки. Хотя теща, при первом нашем знакомстве, сказала потом дочери: ой, доню, ты дывы, який же вин старый… та шо-ж ты з ним будэш робити… Ты така молоденька красуня, а вин як пэнтюх вжэ зморщэный. На что она, с большим мужеством, для своих лет, ответила: он мой, и я никому его не отдам. Я стоял за углом дома и слышал тайком этот разговор. Сегодня, с возрастом, я их понимаю. Действительно, есть время разбрасывать камни, и есть время собирать их. Сидя за праздничным столом, я взломал сургучную печать с покрытой вековой пылью запотевшей бутылки, бабушкин подарок. Аллочка мне тихонько прошептала: — буду пить столько же, сколько и ты. Я усмехнулся про себя, уже предполагая, что за Джинн прячется в этой бутылке. Капельками этого тягучего нектара я только смазывал свои губы, а Аллочка проглатывала одну за другой свою рюмочку с этим сказочным напитком, и счастливо улыбалась, светясь счастьем окольцованной голубки. Аналогичный подарок я сделал и своей внучке, Анжелочке, в день ее рождения, написав на открытке, что это вино, христианский «Кагор», должен быть открыт только на ее свадьбе. Эту бутылку тоже снесли в погреб, до будущей свадьбы моей внученьки, Ангелочка, пока еще только агукающей и улыбающейся.
Мои друзья по ансамблю сделали мне подарок, появившись на свадьбе с электронными инструментами, отодвинув в сторону гармониста, сделав все возможное, чтобы эти события сложились в гармонию чувств, как связь мужчины и женщины, любящих друг друга, и остались в памяти, как один из этапов нашей дальнейшей жизни. А под вечер, когда насытившиеся, напившиеся и уставшие гости перешли к десерту, моя молодая жена, достаточно вкусив бабушкин напиток, вдруг обняла меня за шею и заплетающимся языком сказала: — Женек, гони всех гостей, мне плохо. Я отнес ее отяжелевшую от алкоголя и шума в комнату, и заставил выпить литровую банку воды с марганцовкой, и изрыгнуть из себя принятое шампанское, вино и водку. Для нее мои дозы принятого алкоголя были убийственны. Но, особенно ее свалило тридцатилетнее вино бабули, к которому она присосалась как к сладкому и тягучему сиропу. Гости, занятые водкой и танцами, слава богу, забыли для чего пришли, и наше отсутствие замечено не было. И отпаивая чаем и лекарствами свою молодую супругу, тогда только и понял, что свадьбы проводятся для родителей и стариков, но никак не для молодых. Я потом эту истину вспоминал на свадьбах своих детей.
*****
Витя Брусенцов, мой знакомый товарищ, и друг уже знакомого вам Саши Булычева, «утерявшего» мои стихи — мой сборник юношеских стихов, (тезки директора завода), уходил служить в армию. Он играл на бас гитаре, в недавно созданном ансамбле «Сапфиры». В Харькове тогда было не очень много ВИА, и музыканты знали друг друга в лицо. «Интеграл», мой «Эдельвейс», Поющие гитары», ну и т.д., еще пяток ВИА. Я тогда тоже был не вчерашний. За чашкой кофе, с большим «Наполеоном», я согласился принять в свои руки этот ВИА «Сапфиры». Я буду искренен с вами до отказа. Сначала я познакомлю вас с ребятами, с которыми меня связала судьба на все последующие годы. Наверное, не только меня, а и наши семьи, которые переплелись последующей судьбой. Первое и важное лицо — политрук ансамбля. Григорий Александрович Мордовец. Он молча посмотрел на меня и сказал: — встретимся вечером на полигоне. То есть на танцах. Это особый разговор. Я к нему возвращусь несколько позже. Второй — соло-гитарист, мне понравился сразу. Искренне простое, плотное лицо нашего парня, слегка пьяного, но с мягким, увлекающим голосом, Сережа Вьюнников. Третьего, Володю, я не разобрал, поскольку его представили клавишником, а мне он показался ноющим и сморкающимся красноносым мальчиком, вечно ремонтирующим свой инструмент, лежа под ним, как под автомобилем, и четвертый, сухенький и ничем невыразительный хлопчик, ритм-гитара, просто Гена. Гена Крутоголов, как оказалось потом, надежный и умный парень.

Брусенцов, предварительно написавший мне гармонии исполняемого репертуара песен, которые лабали на танцах ребята, скромно удалился, оставив нас, молчащих и чего-то ждущих. Вечером должны были играть танцевальный вечер, а днем провели репетицию. Я играл с листа, даже не задумываясь о том, что будет дальше. Но для себя уже усек, кто есть кто. Ударник четко держал ритм, и было ясно, что он хороший ритмач. Ритм гитара правильно держала гармонию, уверенно синкопируя и не нарушая ритм исполняемого. А соло гитара меня поразила. Царство тебе небесное, уже ушедшему из жизни дружбану. Бог ему дал все возможное. Сережа Вьюнников. Добродушный и мягкий человек, пытающийся любую ссору сгладить, размазюкать и вытереть, как что-то наляпанное и ненужное. Он знал почти весь репертуар ансамбля «Биттлз» и многое другое, что было нужно, для работы и в кабаках, и на свадьбах. У него был друг Сафик, который появлялся из ничего и пропадал в никуда. Постоянный фантом или, точнее, фанат ансамбля. Набравшись самогоном, залегал под забором в траве, и спал, пока мы играли свадьбы. Ночью, после завершения свадьбы, мы шли по пустой и пустынной трассе домой, и Сережа ударял стаканом по бутылке, и из темноты, на звон стекла, откуда-то из кустов появлялось это существо, Сафик, и, шатаясь из стороны в сторону, говорило: — я здесь, наливай. Так и загинул он, где-то на трассе, попав под одинокую машину на совершенно пустой трассе. И мы даже не знали, где это случилось.
То, что я предложил исполнять все по нотам, расписывая партии, было отметено, и с общего согласия, я потом писал только гармонию, когда это было нужно, а затем и вовсе перестал пачкать нотные листы. Мы с «листа», как говорится, лабали все. И любую, появившуюся новую песню, на следующий вечер выплескивали на танцах.
Мы сдружились не только музыкой, мы сдружились и семьями. Ансамбль зазвучал благодаря талантам каждого из музыкантов ансамбля. Достаточно было сказать друг другу Ля-минор или Ми-минор, и умца-умца неслось с подмостков. Только жмуриков мы не провожали на тот свет. Были и сложности, связанные с проблемами у каждого из нас, но об этом несколько позже.
*****
Музыкальной жизнью в городе заведовало ХОМА. Это Харьковский отдел музыкальных ансамблей. Комсомольская мразь держала руку на пульсе развития культуры в городе, и не допускала к работе группы, не исполняющие патриотические шедевры.
Когда мы в первый раз приехали на знакомство с этой организацией, у нас в репертуаре уже были подготовлены политические «боевики и хиты» Я, ты, он, она, вместе целая срана. Или, широка, срана моя родная. Или БАМ, снова звучит БАМ, ну и т. д. Самое смешное в том, что ни одно из произведений этой классики никогда не звучало на танцах, в кабаках, и на свадьбах. Главное, чтобы они числились в репертуарах, которые подписывали эти культребята. Надо же. Эти мелкозернистые «ХОХМАЧИ», даже не имели музыкального образования, но верили, что раз партия и комсомол направили их на этот рубеж культуры, то от их слова зависит рассвет культуры на нашей земле. И, конечно, солнце станет ярче светить. И, конечно, родится в наших душах и душах посетителей ресторанов особое чувство любви к родине. И перестанут пить водку, и есть шашлыки посетители ресторана, и будут только слушать эти патриотические шедевры, и, комкая носовой платочек, с радостным умилением вытирать слезы патриотического счастья. Тем не менее мне приходилось сдавать им листики с программой и репертуаром проводимых встреч со зрителями, в которых были эти выстраданные партией и комсомолом песни. Ребята из нашего ансамбля, иногда, не понимая меня, ворчали, что это за идиотические бумажки ты носишь в горисполком.
Да еще и с подписями завклубов, или директоров ресторанов, где мы проводили вечера отдыха, а не какие-то там, танцульки. Мне приходилось долго и нудно объяснять, что нам не будут выплачивать денежные средства за проведение вечеров культурного отдыха для молодежи и посетителей кабаков, и что без этих маразматичных справок нас нигде не примут на работу в музыкальные цеха и, слава богу, хоть Гриша, как политрук, поддерживал в этом меня.
Часть вырученных денег, с общего согласия, мы откладывали на приобретение музаппаратуры. Развитие техники не стояло на месте, и мы должны были идти в ногу со временем. Появлялись ансамбли, звучащие по-новому, в том числе и благодаря звуковой аппаратуре и голосовых данных солистов. ВИА «Смеричка», «Голубые гитары», «Песняры» и много других, звучащих оригинально и красиво. Почти все западняне. Они были ближе к притоку новых музыкальных веяний из-за границы, чем мы. Наступил момент, когда с «парторгом», Гришей Мордовцем, мы рванули во Львов, за приобретением колонок и усилителей фирмы «Хиват», и ревербератором «Биг-Бит». Благо, во Львове проживала сестра жены, Любаша, у которой мы и остановились на постой. Она потом уехала в знойный Германский запад и ни о чем не жалела, сообщая в своих письмах о красоте потустороннего мира. Нового мира без кабалы и несусветного ханжества. Но я настолько врос корнями в землю, на которой вырос, что даже не помышлял о выезде на ПМЖ, хотя 100% -ая возможность такая у нас была.
Перед поездкой созванивались со Львовским маклером и надеялись приобрести аппаратуру за один день. Не тут-то было. Нас два дня просили подождать, так как аппаратура, якобы, еще не «прибыла», и мы были вынуждены бесцельно бродить по городу, знакомясь с Львовскими достопримечательностями. Это отдельный разговор о нашей Украинской истории, к которой мы прикасались глазами и руками. Перед поездкой супруга дала задание купить в «комке» (коммерческий киоск) золотую нить для вышивания. Я подошел к продавщице, розовощекой девочке, и спросил: — у вас есть такие нитки? Ни, нэма, ответило это существо. Походив пол часика и выпив кружку «Портера», вновь подошел к ясноглазой панночке и спросил: — будь ласка, пани, у вас е такы ниткы? И она, нисколько не смущаясь, ответила: — а скики вам треба? Уже тогда отношение к нам, восточникам, к рускоязычному населению Украины, отрабатывалось с политической точки зрения. Русофобия по-Львовски. Наконец, купив ревербератор и усилитель, вернулись домой. Первое, что мы произвели, вскрыли «Хиват» и осмотрели внутренности. Самоделка на высоком уровне исполнения. Самопал, как принято было тогда говорить. Но мы не отчаивались, так как звучание было на голову выше существующей у нас в городе музыкальной техники и, скопировав это чудо, у меня, в домашних условиях, выстрогали и спаяли один к одному еще один клон и две голосовые колонки. А когда Гриша, на своей работе, выточил высокие раздвижные трубчатые подставки для этих колонок и микрофонные стойки, звучание ансамбля стало просто фантастикой. Звук шел сверху, и подкрашенный реверберацией, создавал обволакивающее действие, обнимая и качая танцующие пары. Через наш ансамбль прошло большое количество солистов. Это были однодневки, которые спешили на этот свой, праздничный вечер. Таксист, Володя, с хорошим голосом, исполнив несколько итальянских песен, мгновенно уезжал на свой вид заработков, и Шурик, просипевший свой репертуар из пары песен, удалялся в гурт своих поклонников, принявший свое пойло, в круг визжащих от радости девочек.
Помню «Макнамару», кличка цыгана Толика, имевшего пудовые кулаки и пальцы как сосиски. Я до сих пор удивляюсь и не могу понять, как он этими колбасками мог попадать на струны. Он жил на Основе, где располагалась большая цыганская семья, и когда мы попадали на их застолье, долго находились потом под впечатлением от их вокала. Когда они за столом пели ансамблем, родители Толика, бородатые дедушки и бабушки, братья и сестры, в свое время свободный, а теперь оседлый народ, их мелодии улетали за пределы дома, а за забором их дома собирались соседи и слушали, не скрывая свое состояние души, и радуясь веселью их поэтических натур. Их песни обволакивали и заставляли смеяться и грустить, хотя их язык был непонятен. Но для всех все было понятно и без слов. Его, Толика, жизнь кончилась трагически. Где-то в пьяных разборках он был зарезан своим же другом, цыганом. Были и другие солисты, пока в наш ансамбль не вошел Гришин брат, Алик, со своим товарищем Юрой Криворучко, молодые ребятки, имевшие хорошие голоса, и знающие много модных, по тем временам, песен. Они и стали нашими постоянным участниками дальнейшей работы.
Однажды, после работы в ресторане, мы зашли в забегаловку, привокзальное кафе «Арарат» на станции Левада. Было заказано вино и шашлыки, и мы спокойно расположились в этой, якобы, грузинской цитадели. Принесли вино «Биомицин», как в народе называли «Билэ мицнэ», пойло хуже не придумаешь, краситель заборов, но исходя из карманных капиталов оно было весьма кстати. Мы спокойно налили себе законные двести граммов из больших, на 0,75 литра, бутылок с широким горлышком, этого «священного» напитка в граненые стаканы. Гриша, наливая себе в стакан это вино, вздрогнул. Вместе с чарующими струйками вина, в его бокал упало тело крошечного мышонка, со скрюченным в бублик хвостиком. Он очень брезгливый по жизни человек, и вид похороненного в вине существа исказил его лицо гримасой, и он пулей выскочил из помещения. С улицы, через открытые окна, доносились икающе-булькающие звуки, изредка присыпанные стонами облегчения. Он возвратился слегка побледневший, но мы его успокоили, что снаряды дважды в то же место не падают. Было разлито вино из новых бутылок, и не могу без смеха это рассказывать, в его стакан выпал новый экземпляр нашей фауны, мышонок, уже наглотавшийся алкоголем и почивший в бозе, такой себе серенький малышок. Больше мы Гришу в этот вечер не видели и сами, оставив недопитые бутылки на столе, и переговариваясь о случившемся, разъехались по домам. Мне потом приходилось подрабатывать на винном заводе, и самому наблюдать за процессом изготовления этого продукта, где по цементному полу, с лежащими полугнилыми яблоками, бегали и мыши, и крысы, и тараканы, и прочая живность, находящая свое тепленькое и влажное местечко, которые затем находили свой вечный отдых в получившемся напитке. Больше вино я не пил.
*****
Москва встретила меня и Григория туманной дымкой. Сиротливые, мы приехали в центр цивилизации, за приобретением музыкальных инструментов. Я на танцульках играл на дековой электрогитаре «Орфей», чешского производства, и мне очень хотелось приобрести стоящий инструмент. Нет, не Амати или Гварнери. Мы приобрели немецкую доску «Мюзиму», самую классную гитару по тем временам. А Гриша мечтал хоть раз ударить по классическому барабану, чтобы звук этого инструмента задел за живое любого посетителя кабака или свадебных разгуляев. Кроме этого радостного чувства, мы на свои плечи взгромоздили еще и ударную установку «Трова», Чехословакского производства. Я смотрел на мокрые от счастья глаза нашего барабанщика, Гриши, и у самого кипели в груди волны эмоций. Курский вокзал, с его бомжами и хитрющими носильщиками, оставляли гнетущее чувство неполноценности жизни. Но мы быстро приспособились к ситуации, и перебежками стали переносить двенадцать мест нашей покупки к ожидающему отхода поезду. Большой Там, малый Там, Томы и бонги, тарелки и гонги, и т.д., миллионы больших и маленьких барабанчиков и железок, завернутых в полиэтиленовую пленку, перетаскивали мы с места на место, приближаясь к поезду на Харьков.
Все. Платформа. Тамбур. Купе. Едем. Сияние глаз. Мы, молодые и жизнерадостные мужчины, посмотрели в глаза друг другу, вытерли слезы. И молча ехали до самого Харькова. Не было ни слов, ни настроения, чтобы объяснять друг другу сущность бытия и наступающей радости завтра.
*****
Новый год обычно мы встречали друг у друга, и иногда собирались у меня дома, надеясь на утренний мороз и обильный снег, высыпающий, как всегда, на Новый Год. Садились за стол, не дожидаясь снега и мороза, которые сопровождают холодное время года. А утром выскакивали на свежую порошу, и забрасывали друг друга снежками. На одном из празднеств Сережа Вьюнников заснул, сидя на унитазе, запершись в туалете изнутри. Мы с Гришей пытались сигаретным дымом вытащить его из гальюна, раскуривая сигареты, и пуская табачный дым под дверь, сами дурманясь от никотина. Но все было бесполезно. Он крепко спал. И никакие сигналы из космоса, а тем более какие-то местные атомные бомбы-петарды, не смогли разбудить это сонное создание, пока он сам не свалился с унитаза. Со спущенными штанами он начал бродить по комнатам в поисках нашего гурта. А мы в это время бросались снежками во дворе и бесились как дети. Брат Гриши, Алик, наш солист и гитарист в это время лежал связанный под елкой. Не потому, что буйный, а потому, что мы хотели дождаться утром его пробуждения и посмотреть на дальнейшие события, с участием лежащего и связанного под елкой музыканта. Это мы в молодости так шутили.
Мы были конгломератом, смешным чудищем, верящим друг другу, составляющий единое целое. Семьей, поддерживающей друг друга, и не дающей упасть в злокознях бытия. Я вспоминал юность и отрочество, свое прошлое, как самое удивительное и прекраснейшее мое молодое и счастливое вчера, пока не наступила пора завершать свою музыкальную карьеру. Молодые музыканты наступали на пятки, да и возраст уже говорил о том, что пора семье уделять больше времени, чем какой-то там музыке.
*****
Воскресный день начался с неожиданности. Раздался звонок в дверь квартиры. Я вздрогнул и выпустил из рук тарелку, и она, ударившись о пол, рассыпалась на мелкие осколки. Нехорошее, внутреннее чувство тревоги, заставило меня вздрогнуть и подумать, что произошло что-то самое плохое. Так и получилось. Пришла большая Лара, двоюродная сестра, с Сычевки, передав сообщение о том, что маму забрали в 13-ю больницу. В нашей большой и дружной семье, на Сычевке, была еще и маленькая Лара, тоже двоюродная сестра, моложе большой Лары аж на целый месяц, которая потом уехала на ПМЖ в Израиль, к своей дочери, моей красивой племяннице, вышедшей замуж за дантиста-еврея, и оставшаяся там навсегда. Обеспокоенный сообщением о матери, бросил все свои дела и поехал в больницу. В длинном и холодном коридоре, вдоль грязной, в потеках и пятнах немыслимых цветов стены, лежали бабушки и дедушки, так как больничные палаты были заняты более молодыми мужчинами и женщинами. Наверное, они нуждались в помощи больше, чем старики. И складывалось горькое впечатление о лежащих в коридоре отбросах общества, уже не востребованные и не нужные никому, выжатые работой и жизнью, желтые и сморщенные лимоны, под названием старички. Или люди, давшие нам жизнь, если так будет удобнее осознавать действительность. Но любые слова, которые можно было бы подобрать, суть сказанного не изменят.
Среди этих, уставших от жизни и старости лиц стариков, высветилось улыбающееся лицо матери. — Шо такое, маманя? Я, не давая ей опомнится, задавал вопросы один за другим, чтобы и самому успокоится, и ей привести свои мысли в порядок. На мое плечо легла рука женщины в белом халате. Я ее узнал. Подруга матери по партизанскому отряду, где она делала нам в полевых условиях прямое переливание крови от матери мне, зараженному сепсисом при рождении. Это случилось при оккупации немцами нашего города, когда беременная мать пешком шла из Сумской области в Харьков, и по дороге родила меня в антисанитарных условиях. Я узнал об этом, когда моему первенцу в роддоме, делая обязательный укол, протерев шприц валерьяновыми каплями, вместо спирта, занесли инфекцию, и у него начался сепсис, так называемое заражение крови. Грудного младенца поместили в детскую больницу, и уставший врач, отбатрачив свою смену, вышел ко мне в фойе и сказал: — молодой человек, дело плохо. Срочно нужен антистафилококковый гаммоглобулин. Его изготавливают в Одессе и Ленинграде. Я правдами и неправдами достал этот препарат, и этим раствором лечили не только моего ребенка. Искренне был рад этому. Ведь вопрос стоял не о больших денежных затратах, связанных с перелетами в Одессу и Ленинград, а о здоровье малышей, сбитых с ног немилосердной болезнью. Одной ампулы хватало для троих детишек, тоже больных сепсисом. Однако ничего не помогало. Мне открытым текстом было сказано, что, папаша, готовьтесь к худшему. Взволнованный и расстроенный я пришел к матери, и рассказал, что происходит с моим первенцем. И она поведала мне семейную историю, когда при родах, в партизанском отряде, в антисанитарных условиях в лесу, инфекция была внесена и в меня, и только прямое переливание крови от матери, помогло мне, не спавшему и стоявшему на локоточках и коленочках, потому, что вся кожа была в нарывах. Не дослушав ее до конца, рванулся в больницу и грозно требуя, настоял на проведении процедуры переливания. Главврач долго пытался отговаривать меня и объяснял возможные тяжелые последствия этой процедуры. Я настоял на своем и подписал все необходимые бумажки о взятии на себя ответственности, и мне ввели под лопатку какую-то заразу. Три дня меня крутило и знобило, пока иммунитет не взял верх над этими микробами. Холодный стол с простыней, на который меня полуголого положили, а рядом расположили мою малютку, которому в темечко, в детский родничок, ввели толстую иглу, берущую длинным шлангом свое начало из моей руки. А я наблюдал, как кровь, капля за каплей, входит в этот малюсенький комочек жизни, и слезы капали из моих глаз, которые пожилая медсестра стирала ватным тампоном. Через три дня я забрал его домой, уже агукающего и улыбающегося, а главврач, провожая меня, сказал: — вы родились в счастливой рубашке. А я вспомнил матушку с великой благодарностью, за ее воспоминание о моем детстве, и ее жизненный совет.
Врач, лечащая мою маму, в свои восемьдесят лет, продолжала работать терапевтом в этой больнице. Пригласив в свой кабинет и, усадив на скрипучий и расшатанный посетителями стул, долго молча рассматривала меня, а затем произнесла:
— как ты вырос, Женюрка. Тебя почти не узнать. Ну да, ведь прошло столько быстрых и невозвратных лет… И снова замолчала.
— Понимаешь, продолжила она, — возраст не украшает. Твоя мама прожила достойную и яркую жизнь…
— Почему прожила, возразил я. Она еще жива.
— Видишь ли, продолжила она, у нее опухоль, величиной с голубиное яйцо. Ее надо показать специалисту. И чем скорее, тем лучше. Может быть, ей можно будет помочь, хотя в восемьдесят лет это… Не знаю. Но говорить ей об этом не надо. Она очень расстроится.
Ошарашенный тем, что услышал, молча смотрел в ее уставшие и потемневшие от времени глаза, и рассматривал избороздившие ее лицо глубокие морщины. Говорить было больше не о чем. Молча поцеловал ее и вышел в этот, вдруг ставший мрачным, длинный коридор. Не показывая матери свое расстройство, шутил и рассказывал анекдоты, веселя и ее, и лежащих рядом больных стариков, довольных тем, что их развлекают, а она искренне радовалась моему приходу и гордо посматривала на окружающих. Вот какой у нее сынок! Я успокаивал ее словами, что, дескать, все в порядке и, заверяя, что ее уже скоро выпишут, уехал домой. Созвонился с главврачом района о возможности проведения консультации с профессором, который занимался онкологией, и договорился с ним о дате и времени приема.
Раннее, осенне-теплое, солнечное утро. Уже пожелтели деревья. Яркая голубизна неба, с белыми пятнышками облаков резала глаза. Мы идем осенним парком, усыпанным опавшими листьями, от трамвайной остановки, к стоящим в его глубине, зданиям областной больницы. С деревьев срываются желтые листы и, кружась, медленно опускаются на землю. Мама идет, улыбаясь и радуясь, и словно девочка пытается своей ладошкой схватить падающие и крутящиеся в воздухе листики. Профессор, молодой мужчина, моего возраста, лет, примерно, около сорока — сорока пяти, встречает нас и ведет ее в лабораторию. Минут сорок находился я в тревожном ожидании, не находя себе места, и курил одну за другой сигареты. Наконец он выходит и, беря меня за локоть, медленно, с расстановкой говорит: — вы достаточно взрослый человек, чтобы понять то, что я вам скажу. Я не советую делать операцию по удалению опухоли. Вскрыв брюшную полость, тем самым я дам возможность свету проникнуть внутрь тканей тела и тогда, ускоренный процесс размножения чужеродных клеток уже не остановить. Миазмы поразили соседние клеточные ткани, и у меня нет никакой уверенности и гарантии, что удастся их полностью удалить. Другие методы лечения ей помочь не смогут. Возраст. Не убеждайте меня. Нет, не надо. Дело не в денежных знаках. Даже ваши денежные средства помочь уже не смогут. После операции она проживет не более двух — трех месяцев. А так остается возможность, при ее, пока крепком здравии и мощном сердце, прожить дополнительно два — три года.
Мы возвращаемся домой через парк, но ее уже не волнуют опадающие листьями с деревьев, не отвлекают шуршащие под ногами листья. Она устала, и мне показалось, что она догадывается о том, что происходит. Действительно, профессор был прав, и она прожила еще три полновесных года. За три месяца до кончины в ней пробудилась яркая память и она, когда я приходил к ней, запоем читала мне вслух стихи, морщась и страдая от невыносимой внутренней боли. Мне казалось, что она своими стихами пытается затушить боль, горящую внутри нее.
Я пришел к ней поздней ночью, после ссоры с женой. Присел на крылечке и тоскливо завыл волчьим стоном, на сверкающую в небе луну. Она присела рядышком со мной, обняла и прошептала заветные слова: — Все будет хорошо сыночек, все обязательно будет хорошо. Пошли в дом. Она поставила на стол бутылку водки и сказала:
— мне кажется, и я это чувствую, что это наш последний вечер с тобой, когда можно и нужно высказать друг другу все, что тяжелым грузом лежит на наших плечах и в наших душах.
Я ни разу в своей жизни не видел, чтобы она прикасалась к алкоголю. Но, выпив столько же, сколько и я, оставалась трезвой, и внимательно, и молча, слушала меня. А я горько плакал, размазывая по щекам горькие пьяные слезы, и говорил, говорил, говорил.… Спешил выплеснуть из себя наболевшие проблемы, стараясь освободится от тяжести вопросов, возникающих в моем сознании. Она, наплакавшись вместе со мной, уснула, и я, не тревожа ее, убежал на работу. Через месяц она слегла и более не вставала. Уколы ей помогали мало, да и что за лекарство этот димедрол, и она в забытьи, уже не узнавая никого, стонала и звала свою умершую дочь, Зиночку. За ней ухаживала моя вторая сестра, Нина и перед кончиной вызвала меня и сказала, что мама пришла в сознание и очень хочет видеть тебя. Я помчался к ней и застал ее уже гладящей себя, снимающей пылинки, существующие в ее воображении, со своего тела, и очищающейся от этого мира, перед вступлением на дорогу, уводящей в никуда. Мне были очень знакомы эти непроизвольные пассы рук, у людей, уходящих в иной мир, в свою свободу, понятную и близкую только им. Ее горячая ладонь схватила мою руку, и она прошептала: — Женечка, как я рада тебя видеть. Прости меня. Прощай… Мутные глаза, полураскрытый рот, частое аритмичное дыхание. Я еще долго смотрел на страдальческое ее лицо и молчал. Слов не было. А утром позвонила сестра Нина и сказала: — мама скончалась. И хотя морально я уже был готов к этому исходу, на душе было гадко и моторошно. Что-то без наркоза было вырезано из сердца, и очень, очень больно кровоточило.
*****
«Дерьмократические» перемены, происходящие в нашем обществе, коснулись и меня. Молодой и подающий надежды сорокапятилетний мужчина, выплеснувшийся из тысячи икринок большого болота, под названием коммунистический строй, вошел в эту, якобы цветущую и благоухающую жизнь. Приехали к нам, в Харьков, задыхающиеся от смрада и вони этого режима, Виталий Коротич, редактор журнала «Огонек», и поэт, страдающий своим отношением к аппаратизму, и страдающий от него, в частности, Евгений Евтушенко. И к одному и ко второму чувств особых не наблюдалось, но толпа, ведомая зовом — порвать и разорвать, искренне приветствовала петухов, закричавших раньше рассвета. После сорока пяти просвистевших мимо лет жизнь стала монотонной и пресной. Работа, работа, работа. И этот круг разорвать было, практически, невозможно. Но этот ветер перемен ласковой ладошкой похлопал меня по попке, и я понял, что пришла пора разрывать этот круг бытовухи.
В то время я был приглашен на работу в УкрВостокГИИНТИз, на должность начальника лаборатории САПР. Я вас обескуражил названиями? Объясняю попроще. Украинский восточный, государственный исследовательский институт научно-технических изысканий. Не обижайтесь на аббревиатуру. Тогда это было модным течением, которое стало модным и в наше сегодняшнее время. Так же точно в отношении САПР. Система автоматизации проектирования работ. С этими системами я был связан, еще работая на радиозаводе, а затем в институте «Метрологии», где сделал свое первое изобретение, над которым долго смеялся ученый мир «Метлорогии», как в шутку мы называли свой институт метрологии. Каждую весну, нас, стадо молодых баранов и бараних, посылали на севообороты, на жатву и на сборы колоссальных урожаев ботвы и прочих жизнерадостных и пахучих растений. Поскольку у меня были права тракториста, меня с руками и ногами вырывали, из рядов ученых мужей, председатели колхозов. Честное слово, я своими глазами видел список нарядов на меня. Эгегей, моя страна! Я вам нужен. Это я, тот человек, без которого нормальная жизнь невозможна. Более всего я приглянулся председателю селища Коломак. Для него я был непьющий, жонатый, негулящий, говорливый, душа-парень. Во, я якый. Он первым, весной и осенью, приезжал за мной и отвозил в Коломак на своей машине. Коломак. Чудо старины.
В этом поселке, почти городского типа, я и работал трактористом в весенне-летнюю страду. Обрабатывал поля, когда-то усеянные красивейшими цветами, под названием мак. Это сейчас «низзя». Опий для народа. Маразм сверху продолжается, несмотря на, якобы, смену власти. Уничтожали виноградники, чтобы не спаивался народ. Была борьба против самогоноварения. Борьба с опием, уничтожая плантации, созданные природой и человеком. Днем светящиеся красным цветом, а ночью, под взглядами луны и в яркости костров, вздымались лилейным цветом и сказочным запахом несбывшихся надежд и ожиданием еще не свершившихся завтрашних чудес.
Тракт, по которому ездили мужики, возящие на волах соль из Таврии, юга нашей родины, останавливаясь на ночлег возле этих полей природной красоты, пролегал мимо поселка без названия. Уставшие за день поездки Чумакы казалы: — оце будэмо видпочивати коло маку. И появилось название селища — Коломак. Вот такая историческая легенда дала название этому поселку городского типа.
У председателя колхоза в стаде коров был непорядок. Единственный бык перестал заниматься своими прямыми обязанностями и, сплевывая жвачку на ходу, даже не смотрел в сторону прекрасных дам, виляющих сиськами и хвостами. Председатель, насупившись, произнес: — оцэ такэ дило, шо вин вжэ старый, а сперма дуже дорога, и скики им треба, бог зна. И тогда меня осенило, что коровы, те же самые бабы, которых покрывают мужики. И процессы, происходящие у них внутри, аналогичны коровьим. Но, к сожалению, проходит длительное время, пока не узнаешь, что корова стельная и зачала новую, уже не яровую жизнь, а за это время процесс искусственного введение спермы быка корове неоднократно продолжается. Происходят дополнительные затраты, причем очень большие, так как сперма бычья очень дорогая. Однако, меряя щелочной баланс во влагалище женщины, можно со стопроцентной уверенностью определять беременность, т.е. так же, как и стельность коровы. И наоборот. Это колоссальные деньги колхоза, не выброшенные на ветер в виде спермы быка. Неизвестно, сколько раз производить процесс оплодотворения, чтобы точно знать стельная корова или нет. И на этом щелочном балансе, после встреч женщин с мужчинами, я и сыграл, предложив вводить под хвост коровы датчик, замеряющий этот дисбаланс. Это сейчас нашли возможность применять лакмусовые индикаторы для определения беременности. А тогда в НИИ «Метрологии» был шок. Мужики в туалетах и каптерках, на перекурах издевались надо мной, пришлепывая название приборчику, который я предложил руководству. Теперь на вашей совести присобачить любое название прибору. Кто на что способен. Я очень осторожно намекну самое мягкое название, которое прилипло к приборчику, остальное вы додумаете сами. Писямер.
Канада закупила этот патент. Директор получил премию в тысячу рублей, главный инженер получил пятьсот рублей и я пятьдесят, которые тут же были оприходованы волной моих коллег. Праздник. Но зато это была первая бумажка, висевшая на обоях туалета моей квартиры. На этой бумажке моя фамилия была внизу, после фамилий руководства. Я впервые ознакомился со справедливостью разделения лаврового венка, получив маленький листик из этого букета. Но не переживал, понимая, что если будет в этом необходимость — в магазине можно будет приобрести килограммы листов этого растения, под названием лавр, сплести веночек и носить до одурения на своей голове.
*****
После армии меня пытались принять в сонм коммунистической плеяды, «высокопоставленные сыны нашей народной общины», нашего сегодня. Начальник отдела средств массовой информации сказал: — я даю тебе рекомендацию в партию. Надо же! Комсомол тоже хотел видеть меня в своих рядах. Но, дав рекомендацию, умер начальник отдела, не доживший до того времени, когда можно было обняться в радости, и увидеть меня в виде нового большого члена партийного органа. Потом еще один старый коммунист, кстати, родственник, в беседах со мной, увидел во мне человека, страдающего за справедливость, и дал свою индульгенцию для того, чтобы я стал полноправным и полновесным членом их сообщества, ну и почил в Бозе. После этого мне больше никто не давал поручительств. Все боялись: после этих событий и встреч со мной, и ухода из этой жизни. Или боялись, что я как член, что-нибудь наделаю в их органах. А я был счастлив, потому, что в своем восприятии этой жизни и действительности, понял, что судьба ограждает меня от этих несчастных мастодонтов нашей истории.
ЦКБ, «центральное конструкторское бюро», которое имело громадный персонал конструкторов, работающих на оборонку, пригласило меня окунуться в мир автоматизации. Передо мной тогда была поставлена задача — облегчить труд конструкторов и помочь им в решении их сегодняшних задач. Вы помните фамилию директора Булычева, давшего мне задание поднять настрой молодежи? Я это не забыл. И появившись после прохождения курсов информатики и вычислительной техники в Москве, для вновь рождающейся семьи молодых программистов, его приказом был назначен ведущим инженером в отделе САПР, при отделе экономического планирования, и возглавил группу подающих надежду ребятишек. Таких себе юных девчушек программистов, у которых под ногами горела земля. Которые, отскочив от институтского станка, пытались взобраться на подножку идущего в неизвестное далеко, поезда автоматизации. Экономический отдел возглавляла Нина Михайловна Нижегородцева. Сволочь, которая мне наделала в душу и не извинилась.
Да бог с ней! Став пенсионеркой, тоже была на приемах у меня в отделе социальной помощи, и доказывала, что она престол науки, а, следовательно, должна быть в первых рядах получения жирного куска от пенсионного пирога. Я смотрел ей в глаза, а она их отводила в сторону, наверное, с детства страдая косоглазием бессовестности, или делала вид, что не помнит меня, или не знает. Бог с ней. Я уже не могу винить ее как страшный реликт, установленный в музее временной истории, бронтозавра, коммунистку, от которой все девчонки отдела страдали. И тихонько прибегали ко мне, в отдел, чтобы выплакаться. А я, вытирая моим хорошим, молодым и красивым девчушкам платочком слезы, обнимал и рассказывал о больших мирах, о создании разных империй, успокаивал, что благодаря вашему интеллекту и тяжелейшему мозговому труду, грядет что-то необыкновенное, а потом наступит завтра. Самое лучшее в вашей жизни. И будет все хорошо и прекрасно. А все, что происходит сейчас — это все мелочи, о которых не стоит даже задумываться. И они успокоенные уходили. А потом ко мне прибегала эта карга, с криком о том, что я разлагаю коллектив своим сюсюканьем и сказками. И, что прежде всего надо работать, работать и еще раз работать, хотя она не понимала, в чем же состоит наш творческий труд, когда тратишь безумную энергию, даже ночами просыпаясь, чтобы написать пришедшую во сне строчку программы. И бежала с кляузами к руководству, а оно отмахивалось от этих мелочных склок и просило ее не мешать нам. Это уже сейчас созданы комплексные программы. Это сейчас, пользуясь Windows и прочими программами, пользователи ПК даже не задумываются о том, сколько времени и мозговых сил программистов вложены в эти продукты развития техники и технологии.
Гораздо хуже оказалась ситуация для развития автоматизации по всей стране. Когда я, побывав в министерствах в Москве, умоляя, и стоя на коленях, убеждал уставших от жизни, и не получивших отката и благ, этих министров, что рассвет нашего общества может быть только от развития автоматизации. Я их клятвенно заверял, что Харьков вас всех очень любит и, что если вы к нам приедете, то вас наверное, не только хлебом и солью встретят, а и салютом, например. Может быть. Частями. Когда-нибудь.
Ну, а потом какая-то шестеренка дала сбой и пятьдесят тысяч долларов министерство все-таки нам выделило. В первую очередь, как я полагаю, это было произведено для участия на выставке автоматов фирмы «Аристо». Лучше бы я не вспоминал эти жуткие моменты своей жизни. Оформлял бумаги я и представитель фирмы «Аристо». Нам достался выставочный образец. ЭВМ начала эпохи персональных компьютеров. Первые малогабаритные машины для индивидуального пользования, занимающие площадь каких-то 10 кв. метров, а не 200. Вокруг нас крутилась молодая леди, как я понимал, потаскуха-переводчица, заглядывающая в глаза, и постоянно щупающая мою мотню. Она заскакивала в секции павильонов, к представителям разных фирм, а затем вылетала через время, растрепанная, одергивая стянутую на бедра юбку. А потом писала доносы в первый отдел, что, когда, кем было сказано. Мне было проще, зная примитивно немецкий язык, мы нашли общее соприкосновение с Гер-камараде, и нам было очень просто на пальцах и сленге, понятном обоим, показать, что там запрятано в стальных, напичканных радиодеталями, металлических стойках. Повторяю, это были первые шаги создания персональных компьютеров. Я привез с собой «столичную», а они открыли свои бочонки с Баварским пивом. Кто из нас тогда был более доволен судьбой, до сих пор не знаю. Или я, получив современную ЭВМ, или они, продавая элитный, по тем временам образец, за валюту. Но утром, загрузив все двенадцать тяжелых ящиков с оборудованием в автомобиль, я убыл в Харьков. Нас встретило полпредство родного радиозавода, наделенного полномочиями принимать грузы, оплеванные печатями Совмина, в присутствии бонз, представлявших этот Совмин. Булычева, слава богу, не было, но уже по другой причине. Ему потом сообщили по первому отделу, что ваш сотрудник, «пользуясь немецким языком», споил представителей фирмы «Аристо» и украл аппаратуру, в ви
