автордың кітабын онлайн тегін оқу Странница
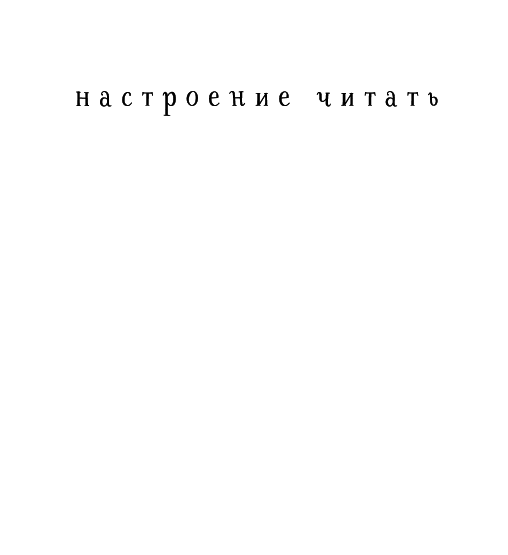

Colette
LA VAGABONDE. L’ENTRAVE
Перевод с французского Лилианны Лунгиной
Серийное оформление Владимира Гусакова
Оформление обложки Татьяны Павловой
Колетт
Странница ; Преграда : романы / Колетт ; пер. с фр. Л. Лунгиной. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2025. — (Настроение читать).
ISBN 978-5-389-29452-3
16+
В настоящее издание вошли два романа Сидони-Габриэль Колетт о Рене Нери — «Странница» и «Преграда». Эта дилогия является художественным отражением биографии самой Колетт, личность которой стала ярким символом «прекрасной эпохи», а жизнь — воплощением стремления к свободе. Искренность, тонкий психологизм, красота слога и реализм, достойный Бальзака и Мопассана, сделали Колетт классиком французской словесности.
Рене Нери танцует в мюзик-холле, приковывая взгляды искушенной парижской публики. Совсем недавно она была добропорядочной замужней дамой, женой успешного салонного художника. Не желая терпеть унижения и постоянные измены мужа, она ушла искать собственный путь и средства к существованию. Развод в глазах ее прежнего буржуазного круга уже более чем скандальная выходка. Но танцы на сцене в полуобнаженном виде — безоговорочное падение на самое дно. Но для самой Рене ее новая жизнь, несмотря на все трудности и усталость, — свободный полет. Встречая новую любовь, она страшится лишь одного — утратить свою независимость. И в то же время чувствует, что настоящая любовь и есть истинная свобода.
© Л. З. Лунгина (наследники), перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2025
Издательство Азбука®
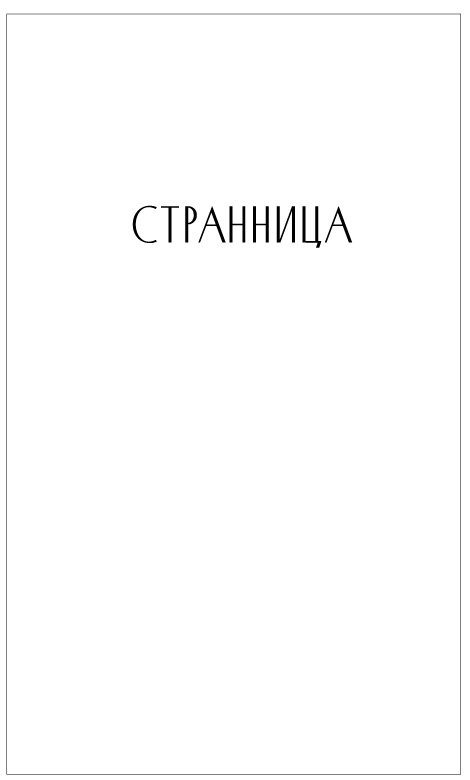
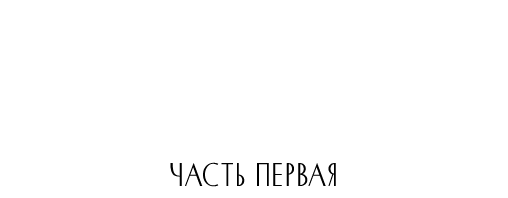
Половина одиннадцатого... А я уже готова, опять слишком рано. Браг, мой партнер, — с его легкой руки я и попала в пантомиму — вечно ругает меня за это, не очень-то стесняясь в выражениях:
— Чертова дилетантка! Спешит как на пожар. Если жить по-твоему, то уже в половине восьмого, за ужином, давясь салатом, надо начинать мазать морду тоном...
Три с половиной года работы в мюзик-холлах и театрах ничему меня не научили: я всегда бываю готова раньше, чем нужно.
Десять тридцать пять... Если я не раскрою сейчас эту книгу, читаную-перечитаную, — она почему-то валяется на гримировальном столике — или газету «Пари-Спор», которую костюмерша исчеркала моим карандашом для бровей, отмечая победителей, я окажусь наедине с собой, лицом к лицу с этой загримированной наперсницей, что уставилась на меня из глубины зеркала своими запавшими глазами, окаймленными жирной лиловатой подводкой. У нее розовые скулы того яркого тона, что у садовых флоксов, и красные в черноту губы, блестящие, будто лакированные... Она долго-долго глядит на меня в упор, и я знаю, что она вот-вот заговорит... Она скажет мне:
«Неужели это ты?.. Совсем одна, в этой камере с белыми стенами, которые нетерпеливые руки, заточенные здесь, не знающие, чем заняться, исчертили сплетенными инициалами и непристойными наивными рисуночками. На этих алебастровых стенах чьи-то ногти, покрытые алым лаком, как твои, процарапали какие-то знаки — как бы вырвавшийся из подсознания вопль одиночества... Вот у тебя за спиной явно женская рука начертила: Мари... Росчерк в конце слова взмывает вверх, будто крик... Неужели это ты, совсем одна, под этим гудящим потолком, который сотрясается, словно корпус работающей мельницы? Почему ты здесь совсем одна? Здесь, а не в другом месте?..»
Да, это опасные минуты прозрения... Кто постучит в дверь моей гримуборной? Чье лицо заслонит меня от глаз моей загримированной наперсницы, которая следит за мной из глубины зеркала?.. Его Величество Случай, мой друг и властелин, надеюсь, окажет мне милость и пришлет вестников из своего сумбурного царства. Я теперь верую только в него и в самое себя. Но главным образом, конечно, в него, ведь он всякий раз успевает вытащить меня из воды, когда, захлебнувшись, я иду ко дну, хватает меня, словно пес, за загривок и трясет, чуть прокусив зубами мою шею... Так что при каждом приступе отчаяния я жду теперь не своего конца, но приключения, маленького банального чуда, того, что соединит блестящим колечком разъятую цепь моих дней.
Это вера, настоящая вера, с ее подчас наигранным ослепленьем, с лицемерием ее отрешений от всего на свете, с упрямой надеждой даже в тот миг, когда орешь не своим голосом: «Все меня оставили, все, все!..» И в самом деле, когда я в сердце своем назову Его Величество Случай иным именем, то стану образцовой католичкой.
Как вздрагивает пол там, наверху! И неудивительно, ведь холод собачий: русские танцоры усерднее обычного бьют чечетку, чтобы согреться. Когда они все вместе хриплыми фальцетами заорут «И-ex!», будет одиннадцать десять. Здесь я узнаю время не по часам. Все выверено до минуты, и так целый месяц, безо всяких сбоев. Десять часов — я прихожу. Госпожа Кавалье поет три песни: «Бродяжки», «Я целую тебя на прощанье», «От горшка два вершка». Антоньев со своими собачками — десять двадцать две. Выстрел, лай — это кончается номер с собачками. Скрежещет железная лестница, кто-то кашляет — это спускается Жаден. Кашель прерывается проклятьями, потому что всякий раз она наступает на подол своего платья, это уже стало каким-то ритуалом. Десять тридцать пять — выступает куплетист Бути. Десять сорок семь — русские танцоры. И наконец, одиннадцать десять — я!
Я... Мысленно произнеся это слово, я невольно поглядела в зеркало. И в самом деле, это я сижу здесь с ярко нарумяненными щеками и подведенными синим карандашом глазами, густая краска на веках оплывает от жары... Неужели я буду ждать, пока весь мой грим не потечет? Буду ждать, пока мое отражение не превратится в разноцветную расплывшуюся кляксу, прилипшую к зеркальному стеклу, словно какая-то нечистая слеза?
Ну и холод, зуб на зуб не попадает! Я зябко потираю руки, какие-то серые от холода под тонким слоем жидкого тона, который, застывая, покрывается, словно паутиной, сеткой мелких трещин. Черт возьми, да батарея же просто ледяная! Ведь сегодня суббота, а по субботам здесь не топят — пусть, мол, весело галдящие, подвыпившие простолюдины согревают зал своим дыханием. А об артистах в гримуборных никто не думает. От удара кулака затряслась дверь, и даже в ушах у меня зазвенело. Я поворачиваю ключ и впускаю своего партнера Брага. Он уже в костюме румынского бандита и искусно загримирован «под загар».
— На выход!
— Знаю. Заждалась уже. Тут околеешь от холода.
На верхних ступеньках железной лестницы, ведущей на сцену, сухой, пыльный, горячий воздух окутывает меня, как удобный, но грязный плащ. Пока Браг педантично следит за тем, чтобы все поставили где положено и чтобы не забывали приподнять у задника софит, изображающий свет заходящего солнца, я машинально смотрю в светящийся глазок в занавеси. Обычная субботняя публика в самом популярном кафешантане этого района. Зал погружен в полутьму, направленные на сцену прожектора его плохо освещают, и вы могли бы смело биться об заклад на сто су, что не увидите там ни одного белого воротничка, ну просто ни единого, от первого ряда партера до галерки. Рыжеватое облако табачного дыма висит в воздухе, распространяя отвратительный запах погасших трубок и дешевых сигар, которые курят где-то в отдалении. Зато на авансцене — настоящий цветник... Прекрасная суббота! Но, как говорит малютка Жаден:
— Плевать я на это хотела, мне со сбора не платят!
С первых же тактов нашей увертюры я чувствую себя легко, словно заново рожденной, невесомой и свободной. Облокотившись о нарисованный на заднике балкон, я безмятежно гляжу на грязный пол (земля и глина, принесенные на подметках башмаков, пыль, клочья собачьей шерсти, раздавленная канифоль — все это толстым слоем покрывает планшет сцены, на который я через несколько секунд должна буду стать голыми коленями) и вдыхаю химический запах искусственной красной герани. С этого мига я себе больше не принадлежу, все пойдет как положено. Я знаю, что не споткнусь во время танца, что не зацеплю каблуком подол юбки, что упаду как подкошенная, когда Браг грубо швырнет меня на пол, но при этом не окровавлю себе локтей и не расквашу нос. И мускул не дрогнет на моем лице, когда в самый драматический момент молоденький рабочий сцены, стоя в кулисах, начнет, как всегда, производить губами громкие физиологические звуки, чтобы заставить нас засмеяться... Бьющий в глаза свет прямо выталкивает меня вперед, музыка управляет моими движениями. Таинственная дисциплина сцены порабощает меня и одновременно защищает. Все идет хорошо.
Все идет даже очень хорошо. Необузданная публика субботнего вечера наградила нас рукоплесканиями, криками «Браво!», свистом, восторженными воплями и громкими непристойностями, которые выкрикивали, конечно же, в знак одобрения. А я даже получила грошовый букетик — он угодил мне прямо в губы, — букетик блеклых, анемичных гвоздик, которые цветочница, прежде чем уложить в свою корзинку, окунает в окрашенную воду, чтобы придать им хоть какой-то цвет... Я уношу его домой, приколов к отвороту жакета: он пахнет перцем и псиной. Уношу я и записку, которую мне только что передали:
Мадам, я сидел в первом ряду партера. Ваш мимический талант заставляет меня предположить, что вам присущи и другие таланты, куда более изощренные и захватывающие. Не доставите ли вы мне удовольствие поужинать сегодня со мной...
Внизу стоит: «Маркиз де Фонтанж». Бог ты мой! Да-да, именно «маркиз», а записка написана в кафе «Дельта»... Сколько отпрысков дворянских семей, казалось давно уже угасших, обжились теперь в том кафе?.. Как это ни покажется неправдоподобным, но я просто носом чую, что этот маркиз де Фонтанж состоит в близком родстве с неким графом де Лавальер, который на прошлой неделе приглашал меня на файф-о-клок в свою холостяцкую квартиру. Банальное жалкое вранье. Но в нем сказывается романтическая тяга к светской жизни и уважение к родовым гербам, которое еще живо в этом шумном квартале шалопаев и забулдыг в видавших виды кепках.
С глубоким вздохом, как обычно, захлопываю я за собой дверь своей квартиры на первом этаже. От усталости? Или оттого, что можно наконец расслабиться? От облегчения или от страха одиночества? Не будем уточнять, не будем!
Что со мной нынче вечером?.. Должно быть, все дело в этом декабрьском ледяном тумане. Иголочки инея дрожат в свете газовых фонарей, окружая их радужными ореолами, и тают на губах, оставляя во рту едкий запах креозота. К тому же этот новый район, раскинувшийся за площадью Терн, в котором я сейчас живу, весь белый, оскорбляет взгляд и угнетает сознание.
В зеленоватом свете фонарей моя улица в эти ночные часы как бы выставляет напоказ гладкую штукатурку своих домов цвета пралине, цвета кофе мокко и желтой карамели — они похожи на оплывший кремовый торт, в котором вместо кусочков нуги белеют блоки бутового камня. Даже мой дом, стоящий чуть на отшибе, выглядит каким-то «невсамделишным», однако его новые стены и тонкие перегородки дают за умеренную плату вполне комфортное прибежище «одиноким дамам» вроде меня. Когда ты «одинокая дама», то есть являешься для домовладельцев парией, внушаешь им ужас и отвращение, то не приходится особо выбирать, живешь где попало и вдыхаешь запах сырой известки... Дом, в котором я живу, великодушно приютил целую колонию «одиноких дам». Квартиру на бельэтаже занимает официальная любовница Яна — главы автомобильной фирмы «Авто Ян». Над ней живет холеная и избалованная подруга графа де Бравай. Еще выше — две сестры-блондинки, к которым ежедневно приходит один весьма респектабельный господин из высоких промышленных кругов. А самую верхнюю квартиру занимает гулящая девка, которая не знает покоя ни днем, ни ночью, словно взбесившийся фокстерьер. От нее все время доносятся какие-то крики, кто-то там барабанит на пианино, кто-то поет, а из окон швыряют на улицу пустые бутылки.
— Она позорит наш дом! — сказала как-то госпожа Авто Ян.
И наконец, на первом этаже, на уровне земли, живу я, которая не кричит, не играет на пианино, не принимает никаких господ, а уж тем более дам. Барышня легкого поведения с пятого этажа производит слишком много шума, я же — слишком мало, и консьержка не упускает случая меня в этом упрекнуть:
— Весьма странно, никогда не поймешь, дома ли мадам или нет. Вас решительно не слышно. Вот уж не подумаешь, что вы артистка!
Ах, до чего же уродлив этот декабрьский вечер! От калорифера почему-то несет больницей. Бландина забыла положить в постель бутылку с горячей водой, а моя собака явно в дурном настроении: ворчит, мелко дрожит от холода и едва удостаивает меня взгляда, чуть подняв свою серо-белую морду. Она даже не вылезла из корзинки! Я вовсе не требую, чтобы меня встречали триумфальными арками и иллюминацией, но все же...
О! Сколько бы я ни искала во всех углах, под кроватью, везде, тут нет никого, никого, кроме меня. И в большом зеркале моей спальни отражается не загримированная цыганка, а... я.
Так вот, значит, я такая, как есть, без грима! В этот вечер мне не удастся избежать встречи с большим зеркалом, разговора с собой, от которого я сто раз уже уклонялась, — начинала его, бежала от него, возобновляла и опять обрывала... Увы, на этот раз — я это заранее чувствую — все попытки отвлечься будут тщетными. В этот вечер мне не удастся и заснуть, это ясно, и прелесть книги — новой книги, только из типографии, пахнущей бумагой, краской, запах которой вызывает в памяти морской прибой, паровозы, отъезды, — прелесть книги не отвлечет меня от себя самой...
Так вот, значит, я такая, как есть, без грима! Одна, одна, и, наверное, на всю жизнь. Уже одна! Рановато. Я уже перешагнула через рубеж тридцати лет, но не почувствовала себя при этом несчастной. Ведь лицо, на которое я сейчас смотрю, — мое лицо — ни для кого не представляло бы никакого интереса, не будь живости выражения, напряженности взгляда и той несмелой улыбки, что вот-вот готова осветить его, той улыбки, которую Маринетти называет gaiezza volpina... Бесхитростная лисичка, тебя и курица одолеет! Лисичка безо всяких желаний, которая помнит лишь капкан и клетку... Веселая лисичка, да, но только потому, что в уголках рта притаилась неосознанная улыбка... Лисичка, уставшая от танца, но неспособная сопротивляться звукам музыки.
А ведь я и в самом деле похожа на лисичку. Но ведь красивая, тоненькая лисица — это же не уродливо, верно? Правда, Браг говорит, что я бываю похожа на крысу, когда вдруг выпячиваю губы и прищуриваюсь, чтобы лучше видеть... Но я не обижаюсь.
До чего же я не люблю себя, когда мой рот, как сейчас, искажен гримасой отчаяния, плечи вяло опущены и все мое унылое тело стало каким-то кособоким — отдыхая, я перенесла центр тяжести на одну ногу!.. Волосы мои развились и висят, словно ветви плакучей ивы, — их надо будет долго разглаживать щеткой, прежде чем они снова заблестят, как бобровая шкурка. Под глазами нестертые тени синей подводки, сомнительные следы облупившегося красного лака на ногтях... Наверное, придется мокнуть в ванне не меньше сорока-пятидесяти минут, прежде чем приведу себя в порядок... Уже час ночи... Чего это я, собственно говоря, жду? Очевидно, нужен удар хлыста, резкий, чувствительный удар, чтобы сдвинуть с места заупрямившуюся скотину... Но мне не от кого его ждать. Потому что... Да потому что я здесь совсем одна! И в продолговатом кадре зеркальной рамы прекрасно видно, что я уже привыкла жить одна.
Ради любого пришедшего сюда человека, будь он хоть кто — посыльный из магазина или моя горничная Бландина, я бы тотчас подняла свою бессильно упавшую голову, подтянулась, выпрямив свое скривившееся тело, я бы соединила опущенные руки... Но этой ночью я так безнадежно одна...
Одна! Похоже, я жалуюсь!
— Раз ты живешь одна, — сказал мне как-то Браг, — значит тебе это нравится, ты сама этого хочешь, ведь так?
Конечно, «мне это нравится», я ведь сама этого «хочу». Но вот только... бывают дни, когда одиночество в мои годы — хмельное вино, которое пьянит свободой, в другие дни оно горькая тонизирующая настойка, но, увы, бывают и такие дни, когда оно яд, от которого бьешься головой об стену.
Но сегодня мне хотелось бы ничего не выбирать, а лишь сомневаться и не знать в точности, отчего я вздрагиваю, скользнув в ледяные простыни, — от страха или от наслаждения.
Одна... и уже давно. Потому что у меня появилась эта привычка говорить сама с собой, с огнем в печи, со своим отражением в зеркале... Это мания, которая бывает у отшельников и заключенных. Но ведь я свободна... и если веду внутренние диалоги, то это из склонности к писательству, к тому, чтобы точно формулировать свои мысли и находить им ритмы.
На меня смотрит из глубины зеркала, из таинственной камеры отражений, образ «писательницы, которая плохо кончила». Про меня также говорят, что я «занимаюсь театром», но меня никогда не называют актрисой. Почему? Тут тонкий нюанс, вежливый отказ публики, да и моих друзей тоже, признавать, что я хоть чего-то достигла на том поприще, которое теперь себе избрала... «Писательница, которая плохо кончила» — вот кем я должна для всех остаться, хотя я больше не пишу, не позволяю себе радости, роскоши писать...
Писать! Иметь возможность писать! Это значит подолгу сидеть, склонившись над пустой страницей, о чем-то задумавшись, машинально что-то чертить на полях, водить пером вокруг кляксы, подыскивая замену неточному слову, зачеркивать его сперва одной чертой, потом множеством мелких, превратить его сначала в колючку, затем разукрасить усиками и лапками, чтобы оно потеряло свой облик, свой смысл, стало бы каким-то фантастическим насекомым и в конце концов улетело бы, будто волшебная бабочка.
Писать... Это значит не сводить загипнотизированного взгляда с отражения окна на серебряной чернильнице и, умирая от счастья, записывать холодеющей рукой слова, в то время как лоб и щеки пылают божественным жаром. А еще это значит потерю чувства времени, ленивое валянье на диване, разгул выдумки, после которого чувствуешь себя разбитой, поглупевшей, но вознагражденной за потраченные усилия теми добрыми сокровищами, которые потом медленно перекладываешь на девственный лист бумаги, лежащий в небольшом кругу света от настольной лампы...
Писать! Скорее обнажить в каком-то порыве бешенства всю свою подноготную на таком соблазнительно чистом листе бумаги. Скорее, скорее, но рука не поспевает за мыслью, отказывает, загнанная бесом нетерпенья... А наутро увидеть на исписанном листе вместо золотого цветка, чудом распустившегося в час вдохновения, высохший стебелек с этаким чахлым увядшим бутоном...
Писать! Это радость и страданье праздных людей! Писать!.. Я и теперь еще испытываю время от времени неодолимую потребность, подобную жажде летом, записывать, описывать... Я хватаю ручку, чтобы начать эту гибельную и разочаровывающую игру, чтобы поймать и зафиксировать раздвоенным кончиком стального перышка блистательное, неуловимое, захватывающее определение... Но это лишь короткие приступы старой болезни, невыносимый зуд уже давно зарубцевавшейся раны...
Ведь нужно так много свободного времени, чтобы писать! И к тому же я не Бальзак... Хрупкая сказочка, которую я пытаюсь сочинить, разом рушится, стоит лишь постучать в дверь посыльному из лавки или подмастерью сапожника со счетом на заказанные мною туфли, или позвонить по телефону моему адвокату или театральному импресарио, чтобы пригласить меня в свою контору и договориться о моем выступлении на «званом вечере в одном весьма фешенебельном доме, хозяева которого, увы, не имеют привычки платить высокие гонорары»...
А с тех пор как я живу одна, мне прежде всего надо было суметь выжить, затем развестись и продолжать жить. Все это потребовало невообразимых сил и упорства. Чтобы достичь чего? Нет у меня другой пристани, кроме этой заурядной комнаты, обставленной дешевой мебелью, так сказать, в стиле Людовика XVI, нету другого места, кроме как перед этим зеркалом, в которое нельзя войти, и я упираюсь лбом в лоб своего отражения!..
Завтра воскресенье. Два спектакля утром и вечером в «Ампире-Клиши». Сейчас уже два часа ночи!.. Писательнице, которая плохо кончила, пора спать.
— Да пошевеливайся ты поскорей! О боже!.. Скорей, слышишь!.. Жаден не явилась.
— Как не явилась? Заболела?
— Еще чего! Загуляла!.. Но нам один черт: выходить на двадцать минут раньше!
Мим Браг выскочил из своего закутка, где он гримируется, — страшный, покрытый тоном цвета хаки, — чтобы предупредить меня, и я опрометью кидаюсь в свою гримуборную, в ужасе от мысли, что могу впервые в жизни не быть готовой вовремя.
Жаден не явилась! Я тороплюсь, дрожа от волнения. С нашей публикой шутки плохи, особенно на воскресных утренниках. Если мы хоть на пять минут «оставим их голодными», как говорит наш Режиссер-Укротитель, — его так прозвали, потому что он единственный, кто умеет управляться с этим залом, затянув паузу между номерами, — то не избежать гневных криков; окурки и апельсиновые корки так и полетят на сцену.
Жаден не явилась... Этого следовало ожидать.
Жаден — наша новенькая певичка. Она так недавно выступает на эстраде, что не успела еще вытравить свои каштановые волосы перекисью водорода. Дитя Внешних бульваров, она одним прыжком оказалась на сцене кафешантана и обалдела от того, что стала зарабатывать двести франков в месяц за исполнение песенок. Ей восемнадцать лет. Удача (?) безжалостно стиснула ее в своих объятьях, и она, по-бойцовски упрямо склонив свою голову и вся подавшись вперед, как бы локтями защищается от ударов грубой, обманной судьбы.
Она поет, как поют белошвейки, как поют на улице, не подозревая даже, что можно петь по-другому. Она безжалостно форсирует свое надсадное, хватающее за душу контральто, которое так подходит к ее румяным щекам и надутым губкам девчонки из предместья. Такую, какая она есть, в чересчур длинном платье, купленном в первой попавшейся лавочке, с каштановыми волосами, которые она даже не завивает, с опущенным плечом, будто от тяжести бельевой корзинки, с пушком на верхней губе, белом от грубой пудры, публика ее обожает. Наша директриса обещала ей с будущего сезона крупный шрифт в афише, как второй «звезде» программы, а может, даже и надбавку. На сцене Жаден так и сияет, там ей море по колено. Каждый вечер она узнает кого-нибудь из зрителей на галерке, своих товарищей по детским развлечениям, и, ничтоже сумняшеся, прерывает вдруг свою душещипательную песенку, чтобы весело подмигнуть им, прыснуть от смеха, как школьница, а то и звонко шлепнуть себя по ляжке... Вот ее-то и нет сегодня в программе. Через полчаса они поднимут в зале невообразимый шум и начнут орать «Жаден! Жаден!», стучать деревянными подметками своих башмаков и звенеть кофейными ложечками в чашках.
Того, что Жаден не явится на спектакль, можно было ожидать. Тут же за кулисами пополз слух, что она вовсе не больна. И наш помреж ворчит:
— Да, грипп у нее, как бы не так!.. В койку она упала, вот что! Там ее живо вылечат. Если бы она по-настоящему заболела, то предупредила бы...
Жаден как будто нашла себе обожателя, причем не из этого района. Жить-то надо... Впрочем, она и так жила то с одним, то с другим — короче, со всеми... Увижу ли я когда-нибудь снова ее тоненькую фигурку, всю подавшуюся вперед, с наклоненной по-бойцовски головой, в надвинутой до бровей пилотке — «последний крик моды», — которую она сама себе спроворила? Еще вчера вечером она, приоткрыв дверь, просунула в щель кое-как напудренную мордашку, чтобы похвалиться своим последним произведением — меховой шапочкой из кролика «под песца», чересчур узкой, плотно прижимающей к голове ее маленькие розовые ушки.
— Прямо вылитый Аттила! — сказал Браг очень серьезным тоном.
Длинный коридор, в который входят все двери крошечных гримуборных, гудит, как потревоженный улей. Оказывается, все предчувствовали этот побег и теперь посмеиваются, все, кроме меня... Бути, комик-куплетист, прогуливается перед моей дверью в гриме гориллы, со стаканом молока в руке и витийствует:
— Яснее ясного! Я-то думал, она проторчит здесь еще дней пять-шесть, ну максимум месяц! Представляю себе рожу нашей хозяйки... Но даже после этого горького опыта она и не подумает прибавить артистам, которые тянут на своих плечах всю программу. Запомните, что я вам скажу: Жаден вернется. Эта эскапада — не более чем экскурсия. У нее свой стиль жизни, ее содержателя надолго не хватит, уж поверьте...
Я отворяю дверь, чтобы поговорить с Бути, не прекращая мазать руки белилами.
— Она вам ничего не рассказывала, Бути?
Он пожимает плечами, повернув ко мне лицо в маске рыжей гориллы с обведенными белым глазами:
— С чего бы! Я ведь ей не мать...
Он маленькими глотками потягивает молоко, голубоватое, как раствор крахмала. Бедный милый Бути со своим хроническим энтеритом и неизменной бутылкой молока! Без красно-белого грима его умное, с мягкими чертами лицо выглядит каким-то болезненно-трогательным. У него красивые нежные глаза и отзывчивое сердце бездомной собаки, готовое обожать всякого, кто его приласкает. Его болезнь и тяжелая профессия день ото дня убивают его, питается он только молоком и макаронами без соуса и при этом находит в себе силы петь и плясать негритянские танцы в течение двадцати минут. По окончании номера он всякий раз, вконец измученный, буквально падает за кулисами, не в состоянии спуститься вниз в свою гримуборную... Его хилое тело, словно труп, распростертое на полу, часто преграждает мне путь на выход, и я совершаю над собой усилие, чтобы не наклониться над ним, не приподнять его, не позвать на помощь. Его товарищи и старый машинист сцены, стоя неподалеку, лишь покачивают головами и говорят со значением: «Бути — из тех артистов, кто выкладывается до конца».
— Скорей, скорей, поезд отходит! Они там, в зале, не так уж бесятся из-за отсутствия Жаден. Нам повезло!
Браг подталкивает меня вверх по железной лестнице. От пропыленной жары и резкого цвета прожекторов у меня начинает кружиться голова. Утро пронеслось, словно беспокойный сон, я оглянуться не успела, как пролетела половина дня, остался только нервический озноб и какое-то томление в желудке, которое бывает, когда тебя вдруг резко будят посреди ночи. Через час уже время обедать, а потом придется брать такси, и все начинать сначала... И так я буду жить еще целый месяц! Нынешний спектакль пользуется, можно сказать, успехом, и его надо сохранить до обновления программы.
— Нам здесь хорошо, — говорит Браг. — Сорок дней можно ни о чем не думать!
И он довольно потирает руки.
Ни о чем не думать... Если бы я могла как он. А у меня и эти сорок дней, и весь год, и вся жизнь — чтобы думать... Сколько еще лет мне суждено таскаться со своим «дарованием», которое все в один голос вежливо именуют «интересным», из мюзик-холла в театр, а из театра в казино. Кроме того, у меня отмечают «выразительную мимику», «четкую дикцию» и «безупречную пластику». Это очень мило с их стороны. Это даже больше, чем можно было бы желать. Но... куда это ведет?
Ну вот! Я чувствую, что надвигается полоса мрачного настроения... Я жду его, как чего-то привычного, со спокойным сердцем, заранее зная, что различу все его обычные этапы и еще раз сумею его одолеть. Никто ничего не узнает. Сегодня вечером Браг сверлит меня своим проницательным глазом, но ограничивается банальной фразой:
— Опять витаешь в облаках, да?..
Вернувшись в гримуборную, я смываю с рук смородинную кровь перед зеркалом, в котором я и моя загримированная наперсница меряемся силами, как достойные друг друга противники.
Страдать... Сожалеть... Продлевать бессонницей и всяким бредом самые глубокие часы ночи — всего этого мне не избежать. Я шагаю навстречу этой неизбежности в каком-то раже мрачной веселости, со всем бесстрашием молодого существа, способного еще сопротивляться, видавшего и не такое... Две привычки позволяют мне сдерживать слезы: привычка таить свои мысли и привычка красить ресницы...
— Войдите!
В дверь мою постучали, и я откликнулась машинально, целиком ушедшая в себя.
Это не Браг, не старая костюмерша, а какой-то незнакомец, высокий, худощавый, темноволосый. Он склоняет голову и выпаливает на одном дыхании:
— Мадам, вот уже неделя, как я каждый вечер прихожу в «Ампире», чтобы аплодировать вам. Извините меня за то, что мой визит, быть может... неуместен, но мне казалось, что восхищение вашим талантом... вашей пластичностью отчасти оправдывает такое... некорректное вторжение и что...
Я ничего не отвечаю этому идиоту. Еще вся мокрая, в полурасстегнутом платье, я, тяжело дыша, смываю с рук красную краску и гляжу на него с таким бешенством, что его красивая фраза испускает дух, так и не дойдя до конца...
Дать ему пощечину? Отпечатать на его щеках мою мокрую, недомытую пятерню? Или гневно крикнуть ему в лицо, так резко очерченное, костлявое, перерезанное линией черных усов, слова, которым я обучилась за кулисами и на улице?..
У этого захватчика угольно-черные печальные глаза... Уж не знаю, как он понял мой взгляд и мое молчание, только выражение его лица вдруг изменилось.
— Простите, мадам, я повел себя как болван и грубый человек, но, увы, слишком поздно это заметил. Выставите меня за дверь, я это заслужил. Но только позвольте прежде выразить вам свое искреннее уважение.
И он поклонился, как бы собираясь уйти, но... не ушел. С уличной мужской наглостью выжидает он секунду-другую награду за то, что так повернул разговор, и — бог ты мой, не такая уж я непреклонная! — получает ее:
— В таком случае, мсье, я скажу вам любезно то, что сказала бы, не щадя вас: уходите!
Я с улыбкой, уже добродушно, указываю ему на дверь. Но он не улыбается. Он стоит, упрямо склонив голову, и кисть его опущенной вдоль тела руки сжата в кулак. В этой позе есть что-то почти угрожающее и вместе с тем неуклюжее — у него сейчас нелепый вид дровосека в воскресном костюме. Свет лампы, висящей под потолком, бликует в его черных, разделенных на пробор, гладких, словно покрытых лаком, волосах. Но его глубоко посаженных глаз я не вижу...
Он не улыбается, потому что хочет мной обладать, это ясно.
Он не желает мне добра, этот человек, он желает меня. Ему сейчас не до улыбок, даже двусмысленных. Меня это начинает тяготить, я предпочла бы, чтобы он был весело возбужден и чувствовал себя уверенно в роли мужчины, который хорошо пообедал, а потом долго пялил глаза на сцену из первого ряда партера...
Страстное желание отягощает его, словно тяжелый меч.
— Чего же вы не уходите, мсье?
Он отвечает поспешно, словно я его разбудила:
— Ухожу, ухожу, мадам! Конечно, ухожу. Прошу вас принять мои извинения и...
— ...выражение глубокого к вам почтения! — невольно подхватила я.
Ничего смешного здесь не было, но он смеется, наконец смеется, с его лица слетело то упрямое выражение, от которого я терялась...
— Как мило вы мне подсказали, мадам. Я хотел у вас еще спросить...
— Ну уж нет! Немедленно выметайтесь! Я и так проявила непонятное долготерпение и рискую заболеть бронхитом, если тотчас не скину этого платья, в котором мне было так жарко, как трем грузчикам вместе взятым.
Указательным пальцем я толкаю его к выходу, потому что едва я сказала, что должна снять платье, как на его лице снова появилось мрачное, сосредоточенное выражение... Уже затворив за ним дверь и задвинув задвижку, я слышу его приглушенный, молящий голос:
— Мадам, мадам, я только хотел бы знать, любите ли вы цветы и какие?
— Мсье, мсье, оставьте меня в покое! Я ведь не спрашиваю вас, каких поэтов вы любите и предпочитаете ли вы море горам! Уходите!
— Ухожу, мадам! Всего доброго!
Уф!.. Этот долговязый мужлан прервал мой приступ мрака. И за то спасибо.
Вот такие-то победы я и одерживаю последние три года... Господин с одиннадцатого места в партере, господин с четвертого места ложи на авансцене, сутенер с галерки. Записка, еще одна записка, букет цветов, снова записка — и все! Мое молчание их быстро охлаждает, и я должна признаться, что особенно они не упорствуют в своих домогательствах.
Судьба, которая отныне бережет мои силы, как будто сама отводит от меня упрямых обожателей, этих охотников, которые ни перед чем не отступают... Те, кому я нравлюсь, не посылают мне любовных писем. Торопливые, грубые и неуклюжие записки выдают их желания, но не мысли... Исключение составляет лишь один бедный мальчик, который на двенадцати страницах излагал свою болтливую и униженную любовь. Должно быть, он очень молод. Он воображал себя этаким прекрасным принцем, бедняга, и богатым, и всемогущим: «Я пишу вам все это за стойкой у торговца вином, где я завтракаю, и всякий раз, когда я поднимаю голову, я вижу в зеркале свою противную рожу...»
И тем не менее этот поклонник с «противной рожей» о ком-то мечтал в своих воздушных замках и заколдованных лесах.
А вот меня никто не ждет на моем торном пути, который не ведет ни к славе, ни к богатству, ни к любви.
Впрочем, к любви, это я хорошо знаю, вообще не ведет никакой путь. Это она сама кидается вам наперерез. Она навсегда преграждает вам путь, а если почему-либо сходит с него, то путь ваш оказывается перерытым, разрушенным.
То, что осталось от моей жизни, напоминает детскую игру, состоящую из двухсот пятидесяти маленьких, пестрых, неправильной формы кусочков фанеры. Должна ли я терпеливо подбирать эти кусочки, прикладывая их один к другому, чтобы составить в конце концов простенькую картинку: мирный домик, окруженный густым лесом? Нет, нет, кто-то стер все линии этого милого пейзажа. Я не отыщу даже частичку синей крыши, расцвеченной желтым лишайником, ни нетронутого виноградника, ни дремучего леса без птиц.
Восемь лет в браке и три года в разводе — вот что заполнило треть моей жизни.
Мой бывший муж? Да вы все его знаете. Это Адольф Таиланди, художник, прославившийся своими пастельными работами. Вот уже двадцать лет как он пишет одни и те же портреты женщин: на дымно-золотистом фоне, заимствованном у Леви-Дюрмера, стоит декольтированная дама; ее волосы, будто драгоценная вата, этаким нимбом окружают бархатистое лицо. Кожа у висков, на затененной шее, в округлости груди все такая же немыслимо бархатистая, окрашена радужным отливом, подобным голубоватой дымке на темном винограде, к которому так и тянутся губы.
— Ни Потель, ни Шабо не написали бы лучше, — сказал однажды Форэн, любуясь пастелью моего мужа.
Если не считать уменья изобразить эту пресловутую «бархатистость», то у Адольфа Таиланди, как мне кажется, нет таланта. Но я охотно признаю, что его портреты на редкость привлекательны, особенно для тех женщин, которые ему позируют.
Ну, прежде всего, в каждой своей модели он самым решительным образом прозревает блондинку. Даже скудную шевелюру госпожи де Гюимон-Фотрю он расцветил неизвестно откуда взявшимися ало-золотистыми отсветами, дающими рефлексы на ее матовых щеках и крыльях носа, превратив тем самым эту худосочную брюнетку в блудливую златокудрую венецианку.
В свое время Таиланди сделал и мой портрет... Меня невозможно узнать в этой маленькой вакханке с каким-то странно светящимся носом — солнечный блик прикрыл мое лицо, словно перламутровая маска, — и я до сих пор помню, как была удивлена, обнаружив себя яркой блондинкой. Помню также шумный успех, который имела эта пастель и все последовавшие за ней. Это были портреты госпожи де Гюимон-Фотрю, баронессы Авло, госпожи де Шалис, госпожи Робер-Дюран, певицы Жанны Доре, а потом пошли модели менее прославленные, поскольку их имена сохранились в тайне и обозначались инициалами: мадемуазель Ж. Р., мадемуазель С. С., госпожа У., госпожа фон О., госпожа Ф. В.
Это было уже в то время, когда Адольф Таиланди с цинизмом красивого мужчины, который так ему шел, заявлял:
— Моделями мне могут служить только любовницы, а любовницами — модели.
Что до меня, то я все же обнаружила в нем настоящий талант — талант к вранью. Ни одна женщина, ни одна из его женщин не могла так, как я, оценить его исступленную страсть к вранью, восхищаться ею, бояться и проклинать ее. Адольф Таиланди врал одержимо, сладострастно, неутомимо и почти невольно. Для него адюльтер был лишь одной из форм, и вовсе не самой желанной, все того же вранья. Он буквально расцветал во вранье, врал с такой охотой, разнообразием и щедростью, что годы не смогли этого исчерпать. В то время как он, учитывая тысячи мелочей и предосторожностей, искусно плел тончайшее кружево своих тщательно продуманных предательств с изысканным рисунком, сочиненным его коварством, этой основополагающей чертой его характера, он без удержу тратил свой пыл на грубую, совершенно бессмысленную, хамскую ложь, на глупые детские сказочки.
Я встретилась с ним, вышла за него замуж и прожила с ним больше восьми лет... Что я о нем знаю? Что он рисует пастелью и имеет любовниц. А еще я знаю, что ему каждодневно удается являть себя разным людям в разных обличиях: для одного он «работяга», который думает только о своей профессии, для другой — соблазнительный распутник без совести и чести, для третьей — по-отечески заботливый любовник, который придает мимолетной связи острый привкус кровосмесительства, для четвертой — усталый разочарованный стареющий мастер, украшающий свою осень изысканной идиллией. Есть и такая, для которой он всего лишь еще красивый мужчина, начисто лишенный предрассудков, готовый на любую шалость, а еще есть гусыня из хорошей семьи, влюбленная в него без памяти, которую Адольф Таиланди хлещет наотмашь, терзает, отвергает, потом снова приближает к себе со всей литературной жестокостью «художника из светского романа».
Тот же Таиланди безо всякого перехода появляется в не менее традиционной, но куда более старомодной маске «художника», который, чтобы побороть последнее сопротивление семейной дамочки, матери двоих детей, крошит свои мелки, рвет в клочья набросок, проливает настоящие слезы, от которых намокают его усы а-ля Вильгельм II, и, схватив испанскую фетровую шляпу, очертя голову бежит топиться в Сене.
Есть еще и много других Таиланди, которых я так никогда и не узнаю. Впрочем, еще одного Таиланди я знаю, и, быть может, самого страшного: Таиланди — делового человека, ловкого стяжателя, мошенника, циничного и грубого, то неподвижного, то неуловимого, в соответствии с требованиями момента.
Кто же изо всех этих Таиланди настоящий? Откровенно скажу: не знаю. Я думаю, что такового — настоящего — просто нет... Этот бальзаковский гений вранья вдруг в один прекрасный день перестал приводить меня в отчаяние, даже интересовать перестал. Но прежде он был для меня чем-то вроде ужасного Макиавелли. А на самом деле он всего лишь Фреголи, виртуозный лицедей.
Между тем он продолжал жить как жил. Иногда я думаю с тепловатым сочувствием о его второй жене... Торжествует ли она еще, благодушная, влюбленная, то, что называет своей победой надо мной? Нет, теперь она, испуганная и бессильная, начинает узнавать того, за кого вышла замуж.
Господи! Как я была молода и как любила этого человека! И как страдала!.. Это не крик боли, не жалоба, не жажда возмездия, я иногда произношу эти слова тем же тоном, как говорят: «Если бы вы только знали, как тяжело я болела четыре года тому назад». Когда я теперь признаюсь: «Я ревновала его так, что хотела убить и самой умереть», то это вроде того, как старики рассказывают: «В семидесятом году мы ели крыс...» Они это помнят, но от тех ужасных дней осталось лишь одно воспоминание. Они знают, что ели крыс, но не могут оживить в себе ни дрожи отвращения, ни голодного озноба.
После его первых измен, после бунта и смирения молодой любви, которая так упорствовала в своем желании надеяться и жить, я начала страдать, страдать гордо и упрямо, и заниматься литературой.
Ради удовольствия снова найти себе прибежище в недавнем прошлом я написала большой роман из провинциальной жизни «Плющ на стене», безмятежный, плоский и ясный, как озера на моей родине, целомудренный роман о любви и замужестве, довольно простодушный, милый, который имел неожиданный и ничему не соответствующий успех. Во всех иллюстрированных журналах появилась моя фотография, а «Современная жизнь» присудила мне свою ежегодную литературную премию. Так неожиданно мы, Адольф и я, стали «самой интересной парой в Париже», которую все приглашают на обед и демонстрируют знатным иностранцам... «Вы не знаете чету Таиланди? У Рене Таиланди замечательный талант». — «В самом деле! А он?» — «О! Он неотразим!»
Моя вторая книга, «Рядом с любовью», расходилась куда хуже. Между тем, сочиняя ее, я предавалась сладострастию письма, терпеливой борьбе с фразой, которая вдруг становится податливой и распластывается перед тобой, как ручной зверек... А иногда все по-другому — долгое ожидание, засада, и нужное слово поймано... Верно, второй мой роман плохо продавался, но он принес мне — как это говорят? — ах да: «уважение в литературных кругах». Что же до третьей книги — «Лес без птиц», то она сразу же провалилась и так и не вынырнула. Она-то и есть моя любимица, мой «неведомый шедевр»... Ее находят многословной, сбивчивой, растянутой, непонятной... Но и теперь еще, когда я ее открываю, она мне по-прежнему нравится, да и я себе в ней нравлюсь. Непонятно? Для вас — быть может. Но для меня ее теплая темнота высветляется. Для меня то или иное слово мигом оживляет в памяти запахи и цвета прожитых часов, оно звучит, оно полно жизни и таинственно, как раковина, в которой гудит море. И мне кажется, что я меньше любила бы эту книгу, если бы вы ее тоже любили... Можете не волноваться! Второй такой книги я уже не напишу, я просто не смогу.
Теперь у меня другая работа, другие заботы, и главная из них — зарабатывать себе на жизнь, менять на звонкую монету свои движения, танцы, звуки своего голоса... К этому я быстро привыкла и даже вошла во вкус, проявив чисто женскую жадность к деньгам. А то, что я зарабатываю себе на жизнь, — это факт. В минуты доброго расположения я говорю себе и не устаю это радостно повторять: «Я сама зарабатываю себе на жизнь!» Мюзик-холл, где я выступаю как пантомимистка, танцовщица, а при случае — и как актриса, превратил меня в честную, жесткую коммерсантку, которая, себе на удивление, стала считать, вести деловые переговоры и торговаться...
Никто не понимал нашего разрыва. Но кто бы мог понять мое прежнее долготерпенье, мое трусливое жалкое попустительство? Увы! Простить трудно лишь первый раз... Адольф очень скоро убедился, что я принадлежу к лучшей породе истинных самок, к тем, которые, простив в первый раз, готовы, если с ними обходиться умело, терпеть обман и постепенно к нему привыкнуть... О, каким он был умелым учителем! Как ловко сочетал снисходительность с требовательностью. Случалось даже, что он поднимал на меня руку, когда я проявляла излишнюю строптивость, но не думаю, чтобы он это делал охотно. Человек, потерявший самообладание, не бьет так расчетливо, а он бил меня время от времени исключительно для того, чтобы поднять свой авторитет. Во время нашего развода все были склонны обвинять меня одну, чтобы обелить «неотразимого Таиланди», виноватого лишь в том, что он нравится и предает. Я чуть было не отступила, совсем растерялась и едва не вернулась к своей прежней покорности из-за того шума, который поднялся вокруг нас...
— Представляете, он изменяет ей уже восемь лет кряду, а она только спохватилась!..
Меня посещали друзья, пользующиеся большим весом в обществе, и авторитетно заявляли: «Такова жизнь». Приходили и пожилые родственники, чей самый серьезный аргумент звучал так:
— Что делать, детка!..
Что делать? Это я очень хорошо знала. С меня было довольно. Что делать? Лучше умереть, чем дальше влачить эту жалкую жизнь униженной женщины, у которой «есть все, чтобы быть счастливой». Лучше умереть или отведать горечь нищеты перед самоубийством, но только не видеть больше Адольфа Таиланди, того самого Адольфа Таиланди, который так берег интимность супружеских отношений и умел предупредить меня, не повышая голоса, но выпячивая свою страшную челюсть жандармского адъютанта:
— Я завтра начинаю писать портрет госпожи Мотье. И будьте любезны, чтобы не было такой недовольной рожи.
Лучше умереть, пережить самые страшные крушения, чем вдруг заметить неуклюжее движение, когда прячут помятое письмо, или присутствовать при фальшиво-безразличном разговоре по телефону, или перехватить красноречивый взгляд лакея, или слушать, как он бросает мне небрежным тоном:
— Если не ошибаюсь, вы собирались провести два дня у вашей матушки?
Лучше навсегда покинуть этот дом, чем унизиться до того, чтобы весь день гулять с одной из любовниц моего мужа, в то время как он в полной безопасности развлекается с другой. Лучше навсегда покинуть этот дом и умереть, лишь бы не делать больше вида, что ни о чем не подозреваешь, не ждать ночи напролет, лежать не сомкнув глаз в слишком большой пустой кровати, не строить больше планов мести, которые рождаются в темноте и становятся все более и более замысловатыми от гневных ударов отравленного ревностью сердца, но разом исчезают при повороте ключа в замке, когда знакомый голос весело восклицает:
— Как, ты еще не спишь?
С меня было довольно.
Можно привыкнуть к голоду, к зубной боли, к резям в желудке, можно даже привыкнуть к отсутствию любимого существа, но к ревности привыкнуть невозможно. И случилось то, что Адольф Таиланди, который обычно все до мелочи учитывал, не мог предвидеть: в тот день, когда он, чтобы непринужденней расположиться с госпожой Мотье на большом диване в своей мастерской, весьма бесцеремонно выставил меня за дверь моей же квартиры, я домой не вернулась. Я не вернулась ни в этот вечер, ни в следующий, ни потом. И вот тут-то и кончается — вернее, начинается моя история.
Не буду говорить о коротком и печальном периоде моей новой жизни, когда я принимала все с тем же мрачным видом и порицания, и утешения, и советы, и даже поздравления. Я вела себя так, что у моих самых упорных друзей — их было совсем немного, — которые звонили в дверь моей крошечной, снятой не выбирая квартирки, вскоре опустились руки. Навещавшие меня люди давали мне понять, что они бросают вызов общественному мнению, нашему святому, всевластному и гнусному общественному мнению, и я, оскорбленная этим, в приступе ярости разом разорвала все нити, связывающие меня с моим прошлым.
Ну так что же? Одиночество? Да, одиночество, не считая двух-трех друзей. Упрямцы, не отлипавшие от меня, готовые терпеть все мои фокусы. Как нелюбезно я их встречала, но как я их любила! И как боялась, провожая, что они больше не вернутся!..
Одиночество? Да, одиночество. Оно пугало меня, как лекарство, которое могло стать смертельным. А потом я обнаружила, что... я всего-навсего продолжаю жить одна. Я давно к этому привыкла, с самого детства, и лишь первые годы замужества ненадолго прервали эту привычку, а потом с первых же супружеских измен все пошло по-прежнему — я жила стиснув зубы, слез уже не было, и это самое банальное в моей истории. Сколько женщин знают этот уход в себя, эту терпеливую покорность, пришедшую на смену бунту и рыданиям? Я отдаю им должное, а тем самым и возношу себя: только в страдании женщина может преодолеть свою посредственность. Ее выдержка не имеет предела, ее терпение можно испытывать, злоупотреблять им, не боясь, что она умрет, — конечно, при условии, что физический страх или религиозные соображения не позволят ей прибегнуть к спасительному самоубийству.
«Она умирает от горя... Она умерла от горя...» Услышав эти стереотипные фразы, не испытывайте сочувствия, а покачайте головой скептически: женщина не может умереть от горя. Это такое могучее животное, его не так-то легко убить. Вы, наверное, думаете, что горе ее подтачивает? Ничуть не бывало. Родившись немощной, слабой, она обретает благодаря страданию железные нервы, несгибаемую гордость, способность выжидать и таиться — и это придает ей значительность и презрение к тем, кто счастлив. Страдание и притворство, как ежедневная опасная гимнастика, делают ее сильной и гибкой... Ибо она постоянно пребывает во власти соблазна, самого захватывающего, самого сладостного, самого привлекательного, — соблазна отомстить. Случается, что она, слишком слабая либо слишком любящая, убивает... В этом случае она явит миру пример озадачивающей женской выдержки. Она изумит своих судей, утомит их во время нескончаемых заседаний, исчерпает их силы, словно матерая волчица, петляющая, чтобы вконец измотать преследующую ее свору молодых собак... Вы можете не сомневаться, что долгое терпенье и тайные страданья сформировали, закалили, ожесточили эту женщину, о которой все говорят:
— Ну, она из железа!..
Нет, она просто «из женщины», и этим все сказано.
Одиночество... Свобода... Моя веселая и трудная работа пантомимистки и танцовщицы... Радостные и усталые мышцы, новая забота, которая помогает забыть старую, — самой зарабатывать себе на хлеб, на одежду и жилье... Вот какой сразу же стала моя судьба, причем к этому надо еще добавить яростное недоверие и отвращение к той среде, в которой я прежде жила и страдала, дурацкий страх перед всеми мужчинами, да и женщинами тоже... У меня появилась болезненная потребность не знать, что происходит вокруг меня, и общаться с совсем уж примитивными созданиями, которые почти не думают... И еще одна странность, которая появилась у меня очень скоро: я чувствовала себя в безопасности, огражденной от мне подобных, только на сцене — барьер рампы оборонял меня от всех.
Еще одно воскресенье... Пасмурные холодные дни сменились ясными, и мы с собакой, чтобы проветриться, решили погулять часочек, от одиннадцати до полудня, в Булонском лесу... Это животное меня просто разоряет. Не будь ее, я бы поехала в лес на метро, но мне не жалко трех франков на такси, потому что прогулка с ней доставляет мне удовольствие. Ее черная как сажа шерсть, которую я долго расчесываю щеткой и полирую фланелькой, блестит на солнце. Сейчас весь Булонский лес принадлежит моей маленькой Фосетте, и она хозяйничает в нем, вереща по-поросячьи и шелестя сухими листьями...
Как хорош Булонский лес в такое ясное воскресенье! Это наш с Фосеттой лес, наш парк, — ведь мы, городские странницы, совсем не попадаем за город... Фосетта бегает быстрее меня, но зато я хожу быстрее нее, и, когда она играет со мной в «поезд» и не тянет меня за собой на поводке, вывалив язык и сверкая обезумевшими глазами, она с трудом поспевает за мной, сбоит, как лошадь, то и дело переходя с трусящей рысцы на нелепый галоп, и прохожие смеются.
Негустой розоватый туман умеряет яркость солнечных лучей, и на блеклое солнце можно глядеть не щурясь... Над оголенными клумбами поднимаются, дрожа и серебрясь, отдающие грибами испарения земли. Вуалетка прилипла мне к носу, и я вся, разогретая от бега, подхлестнутая холодом, устремленная вперед... Ну что, собственно говоря, во мне изменилось с моих двадцати лет? Таким вот зимним утром в самые мои юные годы разве я чувствовала себя бодрее, гибче и счастливей телом, чем сейчас?
Так думала я, пока носилась по лесу... Когда же пришла домой, усталость вернула меня к действительности — это уже была совсем другая усталость. В двадцать лет я бы безотчетно наслаждалась, погрузившись в полудрему-полумечту, этим мимолетным утомлением. А теперь? Теперь же моя усталость кажется мне горькой, она подобна печали тела.
Фосетта с рождения — настоящая комедиантка и создана для богатой жизни, она испытывает подлинную страсть к подмосткам и на улице так и норовит вскочить в любую шикарную машину... А ведь купила я ее у танцовщика Стефана, и она ни дня не жила у какой-нибудь богатой актрисы. Танцовщик Стефан — мой товарищ. Сейчас он работает в том же заведении, что и я, в «Ампире-Клиши». Этот белокурый галл, которого с каждым годом все больше пожирает туберкулез, не может не замечать, как тают его бицепсы, его розовые бедра, покрытые поблескивающим золотистым пушком, весь его красивый мускулистый торс, которым он с полным основанием гордится. Ему уже пришлось сменить профессиональный бокс на танцы и на фигурное катание на роликах по наклонной сцене. С этим номером он и выступает у нас. К тому же он преподает танцы и выкармливает на продажу карликовых бульдогов. Зимой его мучает кашель. Часто во время представлений он заходит ко мне в гримуборную, долго кашляет, садится и предлагает купить у него «бульдожку, девочку, серой масти, неземной красоты, которая не получила золотой медали только из-за интриг...».
Я иду в подвале по коридору, куда выходят все квадратные гримировальные загоны, как раз в тот момент, когда танцовщик Стефан, закончив свой номер, сбегает вниз по железной лестнице. Широкоплечий, с узкой талией, затянутый в польский зеленый доломан, отороченный искусственным мехом под шиншиллу, в меховой шапочке, лихо сбитой на ухо, этот голубоглазый парень с нарумяненными щеками еще до сих пор привлекает к себе женские взгляды. Но он худеет, медленно, но неуклонно, и его бурные успехи у дам лишь ужесточают его болезнь.
— Привет!
— Привет, Стефан! Публика есть?
— Полным-полно, Какого... они здесь торчат, эти му... когда за городом такая благодать? Слушай, купи у меня породистую сучку. Весит всего шестьсот граммов... Я с трудом выпросил ее у знакомых... Не упускай случая.
— Шестьсот граммов!.. Благодарю тебя, но у меня слишком маленькая квартира.
Он смеется в ответ и не настаивает. Я хорошо знаю этих породистых сучек весом в шестьсот граммов, которых продает Стефан. В каждой — не меньше трех кило. Но это не бесчестность, это коммерция.
Что он будет делать, танцовщик Стефан, когда болезнь изъест его второе легкое, когда он уже не сможет танцевать и спать со своими замужними подругами, которые покупают ему сигары, галстуки и платят за его аперитивы в кафе?.. В какой больнице, в какой богадельне найдет последний приют его красивая опустелая оболочка?.. Ох! Как все это невесело и как невыносимо сознавать, что столько людей в беде!..
— Привет, Бути! Привет, Браг... Слышно что-нибудь о Жаден?
Браг молча пожимает плечами, всецело поглощенный подводкой бровей, для чего он использует темно-лиловый цвет, потому что «так получается более свирепый вид». У него есть особый синий карандаш для нанесения морщин, особая красно-оранжевая краска для внутренней стороны губ, особый охристый тон для лица, особый жидкий кармин
