автордың кітабын онлайн тегін оқу Комары

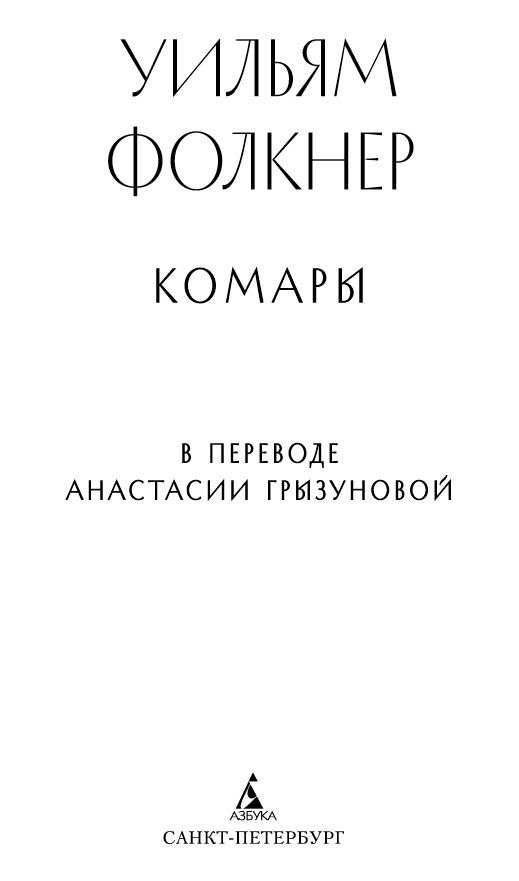
William Faulkner
Mosquitoes
Перевод с английского и примечания
Анастасии Грызуновой
Оформление обложки Валерия Гореликова
Фолкнер У.
Комары : роман / Уильям Фолкнер ; пер. с англ. А. Грызуновой. — СПб. : Азбука, Издательство АЗБУКА, 2026. — (Большой роман).
ISBN 978-5-389-31522-8
16+
Богатая вдова, восторженная покровительница изящных искусств, приглашает компанию из Нового Орлеана приятно провести время на воде за беседами об искусстве. На борту яхты «Навсикая» собираются склонный к розыгрышам известный писатель, циничный и грустный критик, скульптор-нелюдим, экзальтированная художница, утонченный и безнадежно холостой ценитель прекрасного, девочка-эмансипе, ее мастеровитый брат, бутлегер, его муза и еще несколько человек, удачно дополняющих этот праздно странствующий паноптикум. Увеселительная прогулка почти сразу выходит из-под контроля: мужчины налегают на виски, невинный флирт перерастает в безответную страсть, одни гости исчезают средь бела дня, другие сажают яхту на мель, а все прочие со скуки превращают возвышенный досуг в форменный балаган. Кажется, довольны только местные комары, обитатели прибрежных болот, которым удается вдоволь полакомиться свежей кровью новоорлеанской богемы...
Будущий лауреат Нобелевской премии по литературе, великий американский писатель Уильям Фолкнер в молодости провел в Новом Орлеане многие бурные месяцы, и их плодом стали «Комары» — модернистский опыт, вдохновленный Т. С. Элиотом, Хаксли и, возможно, Джойсом, сатирический «роман с ключом», который успешно обидел очень многих.
Как ни странно, впервые на русском!
© А. Б. Грызунова, перевод, примечания, 2025
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®
Посвящается Хелен
Весною, сладостной юной весною, что убрана мелкой зеленью, опоясана, окольцована пеньем дурацких птиц, фальшива, и сладостна, и вульгарна, как продавщица в дешевых цацках, как дурак при деньгах и без вкуса, они были мелкие, и юные, и доверчивые; порой удавалось их убивать. Но теперь, когда август томной откормленной птицей колышет крылами, сквозь бледное лето устремившись к луне гниения и гибели, они стали крупнее, злее; вездесущие, как гробовщики; коварные, как заимодавцы; самоуверенные и неизбежные, как политики. Они пришли в город, распаленные, как деревенские парни; в страсти своей единые, как футболисты университетской команды; всепроникающие и чудовищные, но лишенные величия — казнь египетская под взглядом перевернутого бинокля; величие Фатума, от простой регулярности и вездесущести своей налитое презрением.

1
— Половой инстинкт у меня, — повторил мистер Талльяферро, старательно изображая лондонский прононс, тоном благодушного самодовольства, с каким винишься в обладании некой чертой, втайне полагая ее своим достоинством, — весьма силен. Прямота, без которой не бывает дружбы, без которой двоим невозможно поистине друг друга «познать», как вы, художники, выражаетесь... так вот, прямота, я считаю...
— Да, — согласился хозяин. — Вы не могли бы чуть-чуть подвинуться?
Мистер Талльяферро откликнулся на его просьбу с подобострастной любезностью, следя между тем за нервическими, неясными вспышками стамески под ритмичными ударами молота. Дерево благодарно благоухало, ускользало от беззвучных вспышек в этой тайной комнате Синей Бороды, усеянной колтунами белокурых завитков, и мистер Талльяферро тоже посторонился, тщетно обмахивая себя носовым платком и в смятении разглядывая ровный слой мелкой пыли на маленьких опрятных туфлях лакированной кожи. Нда, за искусство надо платить... Наблюдая ритмичную мощь спины и руки хозяина мастерской, мистер Талльяферро кратко поразмыслил о том, что́ желаннее, мускулистость в майке или его собственный симметричный рукав, и, воспрянув духом, продолжал:
— ...Прямота побуждает меня признать, что половой инстинкт — вероятно, мой главенствующий импульс.
Мистер Талльяферро считал, что Беседа (не разговор — Беседа) с равным по разуму требует обнародовать как можно больше так называемых неразглашаемых фактов о себе. Он нередко с сожалением раздумывал о том, как тесно сблизился бы со своими знакомцами из мира искусства, если бы в молодости пристрастился мастурбировать. Однако даже такой привычки за ним не водилось.
— Да, — вновь согласился хозяин мастерской, врезавшись в мистера Талльяферро жестким бедром.
— Ничего-ничего, — поспешно пробормотал тот.
Равновесие ему бесцеремонно вернула твердая стена, и, услышав шорох ткани по штукатурке, мистер Талльяферро отпрыгнул, сдерживая прыть.
— Прошу прощения, — прощебетал он.
Весь рукав обрисовал руку белой крошкой; в ужасе созерцая свой пиджак, мистер Талльяферро отошел подальше и сел на перевернутую деревянную колоду. Отряхнуться не получалось, а поскольку негостеприимная поверхность, на которой он устроился, призывала обратить внимание и на брюки, он поднялся и расстелил на колоде платок. Всякий раз, приходя сюда, он пачкал одежду, но во власти чар, которыми те, кем мы восхищаемся, подчиняют нас, делая то, чего мы сами не умеем, он возвращался вновь и вновь.
Под неспешной дугой молота стамеска упрямо вгрызалась в дерево. На гостя хозяин не глядел. Мистер Талльяферро в бесплодном бешенстве хлопнул себя по тылу кисти. Он сидел в разбавленной тени — свет перевалил через крыши и дымоходы, проник сквозь неопрятный люк в потолке и устал. Хозяин мастерской трудился в утомленном свете, а гость сидел на жесткой колоде, оплакивал рукав пиджака и смотрел на это жилистое тело в заляпанных брюках и майке, на курчавый напор этих волос.
За окном новоорлеанский Французский квартал куксился в слегка поблекшей истоме, будто стареющая, но все еще красивая куртизанка [1] в прокуренной гостиной, рьяная, но и утомленная своим пылом. Над городом лето тепло убаюкали в чаше утомленной страсти небес. Весна позади, жесточайшие месяцы — жестокие месяцы [2], распутники, что нарушают жирную гибернатирующую скуку и уют Времени; август встал на крыло, а скоро и сентябрь — месяц томных дней, скорбных, как дым костра. Впрочем, юность или же ее уход больше не бередили мистера Талльяферро. Слава богу.
В этой мастерской никого не разбередит никакая юность. Мастерская бередила в человеке то, что вечно, то, что бессмертно. А юность смерти не избегнет. Слава богу. Эти неровные половицы, эти шершавые заляпанные стены с высокими и почти бесполезными, красиво обрамленными окошками, эти притаившиеся притолоки, что разрезают безупречный и безнадежный крен стен, меж которых давным-давно обитали рабы — рабы, давно обращенные во прах и пыль вместе с эпохой, которая их породила и которой они служили с любезным и милосердным достоинством; ныне же тени слуг и господ обретались в более милосердных краях, наделяя достоинством вечность. В конце концов, лишь немногие избранные умеют принимать служение с достоинством: человека подмывает служить себе самому. Наделять достоинством противоестественный ход вещей предоставляется слуге. А снаружи, медленно лиловея над крышами, непристойное в своем гниении, распростерлось лето.
Едва переступишь порог, за нее цепляется глаз: разворачиваешься рывком, будто на звук, предчувствуя, что шевельнется. Но она мраморная, не шевелится. А когда оторвешь взгляд и наконец обратишься к ней спиной, вновь накатывает это незамутненное, и высокое, и ясное ощущение стремительности, объятого пространства; но взглянешь вновь — и все по-прежнему: бездвижность и страстная вечность — непорочный, безгрудый девичий торс, безголовый, безрукий, безногий, на миг застывший и замолкший в мраморе, но страстно рвущийся на свободу, страстный, и простой, и вечный в двусмысленной, насмешливой темноте этого мира. Здесь ничто не разбередит ни юности твоей, ни ее ухода — скорее саму фиброзную цельность твоего существа. Мистер Талльяферро яростно саданул себе по шее.
Тот, кто орудовал стамеской и молотом, оставил свои труды и выпрямился, заиграв мускулами руки и плеча. И свет, как будто любезно ожидавший, когда тот закончит, поблек тихо и резко, ушел из мастерской, как вода из ванны, когда выдернули затычку из стока. Мистер Талльяферро тоже поднялся, и хозяин мастерской обратил к нему лик крупного сокола; грезам конец. Мистер Талльяферро снова пожалел о своем рукаве и обронил:
— Ну что, я передам миссис Морье, что вы будете?
— Что? — рявкнул хозяин, уставившись на него. — Ох, будь оно все проклято, мне некогда. Извините. Передайте ей, что я извиняюсь.
С огорчением, слегка подернутым досадой, мистер Талльяферро посмотрел, как тот шагает по стемневшей мастерской к грубо сколоченной деревянной скамье, берет дешевый эмалированный кувшин и жадно пьет.
— Но как же, — нервно заметил мистер Талльяферро.
— Нет уж, — отрубил хозяин мастерской, отирая бороду о плечо. — Может, в следующий раз. Я занят, мне сейчас не до нее. Извините.
Он захлопнул открытую дверь и с крючка на ней снял ветхую куртку и потертую твидовую кепку. Мистер Талльяферро с завистливым неудовольствием посмотрел, как мышцы взбугрили тонкую ткань, — зрелище привело на ум лишенные мускулов контуры его собственной глаженой фланели. Хозяин мастерской явно балансировал на грани внезапного отбытия, и мистер Талльяферро, для которого одиночество, особенно неопрятное, было нестерпимо, подхватил свою соломенную шляпу со скамьи, откуда та хвастливо сияла веселенькой лентой над узким желтым мерцанием прямой малаккской трости.
— Погодите, — сказал он. — Я с вами.
Хозяин мастерской погодил, обернулся.
— Я ухожу, — воинственно объявил он.
Мистер Талльяферро, на миг опешив, по-дурацки заблеял:
— Но как же... а я думал... мне бы...
В сумерках над ним угрюмо нависло отрешенное соколиное лицо, и мистер Талльяферро поспешно прибавил:
— Впрочем, я могу зайти попозже.
— Вас точно не затруднит?
— Вовсе нет, дружище, вовсе нет! Только позовите. Я буду исключительно рад прийти снова.
— Ну, если вас точно не затруднит, может, прихватите мне бутылку молока в лавке на углу? Знаете, где это? Вот вам пустая.
Хозяин мастерской как будто нырнул в дверь — он всегда так двигался, — а мистер Талльяферро в щеголеватом нервическом удивлении остался стоять, в одной руке сжимая монету, а в другой — немытую молочную бутылку. На лестнице, глядя, как силуэт хозяина мастерской погружается в колодезную тьму, он снова задержался — по-журавлиному поджав одну ногу, сунул бутылку под мышку и хлопнул себя по щиколотке в бесплодном бешенстве.
[2] Цитируется первая строка поэмы Томаса Стернза Элиота «Бесплодная земля»: «Апрель жесточайший месяц, гонит / Фиалки из мертвой земли...» (перевод Сергея Степанова).
[1] Это сравнение Фолкнер уже использовал в очерке «Турист» («The Tourist»), вошедшем в цикл «Новый Орлеан» («New Orleans») и опубликованном в The Double Dealer (январь-февраль 1925).
2
Сойдя с последней ступеньки и свернув в меркнущий коридор, он миновал неразличимо целующихся двоих и поспешил к двери подъезда. Перед ней он деятельно поколебался, расстегивая пиджак. Бутылка под пальцами вспотела. Он исследовал ее осязательно с острым омерзением. Невидимая, она как будто стала грязна нестерпимо. Чего-то смутно хотелось — возможно, газеты, — но, прежде чем чиркнуть спичкой, он поспешно обернулся через плечо. Они ушли, глуша перезвон своих шагов, вверх по темному изгибу лестницы, и был этот перезвон как физическое объятие. Спичка вспыхнула, оперилась тщедушным золотом, что пробежало по мерцающей трости, словно по дорожке пороха. Однако подъезд был пуст, полон хладного камня, грозил усталой сыростью... Спичка догорела до гладко отполированной преграды ногтей и погрузила мистера Талльяферро во тьму еще темнее.
Он открыл дверь. По улице безгласным лиловым псом бежали сумерки; в обнимку с бутылкой он вперил взгляд за безразмерную перистую площадь, за трафаретные абрисы пальм и Эндрю Джексона — несерьезную статую, что оседлала застывший грандиозный прыжок кудрявой лошади [3], к долгому и ненавязчивому зданию Понтальбы и трем шпилям собора [4], откалиброванным перспективой, ясным и сонливым в упадочной истоме августа и вечера. Мистер Талльяферро робко выставил голову, оглядел улицу справа и слева. Затем втянул голову и снова закрыл дверь.
Прежде чем сунуть бутылку под пиджак, он неохотно прибегнул к безупречно чистому льняному платку. Бутылка огорчительно бугрилась под пальцами, и в нарастающем отчаянии мистер Талльяферро вынул ее из-под пиджака. Снова чиркнул спичкой, для чего поставил бутылку у ног, но завернуть эту гадость было не во что. Подмывало схватить ее и запустить в стену — он уже предвкушал приятный стеклянный дребезг. Но мистер Талльяферро был весьма приличный человек: он же дал слово. Или можно вернуться к другу в мастерскую и взять там кусок бумаги. Так он и стоял в жаркой нерешительности, пока за него не решили спускающиеся по лестнице шаги. Он нагнулся, ощупью поискал бутылку, задел ее, услышал безутешный пустой стук, поймал ее наконец и, вновь открыв дверь подъезда, ринулся наружу.
Лиловые сумерки зависли в мягких подвесных огнях, медленные, как колокольный звон; площадь Джексона обернулась тихим зеленым озером, населенным медузами фонарей, оперилась серебристой акацией, и гранатами, и гибискусом, а под ними кровоточили лантаны и канны. Понтальбу и собор вы́резали из черной бумаги и наклеили на зеленое небо; над ними черными беззвучными взрывами застыли высокие пальмы. Улица пустовала, но с Роял-стрит донесся трамвайный гул — разросся до ошеломительного грохота, миновал и удалился, оставив по себе паузу, наполненную милосердным шорохом надутой резины по асфальту, словно там бесконечно рвали шелк. Сжимая в руке проклятую бутылку и чувствуя себя преступником, мистер Талльяферро спешил дальше.
Он торопливо прошел вдоль темной стены, миновал какие-то лавочки, тускло освещенные газовыми фонарями и пахнущие всевозможной едой, тошнотворной и слегка перестоялой. Хозяева с семействами сидели у дверей, раскачиваясь на стульях, женщины, баюкая младенцев, перебрасывались тихими южноевропейскими слогами. Впереди и вокруг копошились дети — не замечали его или, заметив, пригибались в тени, точно звери, сторожкие, безвольные и бездвижные.
Он свернул за угол. Роял-стрит уходила вправо и влево, и он нырнул в продуктовую лавку на углу, мимо хозяина, который сидел в дверях, для удобства раскинув ноги и вывалив на колени итальянское шарообразное пузо. Хозяин извлек изо рта невероятную короткую трубку, рыгнул, поднялся и последовал за покупателем. Мистер Талльяферро прытко выставил бутылку на прилавок.
Лавочник снова рыгнул, уже откровенно.
— День добрый, — промолвил он с густым британским акцентом, гораздо больше похожим на правду, нежели у мистера Талльяферро. — Малако, э?
Мистер Талльяферро, согласно бормоча, протянул монету и поглядел на толстые неповоротливые ляжки лавочника, который без малейшего омерзения забрал старую бутылку, сунул в отсек ящика и, открыв холодильник, достал оттуда свежую. Мистер Талльяферро попятился.
— А бумаги у вас нет? Завернуть? — робко спросил он.
— Ну конечно, — добродушно ответил лавочник. — Упакуем в лучшем виде, э?
Что он и проделал с досадной медлительностью; дыша свободнее, но все еще придавленный, мистер Талльяферро забрал покупку и, торопливо оглядевшись, ступил на улицу. Где остолбенел.
Она мчалась под всеми парусами, в сопровождении другой, поизящнее, но, заметив его, мигом сменила галс и привела себя к ветру под приглушенный шелест шелка и дорогостоящее бряканье аксессуаров — сумочки, цепочек, бус. Рука ее жирно цвела в браслетах, окольцованная и ухоженная, а с тепличного лица не сходило доверчивое детское изумление.
— Мистер Талльяферро! Как я поражена! — вскричала она, по своему обыкновению давя на каждое первое слово во фразе.
И она действительно была поражена. Миссис Морье двигалась по жизни, неизменно изумляясь случаю, даже если сама его подстроила. Мистер Талльяферро поспешно спрятал за спину свой груз — к неминучей погибели оного — и был вынужден принять ее ручку, не сняв шляпы. Эту оплошность он при первой же возможности исправил.
— Вот уж не ожидала увидеть вас здесь в такой час, — продолжала она. — Но вы, вероятно, навещали кого-нибудь из своих творческих друзей?
Изящная и молодая тоже остановилась и стояла, разглядывая мистера Талльяферро с равнодушной прохладцей. Старшая обернулась к ней:
— Мистер Талльяферро знает всех интересных людей в Квартале, милочка. Всех, кто... кто создает... создает разное. Красивое. Красоту, так сказать. — Миссис Морье невнятно махнула мерцающей дланью в небо, где бледными потускневшими гардениями уже расцветали звезды. — Ах, мистер Талльяферро, прошу меня извинить... Это моя племянница мисс Робин — вы помните, я о ней упоминала. Они с братом приехали утешить одинокую старуху...
Во взгляде ее сквозило подгнившее кокетство, и мистер Талльяферро, уловив намек, откликнулся:
— Чепуха, моя дорогая. Утешать надо нас, ваших несчастных поклонников. Быть может, мисс Робин смилостивится и над нами?
И он отвесил племяннице расчетливо формальный поклон. Та воодушевления не выказала.
— Вот, милочка, — миссис Морье в восторге развернулась к племяннице. — Перед тобой образчик южного рыцарства. Разве мужчина в Чикаго ответил бы так?
— Это вряд ли, — подтвердила племянница.
Ее тетка тараторила дальше:
— Вот почему я так мечтала, чтобы Патриция навестила меня, — здесь она познакомится с мужчинами, которые... которые... Видите ли, мистер Талльяферро, мою племянницу назвали в мою честь. Прелестно, согласитесь? — И на мистера Талльяферро вновь навалилось ее неизменное блаженное изумление.
Он опять поклонился, чуть не выронив молоко; его рука со шляпой нырнула за спину и придержала бутылку.
— Шарман, шарман, — согласился он, потея под шевелюрой.
— Но, право, удивительно повстречать вас здесь в такой час. И вы, надо полагать, удивлены нашей встречей не меньше? Но я только что нашла совершенно ди-ивную вещицу! Посмотрите, мистер Талльяферро, будьте добры, — мне бы так хотелось услышать ваше мнение.
Она предъявила ему тусклую свинцовую табличку, на которой смутно проступающим красно-синим барельефом, с гримасой детского изумления, неотличимой от гримасы миссис Морье, умильно улыбалась Мадонна, а Младенец, какой-то самодовольный и благодушный, смахивал на старичка. Мистер Талльяферро, чувствуя, что бутылка рискует выскользнуть, отнять другую руку не посмел. Наклонился к предъявленной ему вещице.
— Да вы возьмите, поверните к свету, — не отступала ее владелица.
Мистера Талльяферро опять слегка прошиб пот. Внезапно племянница сказала:
— Я подержу.
Она шагнула к нему с молодым проворством и, не успел он отказаться, забрала бутылку.
— Ой! — воскликнула племянница, сама чуть ее не уронив, а тетка вскричала:
— А, так вы тоже что-то нашли? Я запросто показываю вам свое сокровище, а вы тем временем прячете сокровище в сто раз лучше. — Она замахала руками, разыгрывая упадок духа. — Вы сочтете мою находку вздором, я прямо чувствую, — продолжала она, густо рисуя свое неудовольствие. — Ах, если б я была мужчиной — я бы день-деньской рылась в лавках и чего бы только не находила. Покажите, что у вас там, мистер Талльяферро.
— Это бутылка молока, — отметила племянница, разглядывая мистера Талльяферро с интересом.
Ее тетка взвизгнула. От сдерживаемых чувств ее грудь заходила ходуном, мерцая брошами и бусинами.
— Бутылка молока! Вы тоже заделались художником?
В первый и последний раз в жизни мистер Талльяферро пожелал смерти даме. Впрочем, оставаясь джентльменом, вскипел он лишь в глубинах сердца. И издал незадавшийся смешок:
— Художником? Вы мне льстите, моя дорогая. Боюсь, моя душа так высоко не метит. Мне вполне довольно быть только...
— Молочником, — подсказала дьяволица в девичьем обличье.
— ...и исключительно меценатом. Если позволите так выразиться.
Миссис Морье вздохнула разочарованно и удивленно:
— Ах, мистер Талльяферро, я смертельно разочарована. А я-то понадеялась, что ваши творческие друзья наконец-то убедили вас подарить частицу себя миру Искусства. Нет-нет, не говорите, что не можете; я уверена, что вы способны — вы, с вашей тонкой душой, с вашим... — Она снова невнятно махнула рукой небесам над Рампарт-стрит. — Ах, если б я была мужчиной, если б меня не сковывали иные цепи, помимо тенет души! Творить, творить. — И она непринужденно вернулась на Роял-стрит. — Однако же, мистер Талльяферро, — бутылка молока?
— Это для моего друга Гордона. Заглянул к нему сегодня, а он страшно занят. Сбегал ему за молоком на ужин. Художники! — Мистер Талльяферро пожал плечами. — Сами знаете, как они живут.
— Да уж. Гений. Жестокий надсмотрщик, не так ли? Возможно, вы поступаете мудро, не предавая ему в руки свою жизнь. Это долгий и одинокий путь. И как там мистер Гордон? Я так плотно занята — неотменимые обязательства, которых совесть не позволяет мне избегать (я, знаете ли, очень ответственная), — что попросту не успеваю часто навещать Квартал. А хотелось бы почаще. Я искренне обещала мистеру Гордону навестить его и вскорости позвать к обеду. Наверняка он думает, что я о нем забыла. Пожалуйста, извинитесь за меня. Передайте, что я о нем помню.
— Я уверен, что он понимает, сколько дел претендуют на ваше время, — галантно заверил ее мистер Талльяферро. — Даже не переживайте.
— Да, вообще не понимаю, как умудряюсь успевать хоть что-нибудь; всякий раз удивляюсь, когда мне выпадает минутка приятного досуга.
И она снова обратила к нему гримасу счастливого изумления. Племянница лениво и ловко поворачивалась на каблуке; мистера Талльяферро заворожил прелестный юный изгиб ее голеней, хрупких и прямых, как будто птичьих, завершенных двумя чернильными кляксами туфель. Шляпка сияющим колокольчиком обнимала ее лицо, а одежду она носила с небрежным щегольством, словно перед выходом распахнула гардероб и сказала: «Ну, пошли в город». Тетка ее между тем продолжала:
— А как наш выход на яхте? Вы передали мистеру Гордону мое приглашение?
Мистер Талльяферро всполошился:
— Ну-у... Он, понимаете, сейчас очень занят. Он... — И в припадке вдохновения договорил: — У него заказ, который не терпит отлагательств.
— Ах, мистер Талльяферро! Вы не передали, что он приглашен! Как не стыдно! Тогда придется мне самой, раз вы меня так подвели.
— Нет, я, право...
Она его перебила:
— Простите, дорогой мой мистер Талльяферро. Это несправедливо, я не хотела. Я рада, что вы его не пригласили. Лучше я сама — я смогу его убедить, как бы он ни сомневался. Он, знаете, весьма застенчив. О да, весьма, уверяю вас. Художественный темперамент — такой высокодуховный человек...
— Да, — согласился мистер Талльяферро, исподтишка наблюдая за племянницей, которая перестала крутиться и поместила свое как будто бескостное тело в позу угловатую и плоскую, за пределами измерений, чистейшую, как египетская резьба.
— Я займусь этим сама. Навещу его сегодня к вечеру; мы, между прочим, завтра в полдень отправляемся. Ему же хватит времени, как вы думаете? Он из тех художников, у которых особо ничего нет. Счастливцы. — Миссис Морье глянула на часы. — Батюшки светы! Половина восьмого. Нам пора бежать. Пойдем, милочка. Подвезти вас куда-нибудь, мистер Талльяферро?
— Нет, спасибо. Надо бы доставить Гордону молоко, а потом я ангажирован на вечер.
— Ах, мистер Талльяферро! Дамой — я даже не сомневаюсь. — Миссис Морье шаловливо закатила глаза. — Ужасный вы человек. — Она постучала его по локтю и прибавила, понизив голос: — Следите за тем, что говорите перед этой девочкой, будьте любезны. У меня склонности богемные, но она... такая неискушенная...
Голос ее омыл его жаром, и мистер Талльяферро напыжился; будь у него усы, он бы их сейчас огладил. Миссис Морье еще позвенела и померцала; лицо ее сложилось в гримасу чистейшего восторга.
— Ну разумеется! Мы подвезем вас к мистеру Гордону, я забегу и приглашу его на яхту. Вот как мы поступим! Хорошо, что я сообразила. Пойдем, милочка.
Не нагибаясь, племянница задрала голень вверх и вбок и почесала лодыжку. Мистер Талльяферро вспомнил про молочную бутылку, благодарно принял приглашение и, пристроившись к дамам, с щепетильной предупредительностью зашагал по краю тротуара. Чуть дальше по улице дорогостояще угнездилось авто миссис Морье. Чернокожий шофер вышел, распахнул дверцу, и мистер Талльяферро погрузился в роскошную обивку, обнимая свою бутылку молока, обоняя срезанные и изящно умостившиеся в вазе цветы, обещая себе автомобиль на будущий год.
[3] Фраза позаимствована из очерка Фолкнера «Из Назарета» («Out of Nazareth»), опубликованного в The Times-Picayune 12 апреля 1925 года. Памятник генералу Эндрю Джексону (1767–1845), седьмому президенту США (1829–1837), чья политическая философия стала основой платформы Демократической партии США (старого образца), поставили на площади в 1856 году; это копия вашингтонской скульптуры, созданной Кларком Миллзом (1815–1883) и поставленной в 1853 году, в честь 38-й годовщины победы Джексона в битве с британцами за Новый Орлеан (1815), которая завершила англо-американскую войну 1812–1815 годов. Джексон носил прозвище Старый Гикори, нередко фигурирующее в тексте далее, — оно происходит от орехового дерева гикори, оно же кария; это род деревьев с очень прочной древесиной и съедобными орехами (в частности, пеканом).
[4] Здания Понтальбы — два четырехэтажных здания красного кирпича, с двумя галереями, построенные на площади Джексона в 1849–1851 годах Микаэлой Леонардой Антонией де Альмонестер Рохас и де ла Ронде, баронессой Понтальбой, креольской аристократкой и застройщицей, парижской резиденткой, которая оставила неизгладимый след в истории Нового Орлеана. Шервуд Андерсон с женой жили в квартире в одном из зданий Понтальбы. Рядом с площадью стоит католический кафедральный собор Святого Людовика, один из старейших в США.
3
Они плавно катили, минуя фонарь за фонарем и втискиваясь в узкие повороты, а миссис Морье все говорила и говорила о душе — своей, и мистера Талльяферро, и Гордона. Племянница сидела и помалкивала. Мистер Талльяферро отчетливо чуял ее чистый юный запах, как от молодого деревца, а когда они проезжали под фонарями, различал изящный силуэт, и ему безлично открывались ее ноги, ее голые бесполые коленки. Мистер Талльяферро блаженствовал, вцепившись в свою молочную бутылку, желая, чтобы поездка не заканчивалась никогда. Но машина вновь подкатила к тротуару, и настала пора выходить, какая бы ни мешала ему неохота.
— Я сбегаю и приведу его к вам, — с предупредительным тактом предложил мистер Талльяферро.
— Нет-нет, давайте подымемся вместе, — возразила миссис Морье. — Пускай Патриция посмотрит, каковы гении у себя дома.
— Господи, теть Пэт, да видала я эти притоны, — сказала племянница. — Они же на каждом углу. Я вас тут подожду.
И она легко сложилась пополам, смуглыми руками расчесывая лодыжки.
— Очень интересно посмотреть, как они живут, милочка. Это восхитительно, вот увидишь.
Мистер Талльяферро снова запротестовал, но миссис Морье оборола его чистой силой слов. А посему, вопреки сомнениям, он, чиркая спичками, повел их вверх по извилистой лестнице, и три тени передразнивали их, чудовищно вздымаясь и опадая на ветхой стене. Задолго до финиша миссис Морье уже хрипела и пыхтела, а мистер Талльяферро черпал в ее затрудненном сопении ребяческую мстительную радость. Однако он оставался джентльменом; коря себя, он это чувство отогнал. Постучал в дверь, был приглашен, открыл.
— Вернулись, значит?
Гордон сидел в своем единственном кресле, жуя толстый сэндвич, с книгой в руке. Голая лампочка заливала его майку зверским светом.
— У вас гости, — запоздало предостерег мистер Талльяферро.
Но Гордон, вскинув глаза, уже разглядел за его плечом лицо миссис Морье и интерес, на этом лице написанный. Затем поднялся и обматерил мистера Талльяферро, который поспешил покаянно объясниться:
— Миссис Морье непременно хотела заглянуть...
Та вновь повергла его во прах.
— Мистер Гордон! — Она вплыла в комнату; гримаса счастливого изумления застыла, точно круглая тарелка на ребре. — Ну-с, как ваши дела? Умоляю, умоляю, простите нас за это вторжение! — курсивом фонтанировала она. — Мы сейчас повстречали на улице мистера Талльяферро с вашим молоком и набрались храбрости вступить в логово льва. Как вы поживаете? — Она извергла на него свою ладошку, озираясь довольно и с любопытством. — Так вот где трудится гений. Как прелестно — как... как оригинально. А это, — она показала на угол, занавешенный измаранным зеленым репсом, — ваша спальня, да? Как восхитительно! Ах, мистер Гордон, до чего же я завидую вашей свободе. И вид... у вас тут и вид имеется? — Не отпуская его руки, она завороженно вперилась в высокое бесполезное окошко, обрамляющее две истомленные звездочки четвертой величины.
— Имелся бы, будь я восьми футов ростом, — поправил ее Гордон.
Она метнула в него довольный взгляд. Мистер Талльяферро нервно рассмеялся.
— Это было бы прекрасно, — с готовностью согласилась она. — Я так хотела, чтобы моя племянница увидела настоящую студию, мистер Гордон, где работает настоящий художник. Милочка, — она грузно глянула через плечо, так и не отпустив его руки, — милочка, позволь представить тебе настоящего скульптора, от которого мы ожидаем великих свершений... Милочка, — повторила она громче.
Племянница, не смущенная лестницей, вплыла за ними следом и теперь стояла перед единственной здесь мраморной статуей.
— Подойди, побеседуй с мистером Гордоном, милочка.
В слащавых модуляциях миссис Морье смутно пробивалось что-то совсем не сладкое. Племянница повернула голову и слегка кивнула, не глядя на Гордона. Тот высвободил руку.
— Мистер Талльяферро говорит, у вас заказ. — Голос миссис Морье вновь засочился медом счастливого изумления. — Можно посмотреть? Я знаю, художники не любят показывать неоконченную работу, но мы же все друзья... Вы оба знаете, до чего чутка я к прекрасному, хотя сама и лишена творческого порыва.
— Да, — согласился Гордон, наблюдая за племянницей.
— Я давно собиралась посетить вашу студию — я обещала, вы же помните. Я воспользуюсь случаем и осмотрюсь... Вы не против?
— Да пожалуйста. Талльяферро вам все покажет. Прошу извинить. — И он характерно нырнул между ними, а миссис Морье пропела:
— Ну конечно. Мистер Талльяферро, как и я, чуток к прекрасному в Искусстве. Ах, мистер Талльяферро, отчего нам с вами даровали любовь к красоте, но отказали в способности творить ее из камня, и дерева, и глины...
Тело в коротком простом платье не шевельнулось, когда он подошел. После паузы он произнес:
— Нравится?
Подбородок у нее в профиль был тяжел — что-то в нем сквозило маскулинное. Но анфас не тяжелый — просто тихий. Губы полны и бесцветны, не накрашены, а глаза мглистые, как дым. Она взглянула на него в упор, отметив ледяную голубизну его глаз (как у хирурга, подумала она), снова перевела взгляд на статую и медленно проговорила:
— Не знаю. — А затем: — Она как я.
— В каком смысле как вы? — серьезно спросил он.
Она не ответила. Потом сказала:
— Можно потрогать?
— Если хотите, — ответил он, рассматривая линию ее подбородка, ее плотный коротенький нос. Она не шевельнулась, и он прибавил: — Не будете трогать?
— Передумала, — невозмутимо объяснила она.
Гордон обернулся на миссис Морье, которая что-то там словоохотливо разглядывала. Мистер Талльяферро со сдержанной страстью ей поддакивал.
— Почему она как вы? — повторил Гордон.
Она невпопад ответила:
— Почему у нее тут ничего нет? — Ее смуглая рука гибко обмахнула высокую плоскость мраморной груди.
— Да и у вас тоже. — (Она бестрепетно встретила его бестрепетный взгляд.) — Почему у нее там должно что-то быть? — спросил он.
— Вы правы, — отвечала она, бесстрастно и любезно, как равному. — Теперь вижу. Конечно не должно. Я не сразу... не сразу поняла.
Гордон с растущим интересом оглядел ее плоскую грудь, плоский живот, ее мальчишеское тело, с которым не вязались ни поза, ни тонкость рук. Бесполая, и, однако, смутно бередит. Может, просто молода — как теленок, жеребенок.
— Сколько вам лет? — обронил он.
— Не то чтобы вас это касалось, но восемнадцать, — без досады откликнулась она, рассматривая статую. И вдруг подняла взгляд на него. — Я хочу ее себе, — внезапно сказала она, искренне и пылко, вылитая четырехлетка.
— Спасибо, — сказал он. — И ведь вы это искренне, да? Но вам она, конечно, не достанется. Вы же и сами понимаете, правда?
Она помолчала. Было ясно, что она не понимает, отчего бы ей не заполучить статую.
— Видимо, — в конце концов согласилась она. — Я просто подумала — а вдруг?
— На всякий случай?
— Ну, завтра мне ее уже, наверное, не захочется... А если захочется, найду что-нибудь не хуже.
— Вы хотели сказать, — поправил он, — что, если захочется и завтра, вы ее получите. Да?
Ее рука, словно отдельный от нее организм, медленно потянулась, погладила мрамор.
— Вы почему такой черный? — спросила она.
— Черный?
— Не волосы и борода. Рыжие волосы, борода — мне нравится. А вы. Вы черный. То есть... — Голос ее умолк, и Гордон подсказал: «Душа?» — Я не знаю, что это такое, — тихо сообщила она.
— Да и я. Но можете спросить у тети. Она, похоже, с душами на короткой ноге.
Племянница обернулась, показав ему другой неравный профиль:
— Сами спрашивайте. Она идет.
Миссис Морье всей своей пухлой благоуханной тушей влилась между ними.
— Чудесно, чудесно! — в искреннем изумлении восклицала она. — А это...
Голос ее заглох, и она ошеломленно уставилась на статую. Мистер Талльяферро подхватил безупречно, присвоив антрепренерские лавры.
— Вы видите, что́ Гордон тут уловил? — мелодично протрубил он. — Видите? Дух юности — тонкой, твердой, чистой материи этого мира, которой желаем мы все, пока уста наши не засыплет прах [5].
Для мистера Талльяферро желание давным-давно стало неутоленной привычкой, конкретного предмета уже не требующей.
— Да, — согласилась миссис Морье. — Какая красота. А что... в чем ее смысл, мистер Гордон?
— Смысла нет [6], — огрызнулась племянница. — Она не обязана иметь смысл.
— Однако же...
— Какого вам смысла? Допустим, это означает... ну, собаку или крем-соду — какая разница? Она ведь и так хороша.
— В самом деле, миссис Морье, — поспешил примирительно согласиться мистер Талльяферро, — у нее необязательно есть объективный смысл. Нам надлежит принять ее как есть — чистую форму, вовсе не обремененную связями со знакомым или утилитарным объектом.
— О да, необремененную. — Это слово миссис Морье знала. — Ничем не обремененный дух, вольный полет орла.
— Теть Пэт, помолчите, — велела ей племянница. — Не валяйте дурочку.
— Но у нее есть, как выражается мистер Талльяферро, объективный смысл, — безжалостно вмешался Гордон. — Это мой женский идеал: девственница без ног — не уйдет от меня, без рук — не удержит меня, без головы — не заговорит со мной.
— Мистер Гордон! — Миссис Морье воззрилась на него поверх туго упакованной груди. А затем ей на ум пришел предмет, который объективным смыслом безусловно обладал. — Чуть не забыла, зачем мы так поздно зашли. Не то чтобы, — торопливо прибавила она, — нам требовалась иная причина, чтобы... чтобы... Мистер Талльяферро, как там раньше старики говорили — задержаться на запруженном тракте Жизни, дабы на миг преклонить колена перед Господом?.. — Ее голос затих, а на лице нарисовалось легкое беспокойство. — Или это я Библию вспомнила? Ну, не важно; мы заглянули пригласить вас на яхту, несколько дней на озере...
— Да. Талльяферро мне сказал. Простите, не смогу.
Глаза у миссис Морье весьма округлились. Она обернулась к мистеру Талльяферро:
— Мистер Талльяферро! А мне вы сказали, что не передали ему!
Мистера Талльяферро отчетливо покорежило.
— Прошу извинить, если создал у вас такое впечатление. Совершенно не намеревался. Я лишь хотел, чтобы вы поговорили с ним сами и побудили его передумать. Без него общество будет неполным, согласитесь.
— Абсолютно согласна. Ну в самом деле, мистер Гордон, может, вы передумаете? Вы же не хотите нас огорчить. — Она скрипуче наклонилась и шлепнула себя по лодыжке. — Прошу прощения.
— Нет. Извините. Работа.
Миссис Морье обратила свою гримасу удрученного изумления к мистеру Талльяферро:
— Не может быть, чтобы он не хотел поехать. Наверняка есть другая причина. Мистер Талльяферро, ну скажите же ему. Он нам решительно необходим. Мистер Фэрчайлд поедет, и Ева с Дороти тоже; без скульптора нам просто не обойтись. Переубедите же его, мистер Талльяферро.
— Я уверен, что его решение не окончательное; наверняка он не лишит нас своего общества. Несколько дней на воде принесут ему много пользы; освежат, как тоник. А, Гордон?
Соколиное лицо угрюмо маячило над ними, отрешенное, невыносимо надменное. Племянница отвернулась и теперь медленно дрейфовала по мастерской, серьезная, тихая, любопытная, стройная, как тополек. Миссис Морье молила Гордона взглядом, как собака, на миг умолкнув. Затем ее вдруг посетило вдохновение.
— Давайте, люди, все ко мне на ужин. Обсудим спокойно.
Мистер Талльяферро замялся.
— Я, знаете ли, на вечер ангажирован, — напомнил он ей.
— Ой, мистер Талльяферро. — Она возложила ладонь ему на рукав. — Хоть вы-то меня не подводите. Когда люди меня подводят, я всегда полагаюсь на вас. Вы не можете отложить ваше обязательство?
— Боюсь, право, что не смогу. Не в этом случае, — самодовольно ответствовал мистер Талльяферро. — Хотя я и сам сокрушаюсь...
Миссис Морье вздохнула:
— Ох уж эти женщины! Мистер Талльяферро — просто-таки гроза женщин, — уведомила она Гордона. — Но вы-то придете?
Племянница придрейфовала к ним и теперь стояла, терла икру одной ноги о голень другой. Гордон повернулся к ней:
— А вы там будете?
Будь прокляты их душонки, прошептала она, втягивая в себя воздух. И зевнула:
— О да. Я тоже нуждаюсь в пище. Но после этого пойду в постель чертовски рано.
Она снова зевнула, смуглыми пальцами похлопывая широкий и бледный овал рта.
— Патриция! — возопила ее тетка в потрясенном изумлении. — Разумеется, ничего подобного. Надо же, что удумала! Пойдемте, мистер Гордон.
— Нет, спасибо. Я и сам ангажирован, — чопорно ответил он. — Может, как-нибудь в другой раз.
— Я просто-напросто не желаю слышать отказа. Ну помогите же мне, мистер Талльяферро. Он просто обязан прийти.
— Вы хотите, чтобы он пришел прямо так? — спросила племянница.
Ее тетка мельком глянула на майку и содрогнулась. Однако храбро ответила:
— Ну конечно, если он пожелает. Что такое одежда в сравнении с этим? — Она рукой описала дугу; на орбите замерцали брильянты. — Так что вам не отвертеться, мистер Гордон. Вы должны прийти.
Рука замерла над его локтем, сделала бросок. Гордон бесцеремонно увернулся.
— Извините.
Мистер Талльяферро еле успел уклониться от его нырка, а племянница коварно заметила:
— За дверью висит рубашка, если вы ищете ее. Галстук вам не понадобится, с такой-то бородой.
Он приподнял ее за локти, как высокий узкий столик, и убрал с дороги. Затем подвластное ему длинное тело заполнило и освободило дверной проем, исчезло в коридоре. Племянница посмотрела ему вслед. Миссис Морье вытаращилась на дверь, а затем в тихом изумлении — на мистера Талльяферро:
— Да что же это... — Ее руки вотще стиснули друг друга в ворохе многообразных прихотливых аксессуаров. — Куда это он? — в конце концов произнесла миссис Морье.
Племянница внезапно сказала:
— Он мне нравится. — Она тоже взирала на дверь, через которую он, выйдя, опустошил комнату. — Я думаю, он не вернется, — заметила она.
Ее тетка взвизгнула:
— Не вернется?
— Ну, я бы на его месте не вернулась.
Племянница снова отошла к статуе, погладила ее с неторопливым вожделением. Миссис Морье беспомощно воззрилась на мистера Талльяферро.
— Куда?.. — начала было она.
— Схожу посмотрю, — предложил он, стряхивая с себя накативший столбняк.
Две женщины поглядели, как исчезает в темноте его опрятная спина.
— Никогда в жизни своей... Патриция, ты зачем ему нагрубила? Конечно, он обиделся. Ты что, не понимаешь, как чувствительны художники? А я его так пестовала!
— Чепуха. Ему на пользу. Он и так многовато о себе думает.
— Но оскорбить человека в его собственном доме! Не понимаю я молодежь. Да если бы я сказала такое джентльмену, вдобавок незнакомому... Не постигаю, о чем думал твой отец, кем он тебя вырастил. Уж он-то должен понимать...
— Это не я виновата, что он так себя повел. Это вы сами виноваты. Вы представьте: сидите вы в спальне, в одной сорочке, а к вам заявляются двое мужчин, которых вы толком не знаете, и давай уговаривать вас поехать, куда вы не хотите, — вот вы бы как поступили?
— Эти люди другие, — холодно возразила ей тетка. — Ты их не понимаешь. Художники не такие, как мы, — им не нужно уединение, они его совершенно не ценят. Но любой, будь он художник или кто, стал бы возражать...
— Ой, выбирайте шкоты, — грубо оборвала ее племянница. — Вас шкивает.
Деликатно пыхтя, вернулся мистер Талльяферро:
— Гордона срочно вызвали по делу. Он просил извиниться и передать, как он расстроен, что пришлось столь бесцеремонно вас покинуть.
— То есть к ужину он не придет, — вздохнула миссис Морье, ощущая груз своих лет, неотвратимость сумерек и смерти. Мало того, что ей нынче не удается залучить к себе новых мужчин, — похоже, ей и старых не удержать... вот и мистер Талльяферро... годы, годы... Она опять вздохнула. — Пойдем, милочка, — сказала она, странно присмирев, притихнув, отчасти став жалкой.
Племянница возложила крепкие загорелые руки на статую, жестко-жестко. О прекрасная, прошептала она, приветствуя и прощаясь, и быстро отвернулась.
— Пошли, — ответила она. — Умираю с голоду.
Мистер Талльяферро потерял спичечный коробок и был безутешен. По лестнице пришлось спускаться на ощупь, поднимая в воздух многолетние залежи пыли на перилах. Каменный коридор был прохладен, сыр, и в нем тоненько, приглушенно зудело. Они поспешили к двери.
Ночь воцарилась совершенно, и автомобиль терпеливым силуэтом угнездился у обочины; чернокожий шофер сидел внутри, подняв все стекла. В приятной привычности салона миссис Морье вновь воспрянула духом. Протянула мистеру Талльяферро ручку, снова подсластила голос гнилым кокетством:
— Так вы мне позвоните? Только не обещайте — я знаю, как ужасно вы заняты... — она подалась вперед, похлопала его по щеке, — Дон Жуан!
Он рассмеялся укоризненно, с удовольствием. Племянница из угла промолвила:
— Доброго вечера, мистер Тарвер.
Мистер Талльяферро застыл, слегка согнувшись от бедра. Закрыл глаза, точно пес, что ждет удара палкой, а время все длилось и длилось... он открыл глаза, не зная, сколько времени миновало. Но пальцы миссис Морье только-только отстранялись от его щеки, и не разглядеть племянницу в углу, эту бестелесную пагубу. Он выпрямился, чувствуя, как в животе положенным манером устраивается похолодевшее нутро.
Автомобиль отъехал, а мистер Талльяферро посмотрел ему вслед, раздумывая о юности этой девушки, о ее крепкой, чистой юности, со страхом и бередящим душу горестным вожделением, похожим на застарелую печаль. Неужто дети и впрямь как собаки? Умеют преодолеть твои заслоны, познать тебя инстинктивно?
Миссис Морье села поудобнее.
— Мистер Талльяферро — просто-таки гроза женщин, — уведомила она племянницу.
— Не сомневаюсь, — согласилась та. — Просто-таки гроза.
[6] В тексте растворена нередко фигурирующая у Фолкнера цитата из «Макбета» Уильяма Шекспира (акт III, сцена 2): «A tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing» («Это — повесть, рассказанная дураком, где много и шума и страстей, но смысла нет», перевод Михаила Лозинского). Из нее же, по версии некоторых критиков, одолжен «дурак», фигурирующий во вступлении к роману, а впоследствии, разумеется, и название романа «Шум и ярость» («The Sound and the Fury», 1929).
[5] Аллюзия на «Рубайат» Омара Хайяма в переводе Эдварда Фицджеральда:
Все мудрецы, которые в веках
Так тонко спорили о Двух Мирах,
Как лжепророки свергнуты; их речь
Развеял ветр, уста засыпал прах.(Перевод Осипа Румера)
