автордың кітабын онлайн тегін оқу Журавли летят на запад
Анна Рябинина
Журавли летят на запад
«Ты видел его и узнал себя в нем… молодом и беспечном, несущем спасение и потрясающую красоту»
Амвросий, De obitu Theodosii oratio, цит. по П.Браун «Культ святых»
«Ибо мир фэйри неуклонно отступает все дальше от мира, где правит Христос»
Мэрион Зиммер Брэдли «Туманы Авалона»
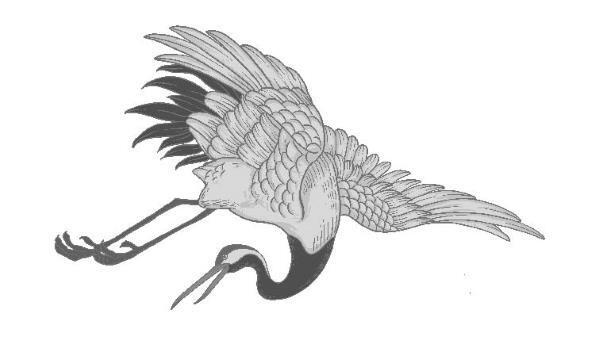
Серия «Сказания о магии Поднебесной»
Серийное оформление – Карки
Иллюстрация на обложке – Карки

© А. Рябинина, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Пролог
Смерть
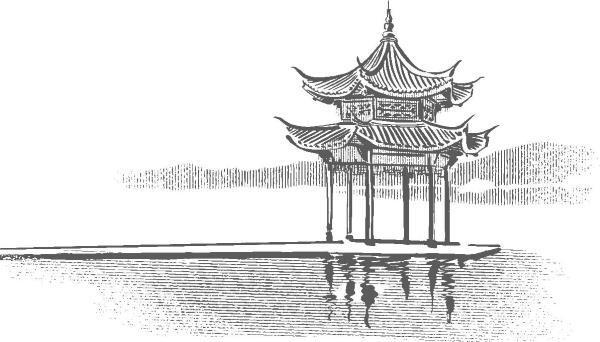
Сунь Ань прислоняется головой к стеклу, закрывает глаза, жмурится до звездочек, открывает, видит все то же – бесконечное белое поле. Одно белое поле, не имеющее ни конца ни края, словно ткань из рулона раскинули и она покатилась – из купе[1] вниз по лестнице, на улицу.
Он зябко цепляется руками за плечи, сминая ткань тонкой рубашки. Холодно. И устало. Как же хорошо, что сейчас это не имеет никакого значения. Он чуть сдвигает ногу, чтобы нащупать сумку. Он все еще тут, это хорошо. Это успокаивает. В конце концов, сейчас у него и осталась только эта сумка.
Ван Сун, которая пару минут назад выгнала его из купе, появляется в проходе и, бросив на него задумчивый взгляд, в котором почти физически ощущается осуждение, проскальзывает мимо. Сунь Ань назвал ее шумной. Точнее, подумал, что она шумная. Дело не только в голосе – а тот у нее громкий, и говорит она всегда весомо, так, что ее слова гулко разносятся по пустым коридорам поезда, – но и в том, какая она сама: с прямой спиной, гордым взглядом, полыхающим уверенностью во всем, что она делает.
Ван Сун шумная, теплая, такая отчаянно-живая, что резани ножом – и кровь брызнет, запятнает кипучестью все вокруг. Снова какие-то неприятные метафоры, от которых веет смертью.
Но было в ней что-то еще – что-то, что не позволяло назвать ее просто шумной и раздражающей, некая опасная мудрость, какая бывает только у девушек, просто потому, что, как говорила одна его подруга, мужчины не умеют понимать мир, им эта способность не дается. Мудрость, похожая на горение вулкана – так глубоко, что никогда не увидишь дна, так предупредительно-опасно, что лучше и не пытаться.
Сунь Ань чувствует себя рядом с ней белым листом. Или бесцветной застиранной тканью, висящей рядом с новой красивой одеждой. Он – в белом костюме, в белой блузке, с волосами, строго заплетенными в коротенькую косичку. Сам бледный, только глаза покрасневшие, будто плакал. Он уже давно не плакал, хотя, может быть, ночью, пока спал. Тогда он не мог контролировать свое тело, и вполне возможно, оно немного его предавало, а пугать людей красными глазами приходилось ему. Впрочем, из купе его выгнали не из-за этого.
Ван Сун тоже была ученицей господина Эра. Точнее, могла бы ею стать, если бы господин Эр не уехал из страны, оставив ее. И не только ее, впрочем. Они пару раз виделись в прошлом у него в доме, однажды господин Эр позвал их всех на чай, но Сунь Ань зашел буквально на пару минут – отдать любимые учителем конфеты, Ван Сун тогда мелькнула в дверном проеме – смеющаяся, вызывающе яркая, такая же яркая, как и сейчас, хотя и совсем маленькая, а потом – много раз снова, когда они с Чжоу Ханем вернулись в Китай. Чжоу Хань тогда еще хвалил ее чай, спрашивал название, а потом пару недель заваривал только его. И до сих пор только заваривал, в дурацком непонятном французском прошедшем времени. Уже больше не может.
Эта мысль ужасающей болью пронзает самое сердце, так, что Сунь Ань на секунду перестает дышать. Он снова жмурится до звездочек. Не помогает. Конечно, не помогает, как тут вообще что-то может помочь?
Поезд заходит на поворот, сумка немного съезжает, ударяется о стенку, и внутри что-то звенит.
– Так и будешь реветь? – Ван Сун встает у выхода из купе. Суровая, смотрящая цепко и внимательно, вся состоящая из сверкающего холодом до рези в глазах серебра, такого, из какого обычно куют броню.
– Я не знаю. – Дыхание снова приходится ловить, внутри легкие так тяжело болят, словно их насаживают на ребра.
– Я тебя не просто так выгнала, сходи, открой окно, подыши воздухом, что ли. – Едва ли она говорит это из глубокой заботы к нему. Скорее, из нежелания дальше смотреть на то, как он мучается.
Сунь Ань комкает в руках пиджак. Ладони замерзли и плохо слушаются.
– Ну ставь, – разрешает Ван Сун в момент, когда из соседнего купе выглядывает Ли Сяолун. Он тоже мгновенно решил воспользоваться плюсами пересеченной китайской границы – распустил косу и остриг волосы, правда, теперь из-за этого на одной стороне прическа кажется совсем куцей. Но Сунь Ань понимает. Он сам всегда ненавидел эту косу.
Весь первый год во Франции он старательно отращивал волосы – Чжоу Хань дразнил его и шутил, что Сунь Аню нужно в модели, раз он так печется о прическе, иногда бухтел, что Сунь Ань на самом деле не поддерживает идеи, а просто борется за право носить красивые прически[2]. Но Сунь Ань и не мог особо ничего возразить – он же правда злился, что не может расчесывать волосы так, как хочет.
Потом, правда, Чжоу Хань дарил ему красивые заколки, и от этих воспоминаний внутри все сжимается так, что снова хочется плакать, но Сунь Ань обещал себе, что больше не будет. Он и так один раз разревелся над банкой с прахом и переживал, что тот размокнет, а повторения такого не хотелось.
Он помнил день, когда они это обсуждали – они гуляли по Елисейским полям. Чжоу Хань ворчал на то, что Сунь Ань влез в очередные проблемы, а сам Сунь Ань что-то болтал про то, что хочет поступить в художественную академию.
– Тебе не хватает возни с делами в конторе? – спросил тогда Чжоу Хань.
– Это другое.
– Совсем нет.
– Ну и чего ты возмущаешься? – смеется Сунь Ань, а потом неожиданно спрашивает: – Поехали на выходные куда-нибудь в пригород? Я поспрашиваю, может быть, к кому-нибудь будет можно.
– Так ты хочешь в академию, чтобы найти больше богатых бездельников, к которым можно приезжать на выходные?
– Разумеется, – кивает он, а потом протягивает руку и тыкает Чжоу Хань в нос. – Не морщись.
– Они меня раздражают.
– Ты можешь не ходить со мной.
– Но я хочу.
Сунь Ань закатывает глаза, но все еще чувствует себя бесконечно счастливым. На поезд, они, кстати, чуть не опаздывают и несутся по перрону, потом залезают на приступочек последнего вагона. Залезает Сунь Ань, а потом тянет на себя Чжоу Ханя, и пока они пытаются убраться на тесной площадке с другими опоздавшими, придерживает его за плечо.
Всю дорогу Сунь Ань спит на плече Чжоу Ханя под громкое чтение каких-то реплик из «Бури» с соседнего ряда.
– Можно было остаться спать дома.
– Тшш, – просит Сунь Ань. – Там дальше должна быть красивая строчка, – он вздыхает. – «Сон в горе – редкий гость; когда ж приходит, он утешение несет».
Сейчас он тоже шепчет эти строки, прислоняясь лбом к заледевшему стеклу. Кожа тут же немеет, но так даже лучше – лучше чувствовать боль, чем не чувствовать ничего.
– Можешь остаться у меня, если хочешь, – говорит Ли Сяолун, подходя ближе. – Если Ван Сун тебя совсем съест.
Но что делать, если уже даже сон не несет ничего, кроме ужаса, накатывающего после пробуждения еще сильнее?
– У тебя руки ледяные, – продолжает Ли Сяолун, касаясь его ладоней. Сунь Ань отодвигается.
– Неважно.
– Не трогай его, – сурово требует Ван Сун.
Ли Сяолун шикает на нее и увереннее берет Сунь Аня за руки.
– Пойдешь ко мне в купе?
Сунь Ань открывает рот, чтобы что-то сказать, но начинает кашлять – долго, сухо, прикрывая рот все теми же ледяными руками, которые больно касаются щек, словно натянувшихся на костях от того, что он давно уже почти ничего не ест.
Ли Сяолун снова его касается – и это ощущается, как если бы огонь пожирал вставший на реке лед: больно, неприятно, сдирая с воды корку льда, как с ранки только запекшуюся кровь, – берет за локоть и тянет на себя.
– Пойдем.
– Вы же злитесь на меня, – удается сказать Сунь Аню, после чего он снова начинает кашлять. Грудь болит, словно на ней сидит снежный монстр – или ледяная кошечка из ночных кошмаров, когда ты вроде спишь, а вроде уже проснулся, и вокруг тебя бродит существо из другого мира, которое одновременно здесь и где-то далеко, и спасает только осознание, что рядом, на соседней кровати в крошечной комнате у самой крыши, Чжоу Хань, протяни руку – и коснешься. Он сам – как существо из мира за зеркалом, за водной гладью, с вечно ледяными руками, с темными в океанскую штормовую черноту глазами, с тонкой белой кожей, напоминающей дорогой фарфор, мягкий и суровый, говорящий из-за акцента на французском напевами, улыбающийся скупо, как святые на фресках в католических соборах.
Только теперь никого коснуться уже не получится.
– Ну, злиться надо на кого-то живого, а ты, судя по внешнему виду, тоже скоро помрешь, – честно откликается Ли Сяолун, заводит его в купе, пытается забрать из рук Сунь Аня банку с прахом, и тот едва ее удерживает, потому что пальцы заледенели и плохо слушаются, но, оставив попытки, просто накрывает его своим же пальто. – Что будешь есть?
– Ничего, – Сунь Ань забивается в угол вагона и чувствует, как живот болит от долгого голода, но принципы важнее.
Он прижимает банку к себе, тоже заворачивая ее в пальто, а потом, немного повозившись, скидывает ботинки и залезает на кушетку с ногами. Ли Сяолун смотрит на его копошение внимательным, чуточку печальным взглядом, а потом вздыхает, достает откуда-то фляжку и протягивает Сунь Аню.
– Это просто вода, если что, у тебя губы уже до крови потрескались, – говорит он, садясь рядом.
Сунь Ань не к месту думает, что похожим образом Чжоу Хань разговаривал с пугливыми уличными котятами – медленно подходил, предлагал еду, касался, чтобы получить их доверие. От этой мысли к горлу снова подкатывает ком, но он продолжает держаться.
– Ты не обязан. – Он снова кашляет и сжимается сильнее.
– Но хочу, – упрямо говорит Ли Сяолун. – Ты не можешь прятаться вечно.
– Вы сами от меня закрылись.
– И есть за что, – на этих словах Сунь Ань все же делает несколько глотков воды и, чуть ими не подавившись, прислоняет болящую голову к стене. Смотрит во тьму окна – интересно, если сейчас пролетит метеор, это будет душа Чжоу Ханя? Хоть одна из трех? Если бы он уделял больше времени изучению своей родной страны, то знал бы сейчас, где они.
Однажды Сунь Ань с Чжоу Ханем ездили из Парижа в Рим – господина Эра позвали на какую-то конференцию, он уехал, но благополучно забыл часть своих наработок, поэтому им пришлось ехать вдогонку. Сунь Ань тогда не спал всю ночь, пытаясь разобраться в бумагах для конторы, поэтому заснул под мягкую качку почти мгновенно. Он любил спать на плече Чжоу Ханя – в этом было что-то доверительное, и когда он чувствовал, как Чжоу Хань прислонялся щекой к его макушке, почти сразу проваливался в сон.
Разбудили его, когда они прибыли к станции, – пока не Рим, а какой-то пригород, но Чжоу Хань знал, как долго Сунь Ань просыпается и возвращается в реальность, поэтому предусмотрительно делал это заранее. Он тогда поднял голову, чувствуя себя, откровенно говоря, плохо сварившимся киселем – таким же мягким и потерявшим форму.
– Долго еще?
– Час максимум.
– Хорошо, – Сунь Ань положил голову обратно.
– У тебя вся прически растрепалась, – рассмеялся Чжоу Хань и медленно убрал пряди от его лица.
– Это все твое плечо виновато.
– Ну конечно.
Несколько минут они молчали, а потом Сунь Ань вздохнул.
– Мы же останемся на пару дней? Погуляем, посмотрим на руины.
– Давай, – соглашается Чжоу Хань. – Тогда ты съездишь к учителю, а я пока поищу нам гостиницу? Встретимся у колонны Траяна.
Сунь Ань кивнул и спрятал лицо у него в плече, а потом радостно зажмурился.
Сейчас голова неприятно стукается о стенку, отчего начинает болеть только сильнее. Сунь Ань почти физически чувствует взгляд Ли Сяолуна на себе, но решает его проигнорировать.
Тогда он опоздал почти на час, а потом начался дождь, и он бежал под ним, громко шлепая по лужам, надеясь, что они с Чжоу Ханем все же смогут найтись. Вода заливалась за шиворот, а волосы облепили лицо, и он тогда отстраненно подумал, что выглядит, наверное, просто кошмарно.
Чжоу Хань никуда не ушел, зато хозяйственно нашел где-то зонтик и стоял у самой колонны – Сунь Ань разглядел его даже через еще не успевшую рассеяться толпу людей, и вдруг заулыбался.
– Прости, я заблудился. – Он подошел ближе и залез под зонтик, правда, это сильно ситуацию спасти не могло.
Пока они шлепали по лужам вместе, Сунь Ань рассказал, что на конференции встретил очень красивую и солидную женщину – ее представили как жену какого-то ученого, но господин Эр потом объяснил, что она его колежанка, и основная часть наработок принадлежит ей, и все это знают, просто Академия не хочет признавать ее достижения, так как она женщина.
– Это очень несправедливо, – все хмурился Сунь Ань. – Разве…
На языке крутилось: «Таким образом Академия не признает, что мужчины думают тем, что находится между ног?» – но он был слишком хорошо воспитан, чтобы говорить это вслух.
Чжоу Хань, кажется, уловил эту мысль без слов и хмыкнул.
– Она такая умная, знаешь! Мы с ней немного поговорили, пока я ждал учителя, она рассказывала мне что-то про археологические находки в Англии и что она сама ездила туда копать…
– Тоже вдохновился?
– Поедем в Англию? – оживился Сунь Ань. Они уже подошли к отелю и встали под крышей, чтобы Чжоу Хань мог стряхнуть с зонтика воду. Чжоу Хань на секунду замешкался, а потом поднял на него свои темные глаза.
– С тобой – куда угодно.
Как же иронично, что в итоге они туда едут, потому что Чжоу Хань умер.
Сунь Ань обнимает себя одной рукой и закрывает болящие глаза.
Он не знает, в какой момент Чжоу Хань стал так сильно важен – возможно, он был важен всегда, и Сунь Ань привык, что тот всегда рядом. Когда они впервые опаздывают на занятия в школе – каждый в свой класс, но вместе, когда они учат французский, – Сунь Аню лень, но лучше получается произношение, когда катаются вместе на одном велосипеде, и Чжоу Хань обнимает его, если Сунь Аню снятся кошмары, когда вместе воруют у господина Эра с кухни бутылку вина в шестнадцатилетие Чжоу Ханя и пьют его из горлышка в комнате Сунь Аня.
Сунь Ань знал, что Чжоу Хань уставал от людей слишком часто и так же часто хотел побыть в тишине, Чжоу Хань знал, как Сунь Аню важно внимание.
Чжоу Хань был рядом, когда он учился шить, он был рядом с Чжоу Ханем, когда подрался с какими-то уличными мальчишками и вытирал обеими руками кровь, текущую из носа.
– Не заляпай мне белую рубашку, – потребовал Сунь Ань, а потом, вздохнув, вытер кровь с его щеки. – Тебе ведь уже семнадцать, разве можно просто так лезть в драку?
– Ты же ссоришься со старушками в очереди в булочную, – пробубнил Чжоу Хань.
– Это другое, – со знанием дела сообщил Сунь Ань, а потом они вместе засмеялись.
Сейчас Сунь Ань тоже смеется и отчетливо слышит в этом смехе слезы, а Ли Сяолун смотрит на него как на помешавшегося.
– Тебе нужно поесть и отдохнуть, – говорит он.
Он так сжимает урну, что какой-то острый краешек режет ладонь и он ойкает. Перед глазами снова встает лицо Чжоу Ханя после драки – по-прежнему по-детски мрачное, но с нотками странной, мягкой нежности, которая оборачивается в воспоминаниях гримасой мертвеца.
– Ты не хочешь со мной поговорить, прежде чем пускать в купе?
– А тебе это нужно? – осторожно уточняет Ли Сяолун. Сунь Ань зло хмыкает.
– Ну конечно, я же здесь главный злодей, а все остальные не при чем.
– У тебя начинается истерика, – Ли Сяолун касается его руки. – Давай ты сначала отдохнешь, а потом мы решим…
– Да нечего уже решать, – шепчет Сунь Ань. – Вы все уже решили.
Ли Сяолун тянется, чтобы его обнять, и Сунь Ань испуганно замирает.
– Даже если мы ссоримся, это не значит, что я хочу сделать тебе больно, – тихо говорит он.
Сунь Ань в ужасе распахивает глаза.
Точно такие же слова сказал однажды Чжоу Хань. Это было его, Чжоу Ханя, двадцать первый день рождения. Три года после Рима, еще год до трагедии. Они в тот день почему-то очень сильно поссорились – как это часто и бывает, Сунь Ань плохо помнил причину, только то, что они кричали друг на друга, стоя на балконе. Точнее, он кричал, а Чжоу Хань просто выглядел очень злым. Было не сильно холодно, но Сунь Ань замерз в одной легкой кофточке, отчего начал злиться только сильнее.
– Зачем ты делаешь мне так больно? – крикнул тогда в сердцах он.
– Сунь Ань… – беспомощно отозвался Чжоу Хань. – Ты…
А после этого вздохнул, словно заталкивая всю свою злость куда-то очень глубоко, чтобы потом переплавить ее во что-то более полезное, и подошел ближе.
– Давай сядем и успокоимся.
– Я не собираюсь успокаиваться! – Сунь Ань замолк, когда Чжоу Хань схватил его за руку.
– Ты замерз, – заметил он, а потом снял свой пиджак и набросил его Сунь Аню на плечи. – Не злись, ладно? – Они сидели на полу у балконной двери: Сунь Ань – все еще в пиджаке Чжоу Ханя, но уже не такой недовольный, сам Чжоу Хань – задумчивый и тихий. Сунь Ань тогда положил Чжоу Ханю голову на плечо, а потом услышал:
– Я никогда не захочу сделать тебе больно, даже если мы ссоримся, слышишь?
Сунь Ань закусывает губу и чувствует соленый вкус крови, вытекающей из начавшей мгновенно саднить губы. Они не поссорились, но Чжоу Хань все равно в итоге сделал ему больно.
Сунь Ань помнил, как сильно хотел кричать, когда впервые увидел урну с прахом. И как рыдал, обнимая ее.
Сейчас он хочет только закрыть глаза и уйти в эту серую снежную мглу. Раствориться в каждой снежинке, пусть они заберут его боль, пусть пурга выревет весь его страх, пусть небо заберет себе весь ужас, что живет внутри него и злым раненным испуганным зверем рвет душу в клочья. Он бы хотел сейчас распахнуть окно, выбить его, так, чтобы стекольный звон еще долго эхом разносился по пустоши, и выкатиться в снег, чтобы чувствовать, как он щиплет его голые руки, как забивается в воротник.
Однажды в Париже была по-настоящему снежная зима. Чжоу Хань бубнил, что в двадцать он совершенно точно не собирается лепить снеговиков, а Сунь Ань уже скатывал второй шар и широко ему улыбался. Он уже не помнил, как именно, но в итоге они оба оказались валяющимися в снегу – Чжоу Хань сел рядом с ним и, наклонившись, убрал пряди с его лица.
– У тебя нос в снегу, – засмеялся Чжоу Хань и щелкнул его по носу, а Сунь Ань не удержался от поддразнивания.
– А говорил, что уже не маленький, чтобы возиться в снегу.
Сейчас он только смотрит на то, как за окном тоскливо ползет бесконечная пустошь: серо-белый мир без конца и без края, полное отсутствие дороги, будущего, хотя бы чего-то впереди, что не эта горькая вечная маета. Может быть, и хорошо, что Чжоу Хань погиб зимой – он любил зимы и сам казался вечным холодом, который забирается так глубоко в душу, что невозможно вытравить, невозможно согреться. Но Сунь Ань никогда не возражал. Он был готов на все – на холод, на жизнь в стране соборов и гильотин, на путешествие в страну короля Артура, на возвращение в шепчущий болью Китай. Рядом с Чжоу Ханем он готов был стерпеть что угодно.
Ведь и погиб Чжоу Хань только потому, что захотел вернуться. А зачем? Ради чего? Он хотел быть ближе к своей стране, хотел что-то делать, а разве Парижа ему не хватало? Их Парижа, полного крови, споров, только-только начавшего оправляться от войны с Германией, пытающегося пересилить удушье попытки вернуть монархию, их смелого Парижа? Зачем же нужно было возвращаться в эту мрачную страну, полную чужих криков, полную борьбы, так давно им не понятной?
Они спорили об этом с Ван Сун – еще до отъезда, ругались даже почти, она говорила, что это он ничего не понимает, но как он мог понимать, если все важное было во Франции? Его юность, его летние вечера, его маленькая подпольная типография, его контора, похожая на крошечную лодочку, борющуюся с течением. Все, что у него было, принадлежало Франции. Все, что у него было, отнял Китай.
«Ты даже не представляешь себе, какую чушь несешь», – сказала тогда Ван Сун, хлопнула дверью и вышла. Искать по перекупщикам билеты за границу Китая. Потому что у нее была своя вера, в которую она, впрочем, Сунь Аня посвящать не желала. Но которая, как он знал, сводилась к довольно простой цитате Дантона, написанной на французском, а ниже – на китайском у нее на руке чернилами: «Родину нельзя унести с собой на подошвах сапог». Только для нее это означало немного другое, и, наверное, это была правильная тактика – едва ли стоило полностью следовать словам человека, закончившего свою жизнь на гильотине. Если ты уезжаешь из страны, она навсегда остается в твоем сердце, а уезжая, ты решаешь, что можешь помочь там, куда ты едешь, так зачем нести ее на подошвах? Да и сапог у Ван Сун не было, только ботинки на звонких каблуках, шнурки на которых она завязывала бантиками.
Когда Сунь Ань почти засыпает, в купе заходит Ли Сяолун. Приходится поднять тяжелую голову и опереться рукой на кушетку, чтобы не съехать обратно.
– Чжоу Хань, пожалуйста, вернись, – просит Сунь Ань в первый раз: совсем тихо, проваливаясь в долгожданную темноту и чувствуя, как его накрывают одеялом.
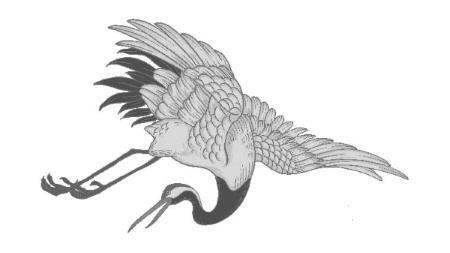
Когда маньчжуры завоевали Китай, они принудили население носить косы: коса заплеталась на затылке или макушке, а у лба и на висках волосы выбривались. Когда тайпины начали восстание, они намеренно стали отпускать длинные волосы в знак неповиновения, за это их называли «длинноволосые» (чанмао).
Первая железная дорога в Китае появилась в 1875 году, ее под видом строительства конки проложила британская торговая фирма «Джардин, Мэтисон и Ко» от Шанхая до Усуна. Строительство велось без одобрения правительства династии Цин, и вскоре дорога была выкуплена и разобрана. Здесь и далее упоминаются перемещения героев на большие расстояния по железной дороге, по воде, в первую очередь они метафоричны, пусть и имеют под собой реальную основу. На карте таких дорог не найти, но их и не нужно искать.
Глава 1
Отправление
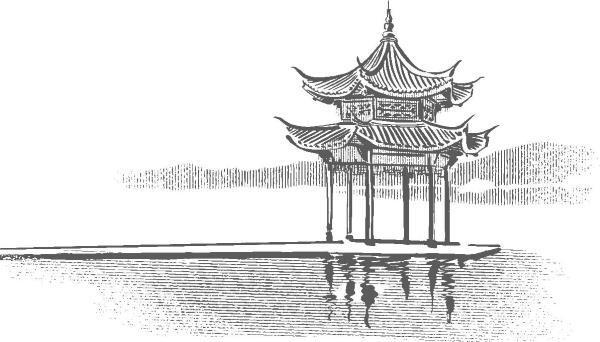
– Я решила назвать его Ань, как «спокойствие», – Яо Юйлун нежно тыкает мальчика на своих руках в нос, и тот начинает смеяться, потом пытается поймать руку Яо Юйлун, а она лишь приподнимает ее выше, дразня, и смеется в ответ.
– Ты пытаешься внушить ему, как стоит себя вести? – Жильбер улыбается лукаво, чуточку насмешливо. Все, что он знает про ребенка – это сплетни служанок, но они вполне красноречивы: кричал всю ночь, ударил одну из них игрушкой по голове, схватил кошку за хвост и чуть не уронил на себя горшок с рисом. И это ему пока всего пять месяцев! Что будет, когда он подрастет?
Жильберу остается надеяться, что тогда он будет где-нибудь подальше.
Кажется, Яо Юйлун тоже думает о чем-то похожем, поэтому ее лицо грустнеет.
– Он обязательно выживет, – обещает Жильбер.
– Пока он старается только убиться, – хмыкает она, осторожно гладя сына по щеке. Тот все хватает ее за руку и сразу начинает тянуть пальцы в рот, сосредоточенно угукая.
– Зато он полон желания исследовать мир.
Яо Юйлун не заслужила, чтобы еще один ее ребенок умер, не дожив и до года, поэтому Сунь Ань обязан выжить – или Жильбер-таки познакомится с Посланниками смерти и заставит их вытащить ребенка обратно.
– Ты не хочешь остаться? Последишь за ним, – вдруг предлагает Яо Юйлун.
Как же тактично с ее стороны – знает, что Жильберу все равно некуда податься, что его и из страны могут выкинуть на первой попавшейся лодочке, что могут убить за любым поворотом, но не говорит: «Оставайся, я же знаю, что ты как листок на ветру – нужен только гусеницам, которые тебя съедят», а просто предлагает последить за ребенком.
И непонятно, то ли это он великодушно соглашается, то ли она великодушно впускает его в дом.
– Ты же знаешь, из меня кошмарный учитель.
– Можешь рассказывать ему историю, сказки, учить чему-нибудь полезному, – Яо Юйлун вздыхает. – Не думаю, что в ближайшие годы у него появится шанс выучиться нормально.
– Ты думаешь, восстание не захлебнется само?
Яо Юйлун качает головой. Заколки на ее голове едва уловимо звенят – скорбно, как колокольчик, зовущий умершие души.
– Я не знаю, что будет, никогда не училась на гадательницу, но оно… злое. И сильное, сильнее, чем мелкие восстания в деревнях, мне кажется. Такое просто так не пройдет.
– Как бы меня правда не выслали.
– Я что-нибудь придумаю, – Яо Юйлун вдруг лукаво улыбается и поудобнее перехатывает ребенка, который сразу же начинает наматывать пряди ее волос на пальчики. – А ты не думал уехать сам? Ну, после всего, что случилось?
Жильбер думал, конечно же. И даже почти уехал – просто когда дошел до доков, почувствовал, что пока не может. Сердце тянуло обратно и ныло так сильно, будто он был готов прямо сейчас лечь и умереть. Он боялся Китая и не мог из него уехать – глупо на самом деле, но с этим едва ли можно что-то поделать.
Впрочем, навряд ли Яо Юйлун так интересно об этом слушать. Она может поддержать, придумать, как помочь, но Жильбер знает – она никогда не скажет, что он был прав.
– Я просто сменю имя, – отвечает он в итоге. – Называй меня, пожалуйста, господином Эром.
– А ты не слишком маленький, чтобы тебя господином называть? – смеется Яо Юйлун. Ну конечно, она старше его почти на пять лет, но, как говорит Джинни, по сознательности там разница идет на столетия.
– Для твоего сына буду достаточно старым, чтобы он называл меня именно так.
Яо Юйлун легонько щелкает его по лбу.
– Такой молодой, а уже вредничаешь и хочешь обманывать моего сына.
– Защищать, а не обманывать, – возражает Жильбер, и в ответ на это Яо Юйлун только хмурится. Жильбер знает – она не одобряет большую часть его решений, как и нежелание больше видеть Мэя, но страх, что колко ворочается в груди, сильнее.
Как же это жалко – поменять имя, чтобы он не мог его найти, но оставить тоненькую ниточку, узкую дорожку, это «Эр» от настоящего имени, будто в надежде, что Мэй согласится найти его сам.
Ну так и пусть ищет! Не Жильбер же виноват, что они рассорились.
– Не от колдовства нужно защищать людей, – мягко возражает его мыслям Яо Юйлун, будто прекрасно знает, о чем он думает.
– Оно тоже опасно.
– Только если сделать ему больно, – глаза Яо Юйлун кажутся совсем темными, как ночное небо в шторм, и на пару мгновений Жильбер даже пугается – что она еще ему скажет? За что упрекнет? Но Яо Юйлун только переводит разговор на другую тему, – когда А-Жун уезжает?
А-Жун – она же Джинни, она же Вирджиния. Жильбер так до сих пор и не понял, то ли Яо Юйлун правда не могла выговорить ее имя, то ли не хотела, то ли ей просто нравилось дразнить суровую, холодную Джинни, называя ее веселым, ласковым А-Жун.
– Сказала, что через неделю.
– Хорошо, – кивает Яо Юйлун. – И куда она?
– В Россию.
Яо Юйлун кивает еще раз.
– Она сказала, что больше сюда не вернется, – вдруг говорит Яо Юйлун, чуть подумав. – Давно еще, может быть, конечно, передумала, но мне кажется, что нет.
А вот этого Жильбер не знал. Сердце снова колет ощущением потери – таким же, как тогда, когда он попытался уплыть обратно во Францию.
– Ну, она же у нас любительница путешествовать, может быть, и вернется.
– Если будет, куда возвращаться.
Да, все же Жильбер – никудышный умелец поддержать. Либо дело в том, что поддержка Яо Юйлун не нужна. Она спокойно смотрит на него, гладит Сунь Аня по голове, чуть покачивается, баюкая его. Женщина, которой не нужно сочувствие. И печаль его, Жильбера, тоже не нужна.
Может быть, поэтому Вирджинии она нравится так сильно – ей, в отличие от Жильбера, не нужна опора. Она сама – самое сильное, самое крепкое дерево, что не согнется ни под каким ветром.
Джинни находится в своей комнате – туда Жильбер отправляется почти сразу после разговора с Яо Юйлун. Благо идти недалеко – эти двое всегда живут рядом, будто им так удобнее болтать по ночам и обсуждать какой он, Жильбер, бесполезный.
– Почему ты не сказала мне, что больше не вернешься в Китай? – выходит жалко. С отчаянием.
– Потому что последние два месяца ты только и говорил о том, что хочешь сам уехать обратно в Париж, тогда какая тебе разница? – понятно, она тоже злится на него за то, что он никак не может решить, что ему делать дальше. Что ж, сегодня у тебя день получения нагоняев от женщин, терпи.
Здравый смысл говорит, что у него такой каждый день, но Жильбер старается эту мысль прогнать.
– Я передумал.
– Я так и поняла, – кивает Джинни.
– А как же Яо Юйлун?
– Что с ней? – Джинни чуть недовольно хмурится. – У нее родился сын, наконец-то свалил куда-то муж, жизнь только налаживается, что за нее переживать?
Она не переходит на французский вслед за Жильбером, продолжает отвечать на китайском, будто хочет показать – у нее от Яо Юйлун нет секретов, пусть ветер донесет эти слова до нее, и та все узнает.
– Ты думаешь, Сунь Чжан не вернется?
– Было бы хорошо, если нет.
– Ты жестокая.
– Это он жестокий, а я справедливая.
Жильбер мог бы сказать, что это одно и то же, но знает, что за такое его и по голове побить могут, поэтому благоразумно молчит.
– И чем ты будешь заниматься в России?
– Не знаю пока, – пожимает плечами Джинни. – Заниматься изучением народов Сибири. Или найду себе красивого умного профессора, сделаю вид, что хочу стать его женой, и буду использовать его библиотеку и деньги для своих занятий.
– Профессора редко бывают прям красивыми, – ядовито замечает Жильбер.
– Значит, жену профессора и подружусь с ней, – весело подмигивает ему Джинни.
Жильбер вздыхает.
– Это значит, что мы больше не увидимся?
– Ну зачем так плохо! Увидимся еще, может быть, просто потом, однажды же ты проживешь свою печаль и вернешься во Францию, я, может быть, тоже. – Как у нее все просто!
– Если не найдешь себе профессорскую жену?
– Именно! – воодушевленно кивает Джинни. – Видишь, ты уже проникся идеей.
А потом она раскрывает руки и тянет его к себе.
– Мне не пять лет, – упрямо возражает Жильбер.
– Конечно, – соглашается Джинни. – Пока только три годика.
И он правда опускается на пол рядом, кладет голову ей на колени, как в детстве, когда он пугался кошмаров и прибегал к ней в комнату, плакал, просил посмотреть, нет ли в комнате монстров. Вот и сейчас – просит защиты, хотя и знает, что Джинни откажется его защищать со словами, что он сам во всем виноват.
Она запускает пальцы в его волосы и мягко их гладит.
– У тебя появилась седина, – тихо говорит она.
– Правда?
– А вроде бы еще так рано.
Она гладит его по лбу, носу, потом целует куда-то в макушку.
– Останься пока тут, помоги Яо Юйлун, может быть, тебе понравится дружить с ее сыном. А потом посмотришь, куда можно податься.
– Я не хочу больше быть священником, – Жильбер выдыхает. – У меня не получается.
– Ну так не будь, – легко предлагает Джинни. – Не думаю, что кто-то сильно расстроится, я маме еще тогда говорила, что из тебя священник, как из меня оперная певица. Да и смысла в этом уже особо нет, сколько воды утекло.
– Правда? – искренне удивляется Жильбер.
– Правда.
– Так это же ты и предложила меня отправить в монастырь.
– А ты хотел, чтобы про тебя и дальше по всему Парижу слухи ходили? Но вообще изначальный вариант состоял в том, чтобы отправить тебя в деревню к нашим родственникам.
– Какой ужас, – Жильбер представляет себе жизнь, в которой пришлось бы вставать в шесть утра, терпеть сотню людей в доме, сплетни, еще более ужасающие своими подробностями, чем в городе, сватовство на каждой встречной девушке, и соглашается, что Джинни еще поступила милосердно.
Джинни приглушенно смеется.
– В итоге-то ты и так оказался в деревне.
– Яо Юйлун сказала, что хочет переехать в город. Даже уже начала решать, куда будет лучше.
– Ну вот видишь, и как она этим сама будет заниматься?
– Так осталась бы и помогла.
Джинни вздыхает.
– Не стоит. Правда.
Жильбер прекрасно знает, что она сейчас ему скажет – что он ребенок, который цепляется за игрушки и не хочет ими делиться. Что он собирает вокруг себя важных людей и держит их за руки, лишь бы не сбежали, и не понимает, что они хотят другой жизни. Что он не умеет осознавать, чего хотят другие люди. Джинни ему все это уже говорила – когда он плакал у нее на плече чуть меньше года назад и говорил, что ненавидит Мэя, что тот испортил ему всю жизнь, что стоило спокойно жить в одном месте и никого не трогать.
И еще раз, когда привела его знакомиться с Яо Юйлун. Представила их, сказала, что Яо Юйлун – ее старая подруга, что ей нужна помощь. Жильбер тогда отказался, сказал, что не станет, а Джинни вцепилась ему в руку, так, что остались синяки, и попросила наконец-то перестать быть глупым ребенком.
Он старается. Честно.
– Пообещай, что будешь писать, – просит он.
– Обязательно буду.
– И что приедешь в Париж.
– Приеду.
– Ты врешь.
Джинни вздыхает.
– Я просто пока не знаю, что будет. Ты же знаешь, что снова возникли какие-то проблемы в Османской империи? Я надеюсь, в этот раз не дойдет до войны, но если дойдет, это же столько проблем.
– Так обычных людей-то это едва ли затронет, – пожимает плечами Жильбер. – Что, тебя не пустят домой, сказав, что во всем виновато то, что Англия с Россией договориться не могут?
– Пустят, конечно, – соглашается Джинни. – Но ведь все равно в этом ничего хорошего нет, это просто некрасиво – метаться между двумя странами, которые воюют.
– А, то есть ехать в Россию из Китая тогда можно?
Джинни хмыкает.
– Сейчас у нас все хорошо. Ты знаешь, вот прямо недавно же торговый договор какой-то заключили.
– Ну конечно.
Джинни молчит несколько минут, а потом еще раз гладит его по голове.
– Если я смогу, я приеду. Правда. Но и ты должен мне пообещать, что сбережешь себя, вернешься домой, когда решишь, что пора, и не ввяжешься больше ни в одну странную историю.
– Постараюсь.
– Хорошо, – Джинни легко щелкает его по лбу, а затем толкает в плечо, прося подняться. – Я пойду к Яо Юйлун, послежу за Сунь Анем, пусть она отдохнет.
– Только это была не странная история, – решает все же оскорбленно заспорить Жильбер, на что Джинни только смеется.
– Полагаю, ты знаешь лучше.
* * *
Все действительно началось, когда Сунь Аню был один год, поэтому вполне закономерно, что он мало что помнит. Точнее, ничего. Когда все закончилось, ему было тринадцать, поэтому в каком-то плане детство в его голове слилось в сплошные суматоху, шум и кровь.
В их семье всегда были лояльны императору – в конце концов, они были богаты, уверены в своем будущем и совершенно точно не желали каких-либо перемен. Потом господин Эр объяснит ему, что таких, как его отец, китайцев, маньчжуры купили – как покупают игрушки, пообещали деньги и стабильность, а потому они и не пошли за восставшими. Сунь Ань провел первые пять лет жизни в богатстве, вечной суете вокруг, полном равнодушии родителей и трескотне служанок. Они говорили что-то про захваченные города, про новые порядки, про Небесное царство, а мать презрительно кривила губы, когда видела на улице христиан. Сунь Ань не понимал, почему те ей не нравятся, хотя его тоже пугал их бог – изможденный мужчина, прибитый к кресту, – которого носили на шее.
Его мать была строгой, молчаливой женщиной, и от нее он запомнил ярко только холодные дорогие заколки, держащие ее прическу, они блестели, поэтому он любил ими играть, а отца он помнил совсем плохо. Знал, что тот есть, но мать редко о нем вспоминала, кривила губы, злилась, говорила, что тот уничтожит семью, что игры в революцию – просто несбывшиеся сказки, только вот в том, как нервно дрожали ее руки, даже маленький Сунь Ань научился различать тревогу. Мама за кого-то боялась, мама иногда пропадала где-то неделями, а ступни ее ног, когда она бежала за ним маленьким по дому, были большими, шумными, широкими, совсем не как у других женщин, каких Сунь Ань видел на улице, покачивающихся на маленьких ножках, как цветы на стеблях.
Когда он мысленно возвращался к тем событиям, то понимал, что потерял какой-то важный кусок, и знал, что где-то между блеском маминых украшений и криками на улицах было много других воспоминаний, все его детство, но, как ни копался он в голове, их найти так и не удалось.
Его мир пылал и кричал, люди гибли, Небесная империя рушилась сначала едва заметно, потом сильнее, но Сунь Ань и об этом помнил очень мало. Франция тоже рушилась, годами, которые Сунь Ань в ней прожил, но почему-то продолжала крепко стоять на ногах. Как Прометей, которому выклевывали печень, а потом та отрастала, чтобы ее выклевали снова.
Господина Эра его мама не любила, и Сунь Ань не помнил, почему. Может быть, слово «нелюбовь» тоже было слишком простым, как и все, что касалось матери, слишком легко объясняющим многое. Мать же состояла из полутонов и недосказанностей, но Сунь Ань знал – что-то случилось, что-то разломалось, раскололось. Он просто всегда это знал – как знал и то, что, если бы не это, он смог бы относиться к нему лучше. Но между ним и доверием к господину Эру всегда лежали скривленные губы матери, означавшие, что ее что-то не устраивает. Она редко говорила об этом вслух, но всегда четко давала понять. Чжоу Ханя это, кстати, невероятно раздражало – не то, что мать Сунь Аня была молчаливой, а что он перенял от нее эту любовь к молчанию, когда плохо, и картинным обидам, когда люди должны догадаться обо всем сами.
Господин Эр учил его истории, французскому языку и литературе. Истории – контрабандно, потому что и мать считала, что иностранец никогда не расскажет про империю так, как нужно. Удивительно, что его до сих пор не выгнали из Нанкина – хотя тут даже не позволялось жить иностранцам и в лучшие времена, что уж говорить про времена Тянцзина[3].
Впрочем, господин Эр и не рассказывал. Он говорил про французских королей, построивших дворец в лесах, про английских рыцарей, нашедших меч в озере, про русских царей, построивших город на воде, господин Эр не любил историю их империи и редко про нее говорил, только сказки ему нравились – про лисиц с кучей хвостов, про глиняную армию старинных императоров. А Сунь Ань слушал и никому не рассказывал про то, что знает об этом.
– А мама знает сказки про девочек-лисичек? – спрашивал он, сидя на стуле и болтая ногами.
– Думаю, что знает, – улыбался господин Эр. Он всегда говорил только на французском, а вот у Сунь Аня получалось невероятно плохо, понимать-то он еще понимал, а вот отвечать никак не выходило, язык словно в трубочку сворачивался.
– А верит?
– Взрослые не верят в сказки.
– Но я взрослый и верю, – возражал Сунь Ань.
– Не все взрослые такие.
И это оказывалось очень грустно. Маме было гораздо интереснее ругаться на иностранцев, таких, как господин Эр, только, видимо, еще хуже, да обсуждать сплетни с подругами и вышивать. Она редко спрашивала у отца, что происходит в городах, а тот никогда не рассказывал сам, только хмурился с каждым днем все сильнее. Сунь Ань не знал, с чем это связано, только видел, как солнце становится все краснее, словно наливается кровью, хотя мама считала, что ему только кажется.
Отец приходил очень редко – Чжоу Хань потом объяснил, что в их квартал мужчин не допускают[4], а господина Эра за то, что он остался в Нанкине, чуть не казнили. Но не смог объяснить, почему. «Может быть, потому что он иностранец», – шепотом как-то предположил Чжоу Хань. – «А маньчжуры им не нравятся сильнее, вот на господина Эра сил не хватило… Это как пытаться решить, во что играть: в воздушного змея или в мячик. В змея-то интереснее».
Иногда по вечерам мама разговаривала с кем-то в полной тишине, и Сунь Ань думал, что она проклинает Хун Сюцюаня[5].
– А когда я вырасту, я стану таким же грустным? – спросил он однажды у Чжоу Ханя, когда они вместе сидели под забором и ели ворованную вишню.
– Мне кажется, нет, – ответил тот.
– Хорошо бы.
– Тебе они кажутся грустными?
– А тебе нет?
– Не знаю. Мне кажется, они все чего-то ждут.
Сунь Ань думал об этих словах весь день и пришел к выводу, что это какая-то глупость – ну чего взрослые могут ждать? У них и так все есть: возможность решать, что они хотят на завтрак, возможность выбирать одежду и людей, с которыми они хотят жить. Сунь Ань серьезно пытался решить, с кем бы он хотел остаться, если бы его спросили? Конечно, с мамой – та была строгой, но любила его, а еще с Чжоу Ханем и господином Эром. Разумеется, с ними, ведь у Сунь Аня и были только они. Еще был отец, но он так редко его видел, что отец походил, скорее, на героя сказок – могущественного даоса, знающего секрет бессмертия и приходящего домой только иногда, увидеть, что у них по-прежнему все хорошо.
Была еще Ван Сун – еще одна ученица господина Эра, которая, как и сам господин Эр, очень сильно не нравилась маме. Та даже запрещала с ней играть, но иногда они все же разговаривали – на улице или через калитку. Ван Сун была младше его, но он не знал, насколько сильно. Она была худенькой и высокой, не очень красивой и болтливой. Сунь Аню очень нравилось ее слушать – она злилась и рассказывала сказки про Небесную империю, а он потом пересказывал их Чжоу Ханю.
– Я не скажу тебе, откуда я, – смеялась Ван Сун. – Ты еще маленький.
– Я старше тебя, – возражал Сунь Ань.
– Но до такого ты еще не дорос.
Сунь Ань обиженно кривил губы.
– Сестричка говорила, что женщины всегда знают больше мальчишек, – объясняла Ван Сун. – Потому что мы все связаны ниточкой, тянущейся от первых древних богинь – они защищают нас и дают свои знания.
– Только у вас такое есть? – подозрительно спрашивал Сунь Ань. – А как зовут богиню?
– Нюйва, – нараспев говорила Ван Сун. – Она создала наш с тобой мир.
– И прямо со всеми вами связана? Ты это чувствуешь?
– Я не знаю, – пожимала плечами Ван Сун. – Сестричка говорила, что почувствую, когда стану старше – у меня польется кровь, и так я узнаю, что стала частью нашего общества.
В общем, Ван Сун была странной, но интересной. Хотя почему была, она и осталась.
Сейчас Ван Сун сидит за столом в вагоне, закинув ногу на ногу – нагло, вызывающе – и сверкает глазами, широко улыбаясь. Сунь Аня пугают ее улыбки – опасные, не искренние, такие, будто она уже придумала десять проклятий, после которых его не найдет ни один парижский жандарм.
– Ты до сих пор тут, – разочарованно говорит она.
– Мне нужно было исчезнуть?
– А ты умеешь?
– Нет, – признает Сунь Ань.
– А жаль. – Вот и поговорили.
– Я знаю, что ты злишься, – начинает он, а Ван Сун смотрит на него так, что становится понятно – еще одно слово про злость, и она распилит его взглядом, так, что останутся только рожки да ножки, хотя не факт, что останутся и они. Интересно, их, девушек, так учат смотреть специально? У Сунь Аня, например, никогда не получалось выглядеть угрожающе, сколько бы они ни старался, и именно по этой причине с клиентами всегда ругался Чжоу Хань.
Сам Сунь Ань умел только мирить и договариваться, впрочем, судя по Ван Сун, тут даже этот талант не поможет.
– Я не злюсь, – в итоге говорит Ван Сун. – В этом нет смысла.
– Нет? Почему?
– Потому что это бесполезно. Ты когда-нибудь злился на котят?
– Нет?
– Вот именно, ты такой же бесполезный и глупый, а котята хотя бы милые, – объясняет Ван Сун логическую цепочку до конца. Ну, ни убавить ни прибавить, честно говоря, что тут еще скажешь-то?
Сунь Ань садится рядом и прикрывает глаза. Голова по-прежнему кружится, но не так сильно, как раньше. Наверное, он просто привык – как минимум, к езде на поезде, потому что к отсутствию в жизни Чжоу Ханя, конечно, привыкнуть невозможно. Это как фантомная боль – когда отрубают руку, а тебе кажется, что она по-прежнему на месте. Конечно, Сунь Аню руки никто не отрубал, но он говорил с участниками революций в Париже, по работе и просто из интереса – те рассказывали так много, что хватит на целую стопку кровавых метафор. Не таких поэтичных, как у Ван Сун, но и он не девочка.
Сунь Ань любил Китай. И выслушивал ворчание Чжоу Ханя о том, что это – чужое название, так говорить неправильно. Но разве это было важно? Да, сами они никогда не называли свою страну так, но французы называли, мягко, напевно, такие мелодии обычно звучат в песнях перед тем, как взвиться тревожно оборванной струной. Он любил его широкие улицы, дома с загнутыми крышами – чтобы никакая нечисть не зашла, пусть это в итоге и не помогло, – песни, которые пела им одна из служанок. Могла бы петь мама, но та не пела никогда, только сурово отчитывала, впрочем, Сунь Аню все равно нравился звук ее голоса. Он потом долго привыкал к французскому – одно дела слушать господина Эра, другое – толпы людей, говоривших по-чужому.
В детстве Китай казался ему страной из сказки – с городами за кирпичной стеной, через которую может перелететь только дракон, большими домами с фонарями, качающимися на ветру. Или, может быть, в детстве ему так не казалось и эту страну из сказок он выдумал, когда приехал во Францию.
Та была совсем другой – шумной, болтливой, с узкими улицами и высокими домами, со множеством, великим множеством людей, среди которых Сунь Ань так боялся потеряться. Францию он тоже любил, хотя, наверное, другой любовью.
– Тебе там нравилось? – вдруг спрашивает Ван Сун.
– В Европе?
Та сухо кивает.
– Да, – признается Сунь Ань. – Там было хорошо. Правда хорошо.
– А где лучше?
Он не знает – и это пугает сильнее всего, он просто не может определиться.
– По-разному, – в итоге компромиссно отвечает он, и, вероятно, Ван Сун такой ответ не нравится.
– Значит, в Париже, – сурово хмыкает та.
– Я этого не говорил.
– Но и не отрицал.
Ну что за невозможная девушка!
Сунь Ань беспомощно пожимает плечами.
– Мне было там спокойно, – объясняет он.
– А сейчас?
Сейчас ему не спокойно нигде.
Все случилось в весенний день. Тогда они с Чжоу Ханем провели все утро, пугая рыб в материнском пруду, за что их, конечно, отругали. Сунь Ань слушал упреки, щурился от ласкового щекочущего солнышка и чувствовал, как ветер холодит мокрые руки.
– Мама просто боится, что мы скормим ее рыб Принцессе, – шепотом поделился потом Сунь Ань с Чжоу Ханем. Они сидели на лестнице и слушали, как служанка ищет эту самую Принцессу. Сунь Ань знал, что та сбежала еще утром через дырку в заборе, но говорить об этом пока не хо
