автордың кітабын онлайн тегін оқу Власть алгоритма: технологии легитимации политических режимов в условиях цифровизации. Монография
С. Н. Федорченко
Власть алгоритма:
технологии легитимации политических режимов в условиях цифровизации
Информация о книге
УДК 32.019.5:004
ББК 66.2:32.81
Ф33
Автор:
Федорченко С. Н., доктор политических наук, главный редактор научного периодического издания «Журнал политических исследований», доцент факультета политологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Рецензенты:
Володенков С. В., доктор политических наук, профессор кафедры государственной политики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова;
Быков И. А., доктор политических наук, профессор кафедры связей с общественностью в политике и государственном управлении Санкт-Петербургского государственного университета;
Ярулин И. Ф., доктор политических наук, профессор, научный руководитель института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета.
Монография посвящена исследованию технологий легитимации политических режимов в условиях цифровизации. Актуальность работы обусловлена возникающими легитимационными рисками для традиционных политических режимов из-за таких современных феноменов и явлений, как информационные войны, сетевые сообщества, политизированные фейки, участившиеся факты искажения исторической памяти. Определены потенциалы и вызовы складывающейся социотехнической реальности для современной власти. Подчеркнута важная посредническая роль цифровых корпораций между гражданами и политическими режимами.
Изучение внедрения технологий искусственного интеллекта в политическую сферу позволило выявить аспекты, уникальность и беспрецедентность зарождающегося феномена власти алгоритма, алгоритмизации политической власти, а также угрозы для традиционной политической субъектности. В книге приведен комплекс практических рекомендаций для создания в современной России цифровой демократической платформы. Отдельное внимание уделено цифровым ограничениям и перспективам метавселенной.
Для политологов, специалистов в области цифровых медиа и политической коммуникации, преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных факультетов.
УДК 32.019.5:004
ББК 66.2:32.81
© Федорченко С. Н., 2022
© ООО «Проспект», 2022
…Законодатель должен иметь в виду троякую цель:
чтобы устрояемое государство было свободным,
внутренне дружелюбным и обладало разумом.
Платон, «Законы»
ВВЕДЕНИЕ
Глобальные тренды цифровизации общества актуализируют проблему адаптации к новым сетевым условиям политических режимов как в России, так и в зарубежных странах. Это, в свою очередь, ставит вопрос о необходимости комплексного компаративного анализа кейсов легитимации разных политических режимов с целью выработки пакета рекомендаций для эффективной трансформации современного российского политического режима.
Цифровизация затрагивает наиболее фундаментальные основы человеческой жизни — политику, экономику, культуру и социальные отношения. Первостепенной задачей политолога становится исследование каузальных механизмов и специфических закономерностей цифровизации политической жизни. Особенно это актуально в непростых условиях глобальной пандемии COVID-19, спровоцировавшей форсированную и во многом искусственную, навязываемую обществу цифровизацию.
Наиболее сложной научной проблемой видится, прежде всего, определение глубинных трансформаций социально-политической реальности под давлением форсированной цифровизации. Между тем до самой пандемии уже сложились предпосылки для трансформации традиционных политических процессов и институтов. Причиной этого стало появление новых экономических игроков — глобальных цифровых компаний (Google, IBM, Apple, Microsoft, Alibaba и др.), породивших цифровые платформы, алгоритмы и разнообразные сетевые эффекты, подчиняющие сами коммуникационные каналы граждан и заставляющие, в свою очередь, пересмотреть традиционный концепт суверенитета.
Изменения в обществе, вызываемые цифровыми технологиями, находят отражение и в легитимационных практиках политических режимов. Современные политические режимы, стараясь сохранить доверие среди граждан, ориентированы на использование цифровых приемов для эффективизации прежних методов легитимации. 4 декабря 2020 г. на специальной конференции AI Journey 2020 российский президент подчеркнул актуальность вопросов сквозных технологий, кибербезопасности, конфиденциальности данных граждан, а также необходимость создания специальной федеральной территории в Имеретинской долине для отдельного центра разработок в области искусственного интеллекта. Он обозначил важность искусственного интеллекта в запуске комфортной для граждан экосистемы государственных услуг. Вместе с тем, президент обозначил риски подобных технологий и предложил создать для разработчиков нейросетей конкурентные условия. На этой же конференции президент Казахстана объявил, что его страна переходит на концепцию Data-Driven Government (в основе которой лежит аналитика больших данных), а также модель evidence-based policy (доказательной государственной политики)1. Модель государственной доказательной политики, прежде всего, ориентирована на легитимацию текущей работы политического режима посредством аргументации и обоснования перед гражданами конкретных политических решений, реформ и законопроектов.
Проекты внедрения цифровых технологий, схожие с российскими и казахстанскими, появляются по всему свету. Самые разные политические режимы постоянно ищут новые способы своей легитимации через формирование доверия граждан к своей деятельности. Кардинальной целью различных инновационных легитимационных практик является создание согласия между представителями политической элиты и гражданским обществом в том, что существующий политический режим — эффективный, справедливый и способен решать сложные задачи. На проблему достижения этого политического согласия обращали пристальное внимание еще античные мыслители2.
Актуализируют выбранную тему исследования другие проблемы: риски и угрозы информационных войн, политизированных фейков, попыток искажения исторической памяти, которые способны запустить процессы делегитимации политического режима. В то же время, цифровизация дает для политических режимов дополнительные перспективы в плане использования правительственными органами социальных сетей, трансформации коммуникационных моделей партий. Граждане же получают возможности электронной демократии, участия в мониторинге действий властей через специальные цифровые платформы и приложения. Правда, с другой стороны, форсированная цифровизация совсем не исключает создания на базе ряда политических режимов целых Паноптикумов, в рамках которых будут практиковаться гибкие технологии манипуляции сознанием, а также устанавливаться порядок взаимной слежки. Тем самым процесс цифровизации является своеобразной цивилизационной вилкой, давая для политических режимов как кибероптимистические, так и киберпессимистические сценарии.
Цифровизация легитимационных практик политических режимов ставит перед исследователями целый ряд актуальных вопросов: что будет с традиционными субъект-объектными отношениями, классической политической субъектностью; не изменит ли форсированное распространение нейронных сетей, алгоритмов и цифровых приложений на базе искусственного интеллекта само социальное; произойдут ли из-за цифровых технологий необратимые метаморфозы современных ценностей и цивилизационных основ режимов; во что трансформируются демократические режимы; коснутся ли изменения сущности партий; что станет со свободами и правами гражданина и как изменятся его традиционные взаимоотношения с властью при появлении многочисленных посредников из цифровых компаний.
Сущности, специфике, классификации и механизму легитимации политических режимов посвящен ряд научных работ отечественных и зарубежных политологов. Есть исследования, где политические режимы разделяются по степени развитости демократических либо автократических институтов (монографии Х. Арендт, Т. Адорно, Г. Таллока, С. Хантингтона, Г. В. Голосова, С. В. Патрушева, Л. Е. Филиппова3, статьи других авторов4).
Классические институциональные исследования политических режимов начались с работ А. Токвиля, А. Пшеворского и М. Дюверже. Их больше интересовала нормативная, структурно-ориентированная сторона. Это направление продолжили развивать Ж.-Л. Кермонн5 (понимавший под режимом порядок, формирующий политическую власть на определенный период) и российский политолог П. В. Панов (рассматривающий режим как порядок воспроизводства политических практик на микро- и макроуровнях)6.
Помимо институционального есть также инструментальный подход к анализу сущности политического режима. Его сторонники (Р. А. Даль, Ш. Н. Эйзенштадт, М. Касиоровски, М. Фуко, Т. Л. Вэй, Карл, А. Шедлер, С. Левицки, Дж. Домингес, Ф. М. Бурлацкий, А. А. Галкин, А. Л. Громыко и др.) больше интересуются не формальными и теневыми структурами, а процессами, социальными эффектами этих метаморфоз, морфологией политических форм7, режимными трансформациями8. Часто в этом направлении политический режим анализируется через характер методов государственной власти9. Особым направлением в отечественной политологии стало изучение региональных и городских политических режимов10. Инструменталисты выходят за рамки жесткой дихотомийности «демократия — авторитаризм», разбирая их многочисленные гибридные формы11, приспосабливающиеся к текущей политической конъюнктуре.
Функциональный подход (Г. Лассуэлл, Т. Парсонс, Д. Истон, Н. А. Баранов и др.12) своеобразно синтезирует наработки институционализма и инструментализма, также допуская разнообразие политических режимов, но отдавая предпочтение анализу функциональных, эффективных техник политической власти во всем их многообразии.
Важно заметить, что исследования о легитимации политических режимов так или иначе тесно связаны с самим явлением политической легитимности. Помимо классических сочинений М. Вебера13 и К. Шмитта14 опубликованы и другие исследования по данной научной теме. Критическую позицию по отношению к веберовской модели в своей монографии занял английский социолог Д. Битем15. Отойдя от нормативного подхода, он акцентировал проблематику многомерного согласия населения с властью. Разные формы согласия тесно увязывал с легитимацией в своей работе и Д. Хелд16. Этот аспект анализировали и другие авторы (Н. Боббио, Г. Ферреро, Д. Штернбергер). С. Липсет кроме согласия большое внимание уделял и эффективности власти, функциональности институтов17. Тогда как А. М. Салмин предлагал говорить о квазилегитимационных технологиях режима18.
Модель легитимации на основе политической поддержки представлена в трудах Д. Истона и Н. П. Медведева19. Поддержку власти и ее авторитета, как элементов политической легитимации, описывают в своих трудах В. В. Ачкасов, С. А. Ланцов, С. М. Елисеев, К. Ф. Завершинский20. Как и С. Липсет, немецкий исследователь Ю. Хабермас старался выявить причины так называемых легитимационных кризисов21. Важный вклад в осмысление отличий легитимности и легитимации в политике сделал К. фон Гальденванг22, который обнаружил элементы цикличности в легитимационных кризисах. О соотношении интересов населения и элиты пишут и другие авторы23. Чрезвычайно важный вклад в изучение уровней легитимации сделали П. Бергер и Т. Лукман. Следует отметить, что описываемые современными авторами модели и технологии легитимации24 затрагивают очень интересные научные проблемы, но пока недостаточно отражают аспекты цифровизации.
Те работы, которые ученые посвящают процессу цифровизации, пока в основном не имеют тесной привязки к режимной легитимации. К примеру Л. Манович, Р. Барбрук, Дж. Кин, Г. Кехлер, Н. Срничек, Г. А. Малышева, Х. А. Гаджиев25 и другие выявляют теоретико-фундаментальные проблемы цифрового пространства. К анализу сетевых механизмов и закономерностей цифровых медиа (проблем дискурса, специфики политической коммуникации, цифрового неравенства, публичной политики и т. п.) в свое время обратились М. Кастельс, Г. Ловинк, Дж. Дин, Л. В. Сморгунов, М. Н. Грачев, И. А. Быков26. Другие ученые разбирают феномены Big Data, вопросы цифровой пропаганды (В. Кларк, М. Голдер, М. Косински, С. В. Володенков и др.27), политические функции и возможности искусственного интеллекта (А. Ю. Антоновский, Р. Э. Бараш, В. И. Дрожжинов, А. Н. Райков, Д. С. Жуков28). Технологии информационных войн, проблемы кризиса суверенитета и специфики цифрового (информационного) суверенитета показаны в трудах М. М. Федоровой, В. Н. Шевченко, А. В. Манойло, А. А. Ефремова29. С информационными войнами переплетается и проблематика фейков, политических интриг30. Появляются работы и по цифровизации политических партий31, голографизации политики32. Особняком стоят труды, посвященные теории и практике игр33. Это направление имеет серьезную перспективу для дальнейшего анализа политической легитимации через феномен геймификации политики.
С одной стороны, появились работы, где затрагивается феномен медиалегитимации политической власти34, а также модель медиакратий (Т. Мейер, А. И. Соловьев35, С. С. Бодрунова). Но, с другой стороны, авторы продолжают анализировать так называемые архаичные, рутинные приемы легитимации режима36. Наметилось и направление изучения политической делегитимации, нестабильности37. Правда, авторы, исследующие различные приемы взаимоотношения власти с гражданами в рамках модели медиакратии либо модели мониторной демократии (Дж. Кин), в основном фокусируются на технологической, экономической, маркетинговой стороне. Поэтому отдельным перспективным направлением в изучении легитимации режимов видится анализ ценностных оснований и аспектов процесса цифровизации. Аксиологические (ценностные, символические) нюансы цифровизации (трансформация идентичности, образа власти, политической повестки и т. п.) стараются осветить Л. А. Фадеева, Д. С. Мартьянов, В. А. Емелин, В. В. Корнев38. Архетипический анализ сетевой среды проводит в своих трудах С. А. Шомова, а также болгарский исследователь Х. Кафтанджиев39.
Однако, несмотря на широкий спектр научно-специализированной литературы, посвященной выбранной автором тематики, по-прежнему является малоисследованной проблема цифровых форм легитимации политических режимов, купирования рисков их делегитимации в условиях информационного противостояния и трансформации классического государственного суверенитета в цифровой суверенитет. В работах о режимной легитимации практически нет анализа связей ценностных и цифровых феноменов. По этой причине настоящая монография нацелена комплексно изучить данные явления.
Для теоретической основы исследования выбран ряд концептуальных моделей. Во-первых, при анализе общих закономерностей легитимации режимов автор обратился к функциональному подходу. Он позволил рассмотреть цифровые технологии легитимации режимов во всем их многообразии через стратегические функциональные уровни легитимации властной системы: институциональный, технологический, персональный и ценностный. Функциональный ракурс привел к пониманию политического режима как порядка функционирования политической системы на основе различных цифровых технологий. При этом автор опирался на разработки в области функционального анализа (Ф. Гуднау, А. А. Богданова, С. Липсета, Г. Лассуэлла, Н. А. Баранова, А. И. Соловьева, Дж. Босча40). К адекватному пониманию особенностей легитимации и делегитимации позволили прийти теоретические схемы легитимационных кризисов Ю. Хабермаса и К. фон Гальденванга41. Изучение феномена информационных войн и цифрового суверенитета потребовало анализа технологии внешней легитимации через модель «факта-признания» В. Л. Цымбурского42.
Во-вторых, большую роль в интерпретации общих, схожих коммуникационно-сетевых параметров легитимации режимов сыграли следующие концепты: сетевой власти М. Кастельса43 (осмысление центральных сетевых узлов как опорных точек режима); аутопойезиса и бинарных кодов Н. Лумана44; символического интеракционизма Г. Блумера45 (понимание конструирования политических смыслов в механизме постоянного сетевого взаимодействия — символических обменов); социотехнической реальности (на основании работ Г. Ловинка, И. А. Исаева)46; коммуникационного капитализма Дж. Дин47. Автор опирался и на модель интерпретации соотношения уровней политической повестки М. Н. Грачева48. Помимо этого, были задействованы наработки А. Тойнби и Р. Жирара в области миметической теории. При аналитической проработке закономерностей цифровизации автор опирался на ряд тезисов Л. Мановича, Б. Лэша, Н. Срничека, а также С. В. Володенкова (модели цифровых капсул и цифровой стигматизации).
В-третьих, принципы аксиологического анализа были использованы при выявлении ценностно-цивилизационных особенностей разных политических режимов. С этой целью автор обратился к другим теоретическим разработкам: концепту «вызова-и-ответа» А. Тойнби49, концепции «лимитрофов» В. Л. Цымбурского50, модели «нового варварства» А. А. Кара-Мурзы51, аналитическому наследию в области цивилизационных различий А. С. Панарина52. Также автор обращался к концепту гегемонии А. Грамши, архетипическому анализу коммуникаций С. А. Шомовой и отечественным разработкам в области политики памяти53.
В качестве основных методологических оптик были использованы приемы компаративистики, социологического опроса, контент-анализа сообществ социальных сетей. Вспомогательным методом стал SWOT-анализ.
Другой вспомогательной, но не менее важной методологической оптикой стала модель учета больших политических данных (Political Big Data), предполагающая систему автоматического сбора, анализа и графической визуализации поисковых запросов населения конкретной страны с помощью сервиса Google Trends.
Эмпирическая база исследования предполагает опору автора на анализ социологических опросов (Опрос отдела сравнительных политических исследований Института социологии РАН, июнь 2019 г. (ОСПИ-2019), 700 респондентов; опросы Левада-центра54 (2019, 2020, 2021 гг.); опросы ВЦИОМ (2019, 2020, 2021 гг.), опрос центра Pew Research «Democratic Rights Popular Globally but Commitment to Them Not Always Strong», весна 2019 г., 34 стран. Использовались и данные мировых рейтингов (Polity, 2018; Worldwide Governance Indicators, 2018; Fragile States Index, 2019; Regimes of the World, 2016; World Happiness Report, 2020; The UN E-Government Development Index, 2018; Global ICT Development Index, 2017; Networked Readiness Index, 2016; Dimensions of national cultures, 2015; World Values Survey, 2014 и др.).
Также автором на базе кафедры политологии и права Московского государственного областного университета в ноябре 2019 г. был проведен анкетный опрос «Компьютерные игры и политика памяти», 1100 респондентов. Дополнительные эмпирические данные были получены автором самостоятельно в ходе применения сервиса Google Trends.
Основная цель исследования состоит в комплексном анализе и концептуализации легитимационных технологий политических режимов, осмысление возможности их оптимизации применительно к условиям процесса цифровизации.
Для достижения поставленной цели были определены конкретные задачи:
— выявить общее и специфичное в политологическом осмыслении категориальной сущности легитимации;
— определить характерные черты процесса цифровизации для общества и политического режима;
— изучить феномен сети в механизме легитимации политического режима;
— рассмотреть особенности и тенденции исследований в политической коммуникативистике через аксиологический ракурс;
— оценить возможности и недостатки методологической оптики Big Data в анализе цифровых маркеров легитимации и делегитимации политического режима;
— обследовать существующие показатели легитимации политического режима;
— проанализировать инновационные технологии формирования институционального доверия на примере порталов электронного правительства и систем искусственного интеллекта;
— исследовать политическую идентичность в сетевых коммуникациях через приемы конструирования и воспроизводства провластных сообществ;
— выяснить особенности технологий мемификации и хэштегирования в установлении режимом цифровой политической повестки;
— разобрать кейсы использования сайтов, сетевых сообществ и приложений, чтобы выяснить характер адаптации доминирующих партий к цифровому обществу;
— исследовать возможности и проблемы реализации политики памяти через призму теории и практики игр;
— очертить предпосылки внедрения и распространения 3D-технологий имидж-позиционирования политических лидеров;
— обозначить перспективы и угрозы применяющихся технологий информационной гегемонии для цифрового суверенитета страны;
— проанализировать техники политических интриг в сетевых коммуникациях, предложив комплекс рекомендаций по деконструкции фейков;
— разработать модель демократической цифровой платформы, способной стать легитимационным элементом политического режима России.
Также сформулирована основная исследовательская гипотеза: технологии легитимации современных политических режимов попадают в зависимость от цифровых условий социотехнической реальности (фиджитал-мира) — тесного переплетения реального и виртуального пространства, поэтому социальное уже нельзя рассматривать в жестком отрыве от технического. При этом социотехническая реальность, как результат цифровизации, имеет противоречивый характер: с одной стороны, цифровые платформы поддерживают социальную среду и политическую коммуникацию, внося элементы экстерриториальности, мультимедийности, оперативной связи между властью и гражданами, однако, с другой стороны, алгоритмы и технические параметры данных цифровых платформ и ресурсов меняют социальную реальность, закладывая ряд диспропорций — навязывание обществу стандартизированных коммуникационных моделей; цифровое неравенство между категориями граждан (от доступа к цифровым ресурсам до уровня качества этих ресурсов); появление между гражданином и политическим режимом многочисленных коммерческих посредников, оказывающих цифровые услуги; нарастание асимметрии в человеко-машинном интерфейсе, когда гражданин начинает согласовывать свои действия и поведение с параметрами информационно-технических систем.
Можно предположить, что форсированная цифровизация, спровоцированная пандемией COVID-19, произведет необратимые трансформации в социально-политических отношениях и дизайне политического управления, изменит конфигурацию существующих демократических режимов, свяжет легитимационные практики со все более гибкими формами цифрового мониторинга, контроля в виде рейтингов, плагинов, алгоритмов и разнообразных систем учета. Политические режимы станут активно использовать алгоритмы для коррекции политического поведения граждан. Это на практике будет являться внешне обезличенной «властью алгоритма». Однако тенденция к стандартизации и унификации действий граждан приведет к ответной реакции в виде возникновения протестных движений, кибертерроризма и, соответственно, делегитимационым рискам, если режимы будут сохранять дисбаланс между внедрением новых форм цифрового контроля и внедрением новых форм цифровой демократии.
Согласно дополнительной рабочей гипотезе, цифровизация современных политических режимов осуществляется неравномерно и в основном посредством глав государств, исполнительной власти, ее силовых органов и в меньшей мере за счет законодательных, партийных, парламентских структур. Это формирует риски цифрового неравенства и угрозы для демократии.
Теоретическая значимость работы видится во введении в политическую науку ряда новых научных понятий, разработке концептуальных схем, объясняющих закономерности цифровизации политической сферы через феномен социотехнической реальности, а также в уточнении отличий внешней и внутренней легитимации политических режимов. Полученные результаты могут быть задействованы при разработке цифровой демократической платформы, нацеленной на устранение цифрового неравенства, введения практики полноценного обсуждения и решения проблем граждан России. Помимо этого, материалы монографии можно использовать при составлении курсов «Политический менеджмент», «Сравнительная политология», «Политические партии, союзы и движения в современной России», «Политическая география современного мира», а также при составлении спецкурсов по политологии.
[9] Бурлацкий Ф.М., Галкин А. А. Современный Левиафан: Очерки политической социологии капитализма. М.: Мысль, 1985. 384 с.; Бурлацкий Ф. М. О политической науке: Избранные произведения. М.: Изд. Моск. унив., 2013. 328 с.
[4] Lorch J., Bunk B. Using Civil Society as an Authoritarian Legitimation Strategy: Algeria and Mozambique in Comparative Perspective // Democratization. 2017. Vol. 24. № 6. P. 987–1005; Бедерсон В. Д. Гражданские ассоциации и политический режим в мировой недемократической практике: между политическим контролем и социальной эффективностью // Полис. Политические исследования. 2020. № 2. С. 37–52.
[3] Арендт Х. Vita Activa, или О деятельности жизни / пер. с нем. и англ. В. В. Бибихина. 2-е изд. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. 416 с.; Адорно Т. Исследование авторитарного характера / пер. с нем. М. Н. Попова, Л. К. Латышевой, М. В. Кондратенко. М.: Серебр. нити, ЦГИ, 2020. 414 с.; Хантингтон С. Политический порядок в меняющемся обществе. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 480 с.; Господство против политики: российский случай. Эффективность институциональной структуры и потенциал стратегических политических изменений / отв. ред. С. В. Патрушев, Л. Е. Филиппова. М.: Политическая энциклопедия, 2019. 319 с.; Голосов Г. В. Автократия, или Одиночество власти. СПб.: Изд. Европ. ун. в Санкт-Петербурге, 2019. 160 с.; Tullok G. Autocracy. Hingham: Kluwer Academic Publ., 1987. 231 p.; Lührmann A., Tannenberg M., Lindberg S. I. Regimes of the World (RoW): Opening New Avenues for the Comparative Study of Political Regimes // Politics and Governance. 2018. Vol. 6. Iss. 1. P. 1–18.
[2] Марк Аврелий. Наедине с собой. Размышления / пер. с греч. С. Роговина. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. С. 114, 120.
[1] Конференция по искусственному интеллекту // URL: http:// kremlin.ru/events/president/news/64545 (дата обращения: 28.09.2021).
[8] Кудряшова И. В. Режимные трансформации на современном арабском Востоке // Политическая наука. 2012. № 3. С. 149–167.
[7] Даль Р. А. Полиархия: участие и оппозиция. М.: Изд. дом ВШЭ, 2010. 288 с.; Эйзенштадт Ш. Н. Парадокс демократических режимов: хрупкость и изменяемость (I) // Полис. Политические исследования. 2002. № 2. С. 67–81; Гельман В. Я. Расцвет и упадок электорального авторитаризма в России // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2012. № 4(67). С. 65–88; Ильин М. В. Альтернативные политические формы в исторических временах и цивилизационных пространствах (I) // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2014. № 4(75). С. 58–70.
[6] Панов П. В. Институты, идентичности, практики: теоретическая модель политического порядка. М.: РОССПЭН, 2011. 230 с.
[5] Quermonne J.-L. Les regimes politiques occidentaux. Paris: Éditions du Seuil, 1986. 316 p.
[29] Федорова М. М. Суверенитет как политико-философская категория Современности // Философский журнал. 2009. № 1(2). С. 154–164; Шевченко В. Н. Информационная война Запада с исторической памятью россиян: логико-исторический аспект // Философские науки. 2015. № 6. С. 7–21; Манойло А. В. Информационные войны и психологические операции. Руководство к действию. М.: Гор. лин. Телеком, 2018. 496 с.; Винник Д. В. Цифровой суверенитет: политические и правовые режимы фильтрации данных // Философия науки. 2014. № 2 (61). С. 95–113; Ефремов А. А. Формирование концепции информационного суверенитета государства // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 1. С. 201–215.
[28] Антоновский А.Ю., Бараш Р. Э. Социально-сетевые движения как метафора искусственного интеллекта // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 50. С. 5–20. DOI: 10.17223/1998863X/50/1; Жуков Д. С. Искусственный интеллект для общественно-государственного организма: будущее уже стартовало в Китае // Журнал политических исследований. 2020. Т. 4. № 2. С. 70–79 // URL: https://naukaru.ru/ru/nauka/article/38592/view (дата обращения: 19.05.2022); Быков И. А. Искусственный интеллект как источник политических суждений // Журнал политических исследований. 2020. Т. 4. № 2. С. 23–33 // URL: https://naukaru.ru/ru/nauka/article/38589/view (дата обращения: 29.03.2022).
[27] Ansolabehere S., Hersh E. Validation: What Big Data Reveal About Survey Misreporting and the Real Electorate // Political Analysis. 2012. № 20(4). P. 437–45; Kosinski M., Wang Y., Lakkaraju H., Leskovec J. Mining Big Data to Extract Patterns and Predict Real-Life Outcomes // Psychological Methods. 2016. Vol. 21. № 4. P. 493–506; Clark W. R., Golder M. Big Data, Causal Inference, and Formal Theory: Contradictory Trends in Political Science? // PS: Political Science & Politics. 2015. Vol. 48. Issue 1. P. 65–70; Володенков С. В. Технологии Big Data в современных политических процессах: цифровые вызовы и угрозы // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 44. С. 205–212; Володенков С. В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного политического управления: навстречу цифровому обществу. М.: Проспект, 2021. 416 с.
[26] Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.; Dean. J. Communicative Capitalism and Class Struggle // Spheres: Journal for Digital Cultures. 2014. № 1. P. 1–16; Грачев М. Н., Евстифеев Р. В. Политический язык и жанры политической коммуникации в современном Интернете (опыт стран Северной Америки и Западной Европы) // Журнал политических исследований. 2019. Т. 3. № 3. С. 46–57 // URL: https://naukaru.ru/ru/nauka/article/33301/view (дата обращения: 29.03.2022); Публичная политика: Институты, цифровизация, развитие: Колл. моногр. / под ред. Л. В. Сморгунова. М.: Аспект Пресс, 2018. 384 с.
[25] Манович Л. Язык новых медиа. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. 400 с.; Кехлер Г. Новые социальные медиа: шанс или препятствие для диалога? // Полис. Политические исследования. 2013. № 4. С. 75–87; Срничек Н. Капитализм платформ. 2-е изд. / пер. с англ. М. Добряковой. М.: Изд. дом. ВШЭ, 2020. 128 с.
[24] Григорянц Г. Г. Три модели легитимации власти // ԼրաբերՀասարակական Գիտությունների. 2004. № 2. С. 144–159; Гасратова Ф. М. Современные технологии и механизмы легитимации власти // Вестник университета. 2014. № 16. С. 21–25, Мясников С. А. Легитимация и обоснование политики: анализ концептуальных разграничений // Политическая наука. 2019. № 3. С. 222–235.
[23] Попова И. Социологический подход к исследованию легитимности и легитимации // Социология: теория, методы, маркетинг. 2001. № 3. С. 21–41.
[22] Haldenwang von Ch. Measuring Legitimacy — New Trends, Old Shortcomings? Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 2016. 36 p.
[21] Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма / пер. с нем. Л. В. Воропай. М.: Праксис, 2010. 264 с.
[31] Gerbaudo P. The Digital Party: Political Organization and Online Democracy (Digital Barricades). Pluto Press, 2018. 224 p.; Dommett К., Kefford G., Power S. The digital ecosystem: the new politics of party organisation in parliamentary democracies // Party Politics. 2020. February. P. 1–11.
[30] Разуваев В. В. Анатомия политической интриги. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. 184 с.; Ильченко С. Н. Фейк как политический формат в современной медиасреде // Гуманитарный вектор. 2015. № 3 (43). С. 98–101.
[19] Easton D. A Re-assessment of the Concept of Political Support // British Journal of Political Science. 1975. Vol. 5. № 4. P. 435–457; Медведев Н. П. Стабильность политической системы: теория и российская практика // Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. 2007. № 4 (17). С. 63–70.
[18] Салмин А. М. Современная демократия: очерки становления и развития. М.: ФОРУМ, 2009. 384 с.
[17] Липсет М. Политический человек: социальные основания политики / пер. с англ. Е. Г. Генделя, В. П. Гайдамака, А. В. Матешук. М.: Мысль, 2016. 612 с.
[16] Held D. Models of Democracy. Stanford: Stanford University Press, 3rd ed, 2006. 352 p.
[15] Beetham D. The Legitimation of Power. Palgrave, 1991. 267 p.
[14] Шмитт К. Понятие политического. СПб.: Наука / пер. с нем. А. Ф. Филиппова, А. П. Шурбылева, Ю. Ю. Коринеца, 2016. 568 с.
[13] Вебер М. Политика как призвание и профессия / пер. с нем. и вступит. статья А. Ф. Филиппова. М.: РИПОЛ классик, 2018. 292 с.
[12] Парсонс Т. О структуре социального действия / пер. с англ. М.: Академический проект, 2018. 435 с.; Баранов Н. А. Современная демократия: эволюционный подход. СПб.: Балт. гос. технич. ун-т, 2007. 208 с.
[11] Levitsky S., Way L. A. Competitive Authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 537 p.; Domingues J. M. Political Regimes and Advanced Liberal Oligarchies // Constellations. 2018. Vol. 26. Iss. 1. P. 78–93; Харитонова О. Г. Недемократические политические режимы // Политическая наука. 2012. № 3. С. 9–30; Розов Н. С. Динамика гибридных режимов и устойчивость/хрупкость неототалитаризма // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2018. № 1(88). С. 30–46.
[10] Туровский Р. Ф. Региональные политические режимы в России: к методологии анализа // Полис. Политические исследования. 2009. № 2. С. 77–95.
[20] Ачкасов В.А., Елисеев С. М., Ланцов С. А. Легитимация власти в постсоциалистическом российском обществе. М.: Аспект-Пресс, 1996. 127 с.; Завершинский К. Ф. Легитимация политической власти: морфология научного дискурса // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2016. Т. 12. № 4. С. 4–18.
[49] Тойнби А. Дж. Постижение истории / пер. с англ. Е. Д. Жаркова. М.: Академический проект, 2019. 802 с.
[48] Грачев М.Н. О соотношении концепций установления повестки дня и фрейминга // Век информации. 2018. Т. 2. № 2. С. 94–96.
[47] Dean J. Communicative Capitalism and Class Struggle // Spheres: Journal for Digital Cultures. 2014. № 1. P. 1–16.
[46] Ловинк Г. Критическая теория интернета. М.: Ad Marginem, Музей совр. иск. «Гараж», 2019. 304 с.; Исаев И. А. Технологии власти. Власть технологии: монография. М.: Проспект, 2019. 144 с.
[45] Блумер Г. Символический интеракционизм: перспектива и метод / пер. с англ. А. М. Корбута. М.: Элементарные формы, 2017. 346 с.
[44] Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории / пер. с нем. И. Д. Газиева, под ред. Н. А. Головина. СПб.: Наука, 2007. 621 с.
[43] Кастельс М. Власть коммуникации / пер. с англ. Н. М. Тылевич. М.: Изд. дом ВШЭ, 2017. 591 с.
[53] Ачкасов В. А. Роль политических и интеллектуальных элит посткоммунистических государств в производстве «политики памяти» // Символическая политика: сб. науч. тр. М.: ИНИОН РАН, 2012. Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс / отв. ред. О. Ю. Малинова. C. 126–148; Малинова О. Ю. Кто и как формирует официальный исторический нарратив? (Анализ российских практик) // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2019. № 3(94). С. 103–126. DOI: 10.30570/2078-5089-2019-94-3-103-126.
[52] Панарин А. С. Стратегическая нестабильность в XXI веке. М.: Эксмо, Алгоритм, 2004. 640 с.
[51] Кара-Мурза А.А. «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. М.: Институт философии РАН, 1995. 211 с.
[50] Цымбурский В. Л. Россия — Земля за Великим Лимитрофом. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 144 с.
[39] Шомова С. А. От мистерии до стрит-арта. Очерки об архетипах культуры в политической коммуникации. М.: Изд. дом ВШЭ, 2016. 264 с.; Кафтанджиев Х. Мифологические архетипы в коммуникации. Харьков: Гуманитарный центр, 2016. 268 с.
[38] Фадеева Л. А. Сетевая идентичность // Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. / ред. И. С. Семененко, В. В. Лапкин, Л. А. Фадеева. М.: РОССПЭН, 2011. Т. 1. С. 67–69; Мартьянов Д. С. Сетевая идентичность: трансформация феномена и подходов к изучению // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2014. Т. 10. № 4. С. 142–160; Емелин В. А. Идентичность в информационном обществе. Монограф. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2017. 360 с.; Корнев В. В. Эгоистичный мем идеологии. М.: КАНОН + РООИ «Реабилитация», 2020. 267 с.
[37] Зубок В. М. Источники делегитимизации советского режима // Полис. Политические исследования. 1994. № 2. С. 88–97; Дуткевич П., Казаринова Д. Б. Страх как политика // Полис. Политические исследования. 2017. № 4. С. 8–21. DOI: 10.17976/jpps/2017.04.02; Бадретдинов И. Р., Бадретдинова С. А. Легитимация и делегитимация государственной власти как политический процесс // Общество: политика, экономика, право. 2019. № 11. С. 38–42.
[36] Бляхер Л. Е. Архаические механизмы легитимации власти в России // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2008. № 3. С. 7–29; Скиперских А. В. Хлеб и зрелище: практики легитимации власти // Бизнес и дизайн ревю. 2016. Т. 1. № 3. C. 7–8.
[35] Соловьев А. И. Политический дискурс медиакратий: проблемы информационной эпохи // Полис. Политические исследования. 2004. № 2. С. 124–132.
[34] Вертешин А. И. Медиалегитимация политической власти в современной России. Архангельск: Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2008. 260 с.; Пономарев Н. Ф. Стратегии и технологии медиалегитимации власти. Пермь: Перм. гос. универс., 2010. 192 с.
[33] Ветренко И. А. Игровые практики в политическом процессе: монография. Омск: Изд. Омск. гос. ун-та, 2009. 160 с.; Schulzke M. Military videogames and the future of ideological warfare // The British Journal of Politics and International Relations, 2017. Vol. 19. Issue 3. P. 609–626.
[32] López A. E. Invisible Participation: The Hologram Protest in Spain // Afterimage: The Journal of Media Arts and Cultural Criticism. 2016. Vol. 43. № 4. P. 8–11.
[42] Цымбурский В. Л. Конъюнктуры Земли и Времени. Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования. М.: Европа, 2011. 372 с.
[41] Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма / пер. с нем. Л. В. Воропай. М.: Праксис, 2010. 264 с.; Haldenwang von Ch. Measuring Legitimacy — New Trends, Old Shortcomings? Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 2016. 36 p.
[40] Goodnow F. Politics and Administration: A Study in Government. N.Y.: The Macmillan Company, L Macmillan & CO. Ltd, 1900. 270 p.; Богданов А. А. Очерки организационной науки. М.: Т8 RUGRAM, 2019. 354 с.; Bosch J. Van den. Mapping Political Regime Typologies // Przegląd Politologiczny. 2014. № 4. P. 111–124.
[54] АНО «Левада-Центр» внесена Минюстом РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Глава 1.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕГИТИМАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
Категория легитимации — одна из наиболее неоднозначных дефиниций в современных политологических работах. Разночтения в ее понимании происходит от теоретических, методологических, ценностных, цивилизационных отличий между ее исследователями. Но перед тем как перейти к ее рассмотрению, требуется разобрать другую связанную с ней дефиницию — политического режима.
1.1. Общее и специфичное в политологическом осмыслении категориальной сущности легитимации политического режима
Политический режим — ключевое рабочее понятие настоящего исследования. Вместе с тем важно заметить, что на данном этапе не существует его однозначного определения. Сначала сосредоточимся не на типологии, а на категориальной стороне явления. Развивалось порядка трех подходов к осмыслению самого этого феномена: институциональный, инструментальный и функциональный55.
Институциональный (структурно-ориентированный, нормативный, дихотомийный) подход развивался на страницах работ А. Токвиля, Дж. Сартори, М. Дюверже, А. Пшеворского, М. Альвареса, Ж.-Л. Кермонна, П. Калверта, Г. Н. Манова, Д. А. Керимова, П. В. Панова и других ученых. Согласно этому направлению, политический режим — это совокупность скрытых («черный ящик» политический системы) и явных структур общества, определяющих каналы доступа к ключевым правительственным должностям, а также те качества, ресурсы и стратегии, которые нужны кандидатам для обладания данными постами (такое определение дают в своей книге американский политолог Ф. Шмиттер и аргентинский политолог Г. О’Доннелл)56. На деле это означает механизм кадровой фильтрации, практикующий архаичные принципы кланового рекрутинга по элитным каналам, особые традиции карьерного продвижения и включающий современную систему образования.
На довольно схожие элементы анализа «старого порядка» (фр. ancien régime) в своей работе «Старый порядок и революция» указывал французский политический мыслитель А. Токвиль (разделение классов, ущемление политической свободы, образование и просвещение)57. Это означает, что институциональная традиция изучения политических режимов существует уже сравнительно давно. Французская политологическая школа также больше тяготеет к институциональной трактовке политического режима, рассматривающей его как набор элементов, обеспечивающих достижение политической власти. К примеру, профессор политической социологии Парижского университета М. Дюверже предложил для политического режима обозначение общественно-управленческого механизма, соединяющего системы голосования, выборов, принятия решения при участии в них групп интересов, политических партий и других акторов58. Профессор парижского Института политических наук Ж.-Л. Кермонн несколько уточнил категорию и понимает под политическим режимом совокупность институционального, идеологического и социологического порядка, формирующей на определенный временной период политическую власть конкретной страны59. Более категоричную позицию имел П. Калверт, который политическим режимом называл правительство либо последовательность нескольких правительств, где власть сохраняется у социальной группы60.
Институциональная трактовка сосредоточена на выстраивающих стратегии исторических акторах, концептуальных и макроколичественных сравнениях61, основана на привязке уровня прав и свобод человека к нормативной стороне государства. По сути, сторонники институционализма пишут о нормах либо институтах, способствующих достижению власти путем наследования или выборов, часто предпочтение отдается дихотомийности — делению режимов на демократические и авторитарные типы. Поэтому ограничением институциональной модели является фактическое отождествление политического режима с формой правления, что не дает важной для нас конкретизации этого феномена. Примечательно, что схожей традиции придерживались советские государствоведы. Но были и свои особенности. К примеру, Г. Н. Манов считал политический режим тождественным форме государства62, тогда как Д. А. Керимов описывал политический режим в виде особой внутренней формы государства, отличая ее от внешней формы — формы государственного устройства и формы правления63. Как верно отмечает российский исследователь М. Г. Тирских64, в настоящее время не очень корректно считать, что факт присутствия в соответствующем государстве монархической либо республиканской формы правления помогает четко определить разновидность политического режима.
Не объясняют институционалисты и наличие в демократиях и недемократиях существования схожего явления — политической элиты. Гиперболизация таких признаков демократии как многопартийность, выборность глав государств, легислатур вызывает критику65, так как оставляет за скобками феномен авторитета партий и политических лидеров, способный подточить демократический режим.
В современной российской политологии предпочитают уходить от жесткой институциональной привязки при категоризации политического режима. Так, мнение профессора А. П. Цыганкова близко к институциональному видению, хотя оно включает элементы функционального и инструментального подходов. Он считает, что политический режим — это совокупность различных властных структур, функционирующих в условиях политической системы и ориентированных на ее упрочнение с помощью специфических интересов и методов66. П. В. Панов также делает чрезвычайно глубокое замечание о том, что политический порядок (режим), как постоянный процесс воспроизводства политических практик, институционализируется одновременно на макро- и микроуровне — уровне политий (политических сообществ)67. В работе Панова в общем контексте рассматриваются идентичность и политическая легитимация.
Несмотря на критику теории модернизации, последующие транзитологические исследования перехода автократий в демократии и обратных процессов способствовали развитию неоинституционализма и новых подходов. В частности, С. Хантингтон стал обращать внимание на проблемы легитимации у авторитарных режимов; Ф. Риггс пришел к выводу о стабильности однопартийных режимов (КНДР, Куба) и нестабильности президентской формы правления из-за усиления бюрократии с одновременной деградацией демократических практик (за исключением США); Ф. Шмиттер выявил неконсолидированные демократии в Азии, Восточной Европе и Латинской Америке с рисками возвращения к автократии; Р. Саква выдвинул тезис о «режимной системе», сохраняющей латентные риски стабильности из-за сочетания демократических и недемократических элементов; Дж. Герчевски исследовал режимную легитимацию через воспроизводство лояльности за счет идеи отсутствия альтернативы. И, тем не менее, как справедливо отмечает И. А. Быков, изучение легитимации авторитарных режимов по-прежнему существует на периферии исследовательских проектов68.
Инструментальный (процессно-ориентированный, трихотомийный, социологический) подход предполагает, что политический режим — это набор приемов и методов осуществления политической власти в социуме. К нему можно отнести таких авторов как Р. Даль, М. Касиоровски, М. Фуко, Т. Карл, Л. Вэй, С. Левицки, А. Шедлер, Дж. Домингес, Ф. М. Бурлацкий, К. В. Мельников, В. Г. Ледяев, А. Л. Громыко, И. А. Исаев и др.
Ф. М. Бурлацкий, один из основателей отечественной политической науки, отмечал, что в российских исследованиях данная категория с самого начала трактовалась в виде системы методов государственной власти69. Хотя в своей совместной книге с А. А. Галкиным он пишет, что при анализе политического режима важно изучать не только методы управления и господства, но и понимать характер группировок правящего класса, правящих партий, коалиций и оппозиции70. А. Л. Громыко также отмечает, что политический режим является совокупностью методов и приемов, благодаря которым правящая элита (группа элит) экономически и политически господствует в обществе71. Американский политический социолог М. Манн в исследовании политических режимов также акцентирует внимание на правящих группах или коалициях, меньше уделяя внимание институциональной стороне этой темы72.
Теория полиархии Р. Даля также учитывает инструментальный параметр. Американский политолог пишет о так называемой дуальности методов правительства: силовых (армия, полиция) и несиловых (поощрение, убеждение, контроль информации, экономических ресурсов, политической социализации и образования)73. С инструментальной моделью тесно связана и позиция, согласно которой политический режим означает установленный правилами практики политической власти способ принятия политических решений74. Правда, инструментальный подход смешивает политический режим с властными ресурсами. И, безусловно, сохраняется высокая степень гиперболизации значимости эволюции политических технологий, их противоречий с запаздывающими в развитии институтами75. Иногда авторы изучают технологии власти через призму гомеостаза — стабилизации системы76.
И все же инструменталисты выходят за жесткие рамки институционализма «демократичность — авторитарность», больше уделяя внимания процессам и факторам демократизации. Отличительной чертой этого подхода является трихотомийность — изучение третьего типа политических режимов — гибридных. Политологическим прорывом в этом направлении послужила работа С. Левицки и Л. Вэй, которые ввели категорию «ровного игрового поля» (a level playing field)77, подразумевая под этим эволюцию ряда режимов в сторону гибридных типов, которые стараются подражать демократиям, но сохраняют принципы привилегий и патронажа (кстати, совсем не исключено, что по причине эволюции политических режимов как раз и возникали разные трактовки и классификации данного феномена). Инструменталистами выделяются несколько типов гибридных режимов — конкурентный (политическая элита зависит от фактора неопределенности выборного процесса), гегемонистский (создается лишь демократический фасад), закрытый авторитарный, электоральный авторитарный (допускаются выборы, многопартийность, инакомыслие)78 и либерально-демократический79 (переходная форма между демократией и диктатурой, зависимая от медиаолигополий).
Ответом на шаткие основания выделения гибридных режимов стала критика инструментального подхода. Г. В. Голосов замечает, что дефиниция гибридных режимов по началу был отнесена к авторитарным порядкам, описывая имитацию демократии. Однако, по мнению Голосова, признак гибридности нечеток и совсем не отражает фундаментальный характер отдельного вида политического режима80.
Наконец, есть функциональный подход, одним из разработчиков которого после Г. Спенсера был Ф. Гуднау, создатель и первый глава Американской ассоциации политической науки. Гуднау в своей монографии разделял политические и государственно-административные функции, а также основные, вторичные функции власти81. Постепенно появляются новые работы о весомом вкладе в изучение функциональной стороны управленческих систем А. А. Богдановым. Идеи Богданова пересекаются с теорией функционирования системы, кибернетикой, поднимают вопрос изоморфизма социальных, физических и биологических законов, подчеркивают аспект большей организованности центральных систем в сравнении с периферийными, а также включают понятие «дегрессивных комплексов»82 — ограничителей разнообразия (по сути, современных цифровых легитимационных технологий режима). Аналитическая оптика Богданова на практике позволяет соотносить легитимацию режима с ассимиляцией (тех же интернет-сообществ, современных пользователей), а делегитимацию с дезассимиляцией83.
Согласно функциональному подходу, политический режим — это порядок (способ) функционирования политической системы (Г. Спенсер, Ф. Гуднау, Э. Дюркгейм, А. Грамши, А. А. Богданов, Г. Лассуэлл, Н. Луман, Т. Парсонс, Д. Истон, Р. Мертон, Дж. Линц, Э. Степан, Б. Малиновский, Г. Блумер, К. фон Гальденванг, Дж. Босч, В. Г. Афанасьев, Г. П. Щедровицкий, И. И. Кравченко, А. И. Соловьев, Н. А. Баранов и др.). В современной политологии такое видение опирается на тезис одного из основателя Чикагской школы политического бихевиорализма Г. Лассуэлла, по которому у каждой фазы политико-управленческой деятельности есть функциональное значение84, а режим функционирует с целью минимизации в политическом процессе элементов принуждения. Лассуэлл сводил основной функционал системы к трем направлениям: наблюдению и надзору за обстановкой; налаживанию взаимодействия частей социума исходя из трансформации среды; передаче опыта от поколений85. Американский политолог Д. Истон дает схожее, но обладающее определенным отличием определение. Политический режим им видится в виде формализованного способа, упорядочивающего политические отношения86. В функционализме социальное действие порождает структуру, саму систему, процессы которой рассматриваются во взаимосвязи и как нацеленные на обеспечение ее целостности. На деле структура — это закрепившаяся в политии функция.
Первостепенное значение имеют работы Т. Парсонса. Они стали своеобразным мостом, которые связали функциональный подход с институциональным. Ученый выделял не только системные, но и функциональные компоненты режима, например, культуру, формирующей интерпретации, а значит, имеющей принципиальное значение для легитимации порядка. Парсонс детализировал подход, аргументировав значение функций целедостижения, адаптации системы к внешней среде, интеграции компонентов системы и регуляции латентных напряжений системы87. Я. Уатэкер спорил с таким подходом, так как он игнорировал нюансы дисфункциональности. Критикуя парсоновскую модель, Р. Мертон акцентировал аспекты латентных, явных функций, амбивалентности, когда одни и те же явления, элементы могут быть функциональными для одних и дисфункциональными для других социальных единиц88. Тогда как Н. Луман был сосредоточен на вопросах функциональной дифференциации.
Функциональной ролью гегемона в обеспечении воспроизводства и сохранения политического режима А. Грамши наделял партии и интеллигенцию89, прямо называя представителей последней «функционерами». А. Рэдклифф-Браун и Б. Малиновский, как и Парсонс, рассматривали адаптационные возможности системы. Малиновский сближал функцию с соответствием системы социальным потребностям90.
Развивается функционализм и в России. Академик В. Г. Афанасьев в рамках своей модели социальной и политической информации раскрыл сущность системы в преобразовании информации в обеспечивающий функционирование набор внутренних и внешних связей. По мнению философа, в результате функционирования система аккумулирует опыт по решению проблемных ситуаций (что похоже на модель обучающейся нейронной сети). Возникающая в ходе постоянных возмущений подвижная «модель-решение» программирует режим функционирования системы с широким диапазоном управленческой корректировки91. Отечественный философ и методолог Г. П. Щедровицкий говорил о функциональных свойствах структуры, возникающих благодаря линейным (целеполагание) и функциональным (детерминация, учет управленческих ограничений и сложностей) связям элементов92. Работы И. И. Кравченко показывают, что режимная легитимация связана с трехмерным функциональным пространством (уровни макро-, мезо- и микрополитики) и управляемым функциональным временем93 (что можно связать с политикой памяти).
Профессор факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Н. А. Баранов считает, что политический режим — это способ функционирования политической системы социума, характеризующий политическую жизнь в стране, отношение органов власти к правовым основаниям своей деятельности, а также уровень политической свободы94. Российский политолог А. И. Соловьев под политическим режимом описывает не только институциональный дизайн — набор важнейших методов функционирования базовых властных институтов, практикуемых ими ресурсов приемов принуждения, структурирующих взаимодействие общества и государства, но и стиль отправления институтами собственных функций. Стиль режима им отслеживается по характеру деятельности политических лидеров и политической команды95. Это принципиально важное замечание. В современном сетевом обществе по стилю политической активности лидеров, партий, государства в киберпространстве можно определить специфику режима. Соловьев предлагает и другую интересную мысль: в настоящее время преимущество узкого круга коалиций элиты достигается сужением политико-административной сферы, утратой институтами представительской функции интересов граждан, а также использованием представителями этой элиты специфических технологий96. Отсюда актуальность приобретает коммуникационный и аксиологический аспекты изучения политических режимов.
Функциональная оптика способствует скрупулезному рассмотрению политического режима через коммуникационно-цифровой ракурс. Но оценка роли коммуникаций в функционировании режимов отличается разнообразием: одни авторы ратуют за прогрессивную роль коммуникаций в построении оптимального обратного контура между обществом и властью97, тогда как другие98 усматривают в них опасность режимной делегитимации. Конечно, у подхода есть и свои ограничения. Критики указывают на игнорирование этим подходом проблем эволюции политических режимов, противоречий социальных групп99. В любом случае функционализм активно развивается, впитывая достижения институционализма и инструментализма. Поэтому в настоящей работе будет предпринята попытка синтезировать его с другими подходами, учтя факторы цифровизации, ценностно-символические элементы режимных трансформаций и субъект-объектных политико-управленческих отношений. Отправной точкой в этой адаптации функционализма здесь послужат наработки А. А. Богданова и закон необходимого разнообразия У. Эшби — оптимальное управление возможно, если разнообразие управляющего субъекта соответствует разнообразию управляемого объекта100. Иначе говоря, если в группах общества в ходе цифровизации распространяются социальные сети, компьютерные игры, веб-приложения, то политический режим должен приводить свои технологии легитимации в соответствие с подобными трендами, иначе его ждет дисфункциональность и делегитимация.
К. фон Гальденванг соотносит политический режим (political regime) с политическим порядком (political order), его субъектами (ruler) и объектами управления (ruled), механизмами воздействия на общественное мнение101. Очевидно, что источником политического режима можно определить субъект (или политическую элиту), его технологии и механизмы воздействия на объект. Рассмотрение политического режима через субъект-объектные отношения помогает лучше применить к нему функциональный подход.
Чрезвычайно важное дополнение в этот вопрос вносит российский политолог В. Г. Ледяев, переосмысливший тезис «третьего лица власти» С. Льюкса и рассматривающий под политической властью способность субъекта в соответствии со своими намерениями осуществлять подчинение объекта в политической сфере. И, как справедливо комментирует Ледяев, данное подчинение объекта субъектом (элитой) обеспечивается через довольно разнообразные способы воздействия на поведение и сознание граждан102: а) убеждение (аргументацию), б) манипуляцию (утаивание информации), в) побуждение (позитивную мотивацию), г) принуждение (угрозу санкций), д) силу (непосредственное влияние на объект) и е) авторитет (добровольное подчинение субъекту, признание его компетенций и знаний). Но изучение субъект-объектных отношений не стоит на месте.
Объекту власти может быть выгодно подчинение субъекту власти, но в отличие от него он не обладает такой целостностью, политическим целеполаганием, напротив, слабость объекта кроется в его фрагментированности, разобщенности103. На этом и основан механизм политической власти. Режим, как порядок функционирования властных отношений, процессов, связан не столько с силовым доминированием, а сколько с организацией, создающейся для достижения выявленных социальных целей — социальных аттракторов104. Подходя к точке бифуркации (социальному аттрактору), субъект власти должен понять суть флуктуаций и установить новую социальную цель, организуя процесс ее достижения.
Предназначение политического режима, как системы балансира, — справляться с постоянными бифуркациями, поддерживать функционирование институтов политической системы, соотносив политические функции с новыми трендами, процессами, вызовами общества, объектов власти и новыми задачами субъекта власти. Благодаря регулярной адаптации политического режима под социальные процессы, субъекты власти синстадиально, т. е. исходя из своих потребностей, способностей, ресурсов и условий осваивают все новые и новые социальные аттракторы — исторические стадии развития, которые порождают флуктуации. Если политический режим осмысливать через идею интегрирующей, консолидирующей политико-ценностной матрицы, сводящей разрозненные интересы индивидов к общим интересам, то такое видение хорошо укладывается в политическую философию Гераклита. Мыслитель противопоставлял логос-мир, как объективное, связанное с природой, индивидуальному и субъективному «разумению»105. В связи с этим заслуживает внимания и тезис Гераклита о Модераторе — установителе правила поединка между противниками106. Выражаясь гераклитовым языком, политический режим (Модератор) не просто формирует политические правила игры, но и не дает представителям разных политических интересов полностью уничтожить друг друга. Хотя, конечно, история знает случаи, когда режим, наоборот, старался полностью устранить опасного для себя противника.
Режимная дисфункциональность возникает в случае, если элита, как субъект власти, не осваивает социальные аттракторы, не перенастраивает функции действующего порядка из-за предпочтения своих и игнорирования общественных интересов. Фрактальный характер властных феноменов — субъектов и объектов власти107 — позволяет посмотреть на них как на явления со свойствами самоподобия — наличием повторяющихся микро- и макрополитических процессов в разных уровнях социальных систем (от партий до государств и цивилизаций). Но и сами социальные аттракторы (раздражители, политические вызовы, способные привести либо к укреплению, либо к падению режима) обладают фрактальной природой. Утверждение, что инертность субъектов сохраняет общество, имеет под собой некоторые основания108, однако если режим не адаптируется под социальные аттракторы, то последние могут стать для него репеллерами — источниками дисфункциональности. Другими словами, политическая власть — внутрисистемный, а не надсистемный компонент. Поэтому, если элита (субъект власти) самоустраняется от адаптации режимом социальных аттракторов, не решает системные цели общества, то она утрачивает фрактальные связи с внешней средой, а объект власти при такой дисфункциональности либо находит иной субъект власти, либо сам порождает новую элиту. Не так давно Дж. Хеймансом и Г. Тиммсом была предложена «нововластная» модель109, где «старая» власть предполагала отношения иерархии, подчинения и потребления, а «новая» власть — отношения широкого сотрудничества, самоорганизации, активного политического участия и ценности неформального сетевого управления.
Итак, политический режим как порядок раскрывается через базовые функции воздействия субъекта управления на объект управления (убеждение, манипуляцию, побуждение, принуждение, силу и авторитет). Хорошо сочетается с концептуальным анализом власти В. Г. Ледяева символический интеракционизм Г. Блумера, признающий важнейшей функцией общества формирование общественного мнения, функцией социального взаимодействия — формирование поведения его членов. Подход Блумера во многом обретает новую актуальность в условиях развития современных интернет-коммуникаций. Перечисляя основные положения символического интеракционизма, важно выделить три посылки Блумера: а) люди действуют по отношению к вещам исходя из значений, которые для них данные вещи сохраняют; б) значение вещей формируется в процессе взаимодействия людей друг с другом; в) значения могут применяться и изменяться при интерпретативном процессе110. Порядок, его стабильность и продолжительность, согласно Блумеру, проистекает от механизма транзакции — приспособления линий поведения людей друг к другу в форме их совместной или перекрестной деятельности. Этот символический механизм формирования порядка базируется на двух процессах — интерпретации и определении111. Если интерпретация — это установление значений слов или действий другого человека, то определение — это сообщение другому человеку указаний относительно того, как тому поступать (этот тезис актуален на фоне современной алгоритмизации власти, когда веб-приложения, алгоритмы начинают предлагать индивиду варианты решений). Результатом механизма транзакции является два варианта политического поведения граждан относительно существующего порядка — конформность (приверженность) и девиация (отклонение от него).
В подходе Г. Блумера лишь не хватает скрупулезного анализа технологий воздействия субъекта на объект, однако этот пробел прекрасно компенсируют работы В. Г. Ледяева и Г. Беккера. Последний развил интеракционизм, раскрыв функционирование порядка через выработку одними социальными группами правил поведения для других групп112. Беккер в своей книге на конкретных примерах описал процесс наклеивания ярлыков на противников порядка — девиантов (аутсайдеров).
Уточняя рабочий термин, важно заметить, что политический режим — это порядок функционирования институтов политической системы, предполагающий разнообразные способы воздействия субъекта управления на сознание и поведение объекта управления. Политическая система включает различные элементы в виде политических институтов — государство, правительство, партии, парламент, элиты, лидерство. В качестве гипотезы можно предложить следующий тезис — цифровизация политического режима ввиду его функциональной роли как раз наибольше проявляется, в первую очередь, в институте политического лидерства и правительства, а во вторую очередь в институтах парламентаризма и политических партий. В последующих главах эту гипотезу можно проверить в ходе анализа цифровой трансформации институтов правительства, партий и лидерства.
Представляется, что именно функциональный подход к политическому режиму отражает современную картину развития политических систем. В принципе, он способен учесть, как инструментальные, так и институциональные трактовки данного определения. Вполне возможно, что из-за категориальной нечеткости и параллельного развития трех подходов к политическому режиму появилось довольно множество вариантов его классификаций.
Помимо термина «политический режим», центральной категорией настоящего исследования является «легитимация», производная от дефиниции «легитимность». Если принять функциональный подход в трактовке политического режима, то нас будет в первую очередь интересовать легитимация порядка, способов функционирования политической системы. Легитимность (от лат. legitimus — согласный с законами, законный, правомерный) в широком смысле — это классическое согласие объекта управления с субъектом управления в вопросах политической жизни. В более конкретном понимании легитимность — это поддержка субъекта управления (политической элиты, правительства, правящих партий) со стороны самых широких групп населения113. Но легитимность не следует путать с легальностью — нормативной стороной существования власти.
Легитимация политического режима — это, по сути, процесс достижения и сохранения легитимности, а именно — согласия групп общества (объекта управления) и политической элиты (субъекта управления) по вопросам справедливости, оптимальности, эффективности, ценностей коммуникаций и практик действующих политических институтов. Под институтами же понимается устойчивый относительно политиков и обстоятельств набор правил и практик114. Дж. Ролз добавляет, что эти правила должны обязательно обладать публичностью115. Иначе в условиях современных коммуникаций не возникнет процесс легитимации. Легитимацию логично понимать, как двунаправленный процесс: а) достижения согласия, и в то же время — б) готовность населения к этому согласию116. Первая составляющая процесса является нисходящей легитимацией и фиксируется на уровне политических технологий, направленных субъектами власти на объект власти с целью конструирования лояльной оценки функционирования режима. Вторая составляющая процесса является восходящей легитимацией и связана с политическими эффектами — признанием или непризнанием режима легитимным со стороны населения по результату активности технологий нисходящей легитимации117. Она фиксируется с помощью показателей, рейтингов, индексов и опросов граждан. В данном исследовании основной упор будет сделан именно на политические технологии нисходящей легитимации. Очень близко приблизился к осмыслению сущности легитимации Гераклит, затронув в своем учении идею гармонии, а также Логоса — великого интеграла, где объединяются все противоположности118. Платон явно описывал схожий с легитимацией механизм, говоря о согласии, когда одна сторона (правители) клялась не усиливать свою власть при переходе от поколения к поколению, а другая сторона (народ) клялась не свергать правителей, если это условие будет соблюдаться119.
Для краткости изложения легитимация политического режима в данном исследовании будет в некоторых случаях обозначаться как «политическая легитимация», тогда как противоположный ему процесс — «политическая делегитимация». И если легитимацию логично соотнести с функциональностью режима, то делегитимацию с дисфункциональностью. При этом исследования А. М. Салмина позволяют говорить о квазилегитимационных технологиях режима120. Механизм управления процессом легитимации может осуществляться, контролироваться и корректироваться посредством различного спектра технологий — от традиционных до цифровых, которым и посвящается данная работа. Обоснование политики, проводимой субъектами режима по отношению к объектам власти, как раз и выступает этим механизмом обеспечения легитимации121. А в условиях цифровой среды обоснование политического курса все больше приобретает коммуникационный характер. В большинстве случаев технологии обоснования ориентированы на формирование позитивного образа режима.
Интересно выявить динамику возникновения интереса ученого сообщества к категориям политического режима, легитимации, делегитимации и легитимности. Пока такие попытки предпринимались только в плане легитимации122. Обращение к ресурсу сбора больших данных Google Books Ngram Viewer позволило определить появление этих терминов в англоязычных печатных текстах (см. диагр. 1). Англоязычная коллекция текстов Google Books была выбрана по причине большей употребляемости выбранных терминов в данном языке. Из графика видно, что интерес к легитимации и политическому режиму в публикациях отмечается с 1960-х гг. (возможно, это связано с появлением сравнительных исследований западных политологов о демократии и авторитаризме), тогда как к делегитимации с конца 1990-х гг. (не исключено, что это можно объяснить крушением социалистических режимов).
Одних параметров согласия и поддержки для понимания природы политической легитимации недостаточно. Они могут достигаться манипулятивными приемами, в том числе через политический или экономический шантаж, а не только добровольным путем. Вот почему важно изучать такую сторону как доверие граждан и режима друг к другу, а также анализировать технологии формирования авторитета — убеждения населения властью в том, что функционирующие политические институты — наиболее подходящие для общества123. Важно и то, что доверие часто применяется именно к политическим институтам124. Авторитет и доверие — важные слагаемые легитимации как древних, так и современных политий125. На практике легитимацию режима можно изучать, к примеру, обращаясь к уровню институционального доверия.
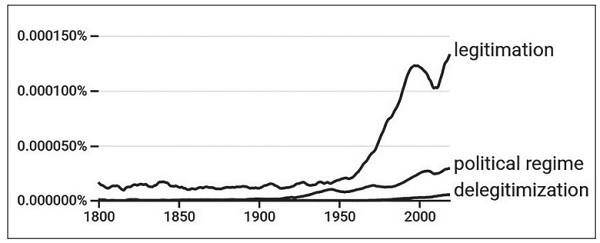
Диаграмма 1. Частота употреблений научных категорий
в англоязычных текстах
Легитимность режима достигается посредством определенных технологий легитимации — дискурсивных, визуальных и других приемов формирования восприятия власти у целевых аудиторий населения126. Эти приемы являются частью ментального процесса, опосредованного политической культурой страны, и включают практики по налаживанию эффективной и надежной политической коммуникации, атмосферы доверия между властью и обществом, конструирование положительного образа политических институтов, правительства, политической элиты и ее лидеров. Делегитимация, как контрпроцесс, происходит: а) спонтанно, под действием многих внутренних и внешних факторов, б) либо осуществляется контрэлитой схожими технологиями, но с противоположной целью — дестабилизацией или разрушением политического режима (вариативные проявления: отказ от сотрудничества с режимом, пассивные, активные формы сопротивления, вооруженный захват власти)127. Что характерно, на фундаментальность аксиологической связи делегитимации политического режима и его же политической элиты обращали внимание еще античные авторы. Цицерон замечал, что с изменением нравов «первенствующих людей» государству может причиняться ущерб, так как те не только «…воспринимают пороки сами, но и распространяют их в государстве»128.
Как научная категория, легитимация трактовалась весьма неоднозначно за всю историю своего существования. Если в первейших государствах Египта и Месопотамии легитимация режима однозначно связывалась с божественным замыслом, то государства Античности дали первые эксперименты по гибридным формам легитимации, когда в полисном устройстве власти апеллировали как к воле богов, так и к санкции народного собрания (правда последняя также обладала сакральной легитимацией: vox populi — vox Dei). Средневековая европейская традиция первоначально была сосредоточена на сакральной природе власти и увязывала легитимацию с политиком, правившего в отличие от тирана на основании божественной воли и действующими законами129. Вместе с тем современные исследователи отмечают, что религиозный фактор изначально лишь обеспечивал лучшую легитимацию одновременно с другими факторами, например, авторитетом правителя130. С наступлением Возрождения возникает интерес политических мыслителей к антропоцентризму, распространяется светская культура и начинается процесс постепенной десакрализации традиционных политических институтов, что в итоге повлияло и на понимание феномена легитимации. Особенно эта переориентация с сакральных приемов легитимации к политико-технологическим становится видна со времени Макиавелли, который, конечно, полностью не отбрасывал традиции и ценности, больше сосредотачиваясь именно на светских приемах удержания и укрепления власти. Поэтому в его «Государе», «Истории Флоренции», «Рассуждениях на первую декаду Тита Ливия» появляются принципы политической аналитики, политического прогноза, советы по защите образа политика, организации политической повестки, лояльных политических сообществ131. Английский политический мыслитель Дж. Локк уже предлагает тезис, по которому правительство может считаться легитимным, если с его действиями согласны управляемые132. Э. Берк же увязывал легитимацию со спецификой режима и опытом, привычками населения. Со временем в политической публицистике возникло два основных подхода к осмыслению легитимации — нормативный и эмпирический.
Нормативное рассмотрение легитимации и ее конечной цели — легитимности (Х. Арендт, Б. Бредфорд, Дж. Джексон) большее внимание обращает на анализ действующих «правил игры» между обществом и властью, с помощью которых первое подчиняется, а вторая управляет. Нормативистов интересуют распространенные стандарты справедливости, добра в разных социумах, лежащие в основе легитимации. Тогда как эмпирический ракурс (М. Вебер, М. Доган) основан на желании ученых сделать исследование легитимации как можно более независимым от собственных воззрений и ценностей (иногда подход Догана причисляют к юридическому направлению). Здесь необходимо заметить, что наибольшую исследовательскую перспективу будет иметь, скорее, сочетание эмпирического и нормативного подходов к легитимации, а не жесткое следование какому-либо из них. Весьма показательно, что представители одного и того же подхода на деле часто критикуют друг друга (пример критики Вебера со стороны Догана это отлично подтверждает). Со временем подходов к легитимации стало больше. О. Ю. Бойцова выделяет социологический подход (Н. Луман, Т. Лукман, П. Бергер), номиналистическое, реалистическое направления (восходят к веберовским, парсоновским работам), философско-культурологический (М. Фуко, А. Кожев и др.) и политологический (С. Липсет, Д. Истон, Ф. Фукуяма и др.) подходы133. Однако, во многом подходы между собой пересекаются.
Одним из первых аспекты легитимности стал детально разбирать немецкий социолог М. Вебер134, предложив традиционную, харизматичную и рационально-правовую модели данного явления. Техники легитимации также выводились из данного теоретического триптиха. Критическая оценка этого подхода появилась еще до институционализации российской политологии. Советский автор В. П. Макаренко, изучая этот вопрос, отметил, что Вебер взял схожую схему из концепта Гегеля единства прав и обязанностей, где тот предположил, что порядок — это универсальная ценность, которая конституирует всю область политического сознания. Макаренко обращает внимание и на другое пересечение идей Вебера и Гегеля, которые указывали, что индивид разумен и свободен лишь тогда, когда он склоняется перед политическим порядком135. Критикуя подобную точку зрения, нужно иметь ввиду, что Вебер, как и Гегель, пытались постичь мир политики, отталкиваясь от объема научных знаний, терминологии и теории своего исторического времени, поэтому признавать их тезисы о легитимации в виде какого-то готового рабочего шаблона — довольно необъективное занятие.
М. Доган относится к веберовской модели легитимации как к анахронизму, аргументируя это постепенным исчезновением традиционной и редкостью харизматичной формы легитимации136. Подход, которого придерживается Доган, выделяет материальную (имеющиеся обстоятельства) и формальную (существующая документация) стороны легитимации137. Исследователь критикует веберовскую классификацию, в частности, за то, что она не показывает связь демократии с другими социально-политическими феноменами138. Но это не совсем корректно: во-первых, в период творческой активности Вебера демократический режим не был повсеместно распространен, во-вторых, некого единого типа демократии не существует до сих пор. Скорее, можно наблюдать уникальные разновидности или мимикрию под существующую политическую конъюнктуру: харизматическая легитимация до сих пор встречается, трансформируясь в формы левого и правого популизма (что видно на примере европейских и латиноамериканских режимов), а к традиционной легитимации все чаще начинают апеллировать политики в постсоветских режимах, затрагивая тему традиционных ценностей, политики памяти, связи поколений и времен, если им не достает поддержки со стороны общества.
Ввиду этих обстоятельств заслуживает интереса другой тезис Догана, согласно которому пронизывающая все общество коррупция выступает признаком делегитимации режима. Есть и маркер делегитимации — меры принуждения со стороны власти становятся сильнее, когда снижается уровень легитимности. Доган отмечает, что веберовские идеальные виды легитимации не отражают реалий современных режимов, которые все больше формируют властные механизмы на принципах так называемой «многоэлементной легитимации» (в варианте Д. Битема — «многомерной»).
Д. Битем критикует Вебера, предпочитая объяснять природу легитимации не верой во власть, а легитимационными техниками самой власти — обоснованием через бытующие у граждан убеждения139. Ученый из Американского университета М. Алагаппа, напротив, поддерживает позицию Вебера, подчеркивая, что согласие и законная сила зависят от распространенных убеждений в населении. Алагаппа предложил свою модель классификации политической легитимации, включающую: а) нормативный (единые ценности и нормы), б) процедурный (учет установленных правил), исполнительный (эффективная практика государственной власти) и в) согласительный (достижение согласия) типы140. По Алагаппе, легитимность, как цель легитимационных техник, — это не некая политическая константа, напротив, это явление все время изменяется, находясь в процессе формирования, деконструкции по причине идеологических, социально-экономических и политических факторов. Поэтому технологии политической легитимации должны все время совершенствоваться, соответствовать современности. С такой оценкой согласны и некоторые российские политологи141. По сути, — это те же идеи А. А. Богданова.
Веберовская схема не всегда подходит для политологического исследования легитимации политических режимов из-за следующих причин: его труд «Хозяйство и общество» так и остался незаконченным; Вебер допускает излишнюю гиперболизацию факторов легитимного насилия и харизматического лидерства, явно пренебрегая иллегитимными политическими акторами142. Справедливости ради стоит заметить, что Вебер в своем сочинении «Политика как призвание и профессия» отвергает существование идеальных типов легитимности и легитимации, а в работе «Основные социологические понятия», останавливаясь на этических нормах, выделяет несколько разновидностей их «легитимной значимости» в обществе143: традиционную (воздействие традиций прошлого, связанных с сохранением послушания); аффективную (эмоциональное воздействие нового, в том числе оправданного традициями); ценностно-рациональную (воздействие абсолютно значимого, обусловленного естественным правом); позитивную (в силу порядка договоренности либо в силу порядка навязывания). Как видно, классификация «легитимной значимости» менее жесткая, поэтому ее можно вполне учесть при анализе легитимации режимов в условиях развития современных политических коммуникаций. И все же схему Вебера можно условно назвать «нормативно-силовой», т. к. в его анализе легитимации преобладают принципы силы, принуждения и нормативной сферы. В настоящее время произошло переосмысление этой схемы.
К. Шмитт писал о двух основных видах легитимации — династической (древнейшей, имеющей сакральную, ценностную основу и связанной с монархиями, всем трансцендентным) и плебисцитарно-демократической (наиболее современной, зависимой не от сакрального, а от одобрения власти со стороны населения)144. Вообще к крупному достижению Шмитта для политической науки можно отнести четкое разграничение им категорий легитимности и легальности. Если первая обладала для него больше политическим зарядом, то вторая — юридическим. Политическое действие, решение может быть законным, но не легитимным145. К тому же немецкий ученый допускал, что легальность может быть составным элементом легитимности. Другим принципиально важным наблюдением Шмитта является его тезис о постепенной трансформации династической легитимации в сторону плебисцитарно-демократической легитимации.
Английский социолог Д. Битем скорректировал трактовку Вебера, указывая, что его типология вводит в заблуждение современных авторов из-за доминирования нормативного принципа и не отражает многомерную природу легитимности146. По его мнению, есть три приема политической легитимации: а) в социуме не должно возникать элементов несогласия с действующим режимом; б) легитимность формируется в строгой привязке к существующим правилам, но не завися от их нормативного воплощения; в) общие правила, нормы и законы обоснованы убеждениями, принимаются населением и властями. Правда, Битем анализирует легитимацию применительно к государству, политической власти и политической системе, четко не разграничивая эти политологические категории. При этом Г. Алмонд и Г. Пауэлл уже давно показали, что государство не равнозначно политической системе147. По их мнению, политическая система может включать как государственные, так и негосударственные элементы. Политический режим же, как совокупность способов функционирования политической системы, по мнению А. П. Цыганкова, характеризует, с одной стороны, динамическую сторону последней, с другой, помогает обеспечивать ее стабилизацию148. Цыганков раскрывает и другие отличия политического режима от политической системы, локализуя его в виде органов власти, связанных с определенным временным периодом их деятельности, а также правящим классом, оставляя за ним сферу способов, методов осуществления власти. Большее значение имеет и неформальная сторона режима. По сути, идеи Битема можно отнести к номиналистическому подходу, исходящего из принципа добровольного подчинения граждан власти. В отличие от него, реалистический подход затрагивает проблему объективной значимости, полезности действий политической власти. И все же оба подхода восходят к работам М. Вебера и Т. Парсонса149.
Французский политолог Ж. Шабо дал довольно лаконичную и емкую дефиницию легитимности. Под ней он понимал те качества субъекта управления, которые отвечают согласию и на какие готов объект управления. Шабо, как и Вебер, старался дать классификацию легитимности, выделив онтологическую, технократическую, идеологическую и демократическую виды ее легитимации150. К онтологической он относил соответствие некоему объективному (в понимании масс) и предопределенному свыше порядку действующей политической власти, где космос противостоял хаосу, сама власть анархии. Идеологическую легитимацию Шабо анализировал на примере политических режимов с доминированием ценностной сферы на политическом уровне (Советский Союз, исламские страны). Технократический вид легитимации французский политолог связывал с признаками компетентности и профессионализма субъектов управления, тогда как демократическую легитимность он исследовал на примере европейских режимов и выводил из традиции коллегиальных решений и учета мнения большинства.
Американский исследователь Д. Хелд в некотором плане развил нормативный принцип Вебера в своей модели. Он перечисляет несколько типов легитимации: а) нормативное согласие идеального характера, б) нормативный вид политико-правового согласия, в) согласие инструментального вида (по причине того, что режим служит общему благу), г) прагматическая подчиненность (личная выгода), д) согласие по причине апатии, е) традиционная легитимация, ж) согласие при угрозе силы151. Подлинными типами легитимации Хелд считает первые два, предположив, что полностью поддерживаемая власть легче воспринимается как отвечающая общественным нормам. Хелд замечает важную тенденцию, — технологические приемы новых видов коммуникаций открывают перед политической легитимностью новые возможности.
Примечательно, что другой американский политолог С. Липсет также переосмыслил нормативно-силовую модель Вебера, изучая в механизме политической легитимации готовность элиты формировать и поддерживать убежденность населения в том, что функционирующие политические институты — наиболее эффективные, а значит оптимальные (аналогичное мнение разделял и Х. Линц) для социума152. Подобная трактовка представляется наиболее адекватной. Неслучайно К. фон Гальденванг дает похожее определение, утверждая, что политический режим обретает легитимность, если причины, предлагаемые для его оправдания, одобряются гражданами153.
Липсету присуща определенная гиперболизация экономических условий в анализе устойчивости демократического режима. И все же он допускает значение фактора культуры, постепенно уйдя от тезиса жесткого разграничения легитимации и эффективности политического режима. В более конкретном значении функциональный подход к политическому режиму и многомерный принцип в анализе его легитимации логично связать с феноменом политической коммуникации, означающей механизм конструирования, отправки, получения и обработки тех сообщений, которые оказывают сильное влияние на политику154. Коммуникационное измерение политического режима как раз позволяет наиболее глубоко проанализировать динамическую, неформальную сторону его легитимации. Мыслям Липсета вполне соответствует видение немецкого исследователя Д. Штернбергера155, который считает, что легитимность означает базис правительства, когда, с одной стороны, власть осознает свою миссию как субъекта управления, а, с другой стороны, население согласно быть объектом управления.
Определенный интерес с точки зрения коммуникационного ракурса анализа легитимации режима представляет концепт, предложенный американским политологом Д. Истоном, который, оттолкнувшись от работ Вебера, решил рассмотреть это явление через призму поддержки политической системы. Истон описывает диффузную поддержку — фундаментальную, долго изменяющуюся оценку режима в форме уровня доверия, и специфическую поддержку — общую гражданскую удовлетворенность от результатов функционирования властей. Такое видение вполне соотносится с моделью легитимации Липсета. В понимании Истона поддержка вбирает доверие и согласие, а не только легитимность. В отличие от Вебера, он предлагает несколько иные технологии достижения легитимности: идеологическую (принятие норм и ценностной основы политического режима), структурную (позитивное отношение граждан к распределению режимом существующих социальных ролей) и персональную (положительная оценка населением конкретных политиков и государственных деятелей)156. Существует и другая оценка политической поддержки. Н. П. Медведев, анализируя модель «элитной политической поддержки» В.-Д. Эбервайна, выделяет политическую, военную, гражданскую и бизнес-элиту, на которую может опереться политический режим для сохранения системного равновесия157.
Концепт Истона не только учитывает коммуникационный и политико-культурный аспекты легитимации, а также содержит хорошо разработанный категориальный аппарат. Его хорошо дополняет тезис А. И. Соловьева о трех видах источников легитимности (широкие группы населения, правительство (государство) и внешние политические центры)158. Дж. Везерфорд также развивает эту более раннюю модель Истона, говоря о легитимации на макроуровне и микроуровне159. Макроуровень политической легитимации по Везерфорду означает оценку власти в категориях справедливости, тогда как микроуровень проявляется в гражданской активности населения по поводу учета его желаний и интересов со стороны власти. Идеи Липсета, Истона и Фукуямы, по мнению О. Ю. Бойцовой160, можно отнести к политологическому подходу исследования легитимации.
Итальянский политолог Н. Боббио рассматривает категорию легитимности в широком и узком ракурсах. В широком смысле Боббио под ней понимает рациональность и справедливость позиций и решений (в свое время Сенека описал тип идеального, легитимного политика: «Справедливым стремлениям потворствует, несправедливые останавливает без суровости. Такого вся страна любит, оберегает, чтит»161). В узком смысле политолог легитимностью считает особенный несиловой компонент государства, зависимый от согласия части граждан в отношении законности его деятельности, а также от уровня консенсуса162. Вера же в правомерность государственной деятельности, по Боббио, достигается через оценку конкретных результатов работы частей государства, что сближает его подход с моделью Липсета. Легитимацию Боббио, во-первых, связывает с лояльным по отношению к власти политическим сообществом; во-вторых, с существующим режимом, который регулирует правила политической борьбы и деятельность политических институтов, поддерживающих функционирование власти; в-третьих, с постоянной работой политических институтов при возможности политиков допускать ошибки; в-четвертых, с гегемонией власти.
По Г. Ферреро, легитимность в любом случае предполагает порядок подчиняющихся и подчиняющих, но при условии коллективной убежденности в такой необходимости. Ферреро отмечал, что сущность легитимации — в положении, когда существует согласие между управляемыми и управленцами. Ферреро предупреждает, что при изменении политической обстановки, условий ранее общепризнанные принципы легитимности в стране должны снова обосновываться163, что сближает его с тезисом М. Алагаппы об изменчивой легитимности и необходимости дополнительных видов легитимации. Эта модель как раз хорошо соотносится с концептуальным анализом В. Г. Ледяева, раскрывшего механизм политической власти в технологиях воздействия субъекта управления на сознание и поведение объекта управления в сфере политики164. Тем самым, очевидно, что легитимацию режима логично понимать как процесс, включающий его инициатора — субъекта власти, объекты власти, на которые направлены действия субъектов, ресурсы и содержание самого процесса165.
М. Пирас ратует за развитие той концепции политики, которая бы совместила анализ «горизонтального» и «вертикального» измерения власти. Пирас, размышляя над моделью Вебера, замечает, что власть не добьется стабильности, пока не обретет прочной базы своей легитимности. По Пирасу легитимация политической власти должна связываться с социальной координацией. М. Фуко же был нацелен на изучение таких основ легитимации как идеи господства добра, добродетельного государственного дела, допускающего внедрение жесткого дисциплинарного дискурса166. Большую роль в этом французский ученый оставляет за интеллектуальной элитой. Такой подход очень схож с концептом культурной гегемонии А. Грамши, который также писал о ведущем значении интеллигенции в укреплении власти167. Фуко описывал появление новых репрессивных институтов, которые порождали дополнительные технологии легитимации режима, одновременно обеспечивая информационную безопасность его иллегитимных приемов168.
П. Бурдье связывал легитимность с политическим капиталом, базирующимся на признании власти и вере в нее населения169. Причем, Р. Даль также описывал легитимность как веру в объективность решения или процедуры принятия решения170. Анализ Даля и Бурдье хорошо дополняет модели Липсета, Ледяева, Блумера, Хабермаса, сосредотачиваясь на результатах воздействия субъекта управления на объект. Наибольший исследовательский интерес для Бурдье представляли легитимационные техники в политических коммуникациях между обществом и властью, раскрываемые им как символические действия, ориентированные в свою очередь на достижение легитимности посредством языка ценностей и правил. Символическое измерение легитимации хорошо иллюстрирует интеракционизм Г. Блумера, особенно ставший актуальным в последнее время из-за применимости его тезисов интерпретации значений в анализе интернет-коммуникаций. Идея «символического обмена» в коммуникационном воплощении также получила свое развитие у Ж. Бодрийяра (в его критике линейности информационных потоков) и тезисе С. И. Деменока о «символической петле»171. Н. Луман легитимное считал производным от ситуации отсутствия критики политических решений со стороны власти172. То есть, он писал о том же феномене согласия власти и общества. Х. Кельзен же в нормативном подходе к легитимации делает гиперболизацию не на общих правилах (ведь правила могут быть не только в юридическом, но и в моральном, ценностном смысле), а на законности как таковой, добавляя и такой параметр как эффективность власти173.
Ю. Хабермас в своих работах своеобразно интегрирует нормативный и эмпирический подход к политической легитимации174. Скорее, это более верная научная стратегия по причине своей гибкости и способности к адаптации к новому знанию. Хабермас искал те основания легитимации, которые включали бы тесное переплетение морального и законного, подкрепляли бы авторитетом и общепринятой моралью законный порядок. Кризис смыслов и ценностей, по его мысли, приводит к кризисам мотивации граждан, а значит, к кризисам легитимности власти175. Подобные идеи весьма схожи с тезисом С. Липсета о легитимационных кризисах и концептуальным анализом власти В. Г. Ледяева, также придающего важное значение воздействию субъекта на объект управления посредством авторитета, убеждения, побуждения, манипуляции. Мысли концептуального анализа Ледяева и Хабермаса продолжают современные исследования, разделяющие технологии легитимации (как транслируют месседж) и контент легитимации (какой транслируют месседж)176. С точки зрения Хабермаса, нормы становятся легитимны, если они будут соответствовать параметрам рациональной коммуникации, иными словами, легитимация власти формируется в самом коммуникационном процессе. С тем, что коммуникативный процесс в социуме становится важным фактором современной политической легитимации, согласны и авторы более современных работ177.
Размышления Ю. Хабермаса и С. Липсета о кризисах политической легитимности заставляют вспомнить о модели циклов легитимности и легитимации К. фон Гальденванга. Во-первых, граждане реагируют на «цикл требования легитимности» со стороны политического режима. Во-вторых, политический режим также реагирует на «цикл требования легитимации» со стороны граждан. Циклы легитимности и легитимации сменяют друг друга, по Гальденвангу, по причине деятельности двух акторов: политиков, принимающих решения, правительства и граждан, политических сообществ178. Гальденванг уверен, что вне зависимости от уровня демократичности и авторитарности любой политический режим устанавливает определенные правила, служащие мерилом его эффективности в обществе.
Очевидно, что идеи Гальденванга во многом схожи с мыслями Г. Ферреро, С. Липсета, М. Алагаппы, Ю. Хабермаса о нестабильности легитимности и необходимости разнообразных технологий легитимации. Но в основе всех подобных тезисов лежат более древние эсхатологические идеи и идеи о цикличности мира. И, если политическая легитимация с архаичных времен связана с порядком, космосом, то политическая делегитимация с его противоположностью — хаосом. При этом, как отмечает Е. А. Мелетинский, мифологемы «потерянного рая», «золотого века» могут допускать не только путь от хаоса к космосу, но и движение от космоса к хаосу179. Античные авторы постоянно обращали на это внимание, по сути, первыми подойдя к фундаментальной проблеме цикличности мира180, смены политических режимов (в виде монархии, аристократии и демократии)181. Известна модель космического цикла Гераклита, где кроме миростроя (диакосмесиса) было превращение в огонь (экпиросис)182. При этом Цицерон считал государство «достоянием народа» — не просто неким соединением людей, а гражданской общиной, связанной между собой согласием и общностью интересов183. Тит Ливий так описывает это согласие: «…государством правили верность и клятва, а не покорность законам и страх перед карой»184. Нарушение этого согласия и могло вызвать делегитимацию режима, спровоцировав новый цикл его смены.
Самый важный тезис Гальденванга — это зависимость эффективности легитимности и легитимации политического режима от приемов управления поведением населения. И дело не в способности режима скрывать манипулятивный характер политического управления (этого недостаточно), а в умении субъекта власти (элиты) соотносить интересы населения страны со своими интересами, а также удовлетворять эти интересы185 (все тот же аспект социальных аттракторов).
К. фон Гальденванг кроме трактовки самого термина делает попытку классификации, — но не легитимности, а ее процессной, производной составляющей — политической легитимации186. В отличие от большинства политологов Гальденванг решительно уходит от рассмотрения политической легитимации как чего-то второстепенного по отношению к легитимности. В его понимании нормативная легитимация означает основные идеи и принципы, процедурная легитимация вбирает институционализированное принятие решений и их реализацию, ролевая легитимация включает доверие к основным институтам, харизматическая легитимация зиждется на доверии к качествам политических лидеров, легитимация на основе значений подразумевает предпочтения конкретных порядков (безопасности и т. п.), контентная легитимация связана с экономикой, предполагает материальную политику и уровень производительности. Легитимационные кризисы связаны с процессами делегитимации режима, которые происходят, в том числе, и от социальной деградации, всплеска инспирирующего социальный хаос деструктивного индивидуализма — «нового варварства»187 в понимании А. А. Кара-Мурзы. Защитной цивилизационной основе политического режима угрожает не только «варварство снизу» (радикальные движения, группы, партии), но и «варварство сверху»188 (делегитимация самовольной, не считающейся с запросами и проблемами общества, личности политической элиты).
Раскрывая суть социального конструирования реальности, П. Бергер и Т. Лукман, как и К. фон Гальденванг, сразу переходят от легитимности к механизму ее обеспечения — политической легитимации. Авторы трактуют легитимацию как смысловую объективацию «второго порядка». К функции легитимации ученые относят интеграцию смыслов институциональной стороны реальности189. Они конкретизируют, что легитимация нацелена на то, чтобы сделать объективации «первого порядка» понятными и доступными для восприятия обществом. Иными словами, легитимация через различные технологии дает гражданам ключ к пониманию необходимости и важности власти, сложных отношений между обществом и властью. Есть целевые аудитории, которым, конечно, нужно более детальное объяснение сложившейся политической архитектуры через ту же аналитику, но в основном таких не много, и делается это простым и несложным языком через визуализацию. Возможно, эволюцию исторических форм политической легитимности и предпочтение некоторых сохранившихся их рудиментарных элементов режимами для ряда современных целевых аудиторий способна разъяснить классификация легитимации. Бергер и Лукман выделяют четыре уровня легитимации: а) дотеоретический (основа первичного знания); б) типизация обыденного сознания (легенды, народная мудрость, сказки); в) теоретический (дифференцированное знание); г) символический (символические универсумы как целые области целостных символических значений, социально объективированных и субъективно понимаемых как реальных). То есть порядок и его институты в итоге легитимируются в целостную смысловую систему, мир через определенные символические значения.
Отечественные и зарубежные политологи имеют много общего в подходах к категории легитимации. К примеру, российские исследователи (В. В. Ачкасов, С. А. Ланцов, С. М. Елисеев190) видят сущность легитимации в поддержке власти со стороны широких слоев граждан либо связывают легитимность с технологиями формирования авторитета основных политических институтов (К. Ф. Завершинский191). А. И. Соловьев, как и К. Шмитт, четко отделяет легальность, легализацию от легитимности, легитимации. Соловьев также останавливается на эффекте метаморфозы политической легитимности, определяя его в качестве естественного процесса, когда в ходе общественной эволюции сама политика приспосабливалась под более современные легитимационные технологии упрочнения власти, учитывающие процесс ее децентрализации и деконцентрации, возникновение неиерархических, оперативных каналов политической коммуникации и так называемых «технотелемедиумов»192 — особых электронных площадок распространения смыслов и политического контента. М. В. Ильин и А. Ю. Мельвиль в своей статье отмечают, что гораздо большее значение для легитимности имеет вера в то, что политический актор имеет право управлять193. Н. А. Баранов также пишет, что власть становится легитимной в случае, когда управляемые сами соглашаются, чтобы ими управляли194.
Но у отечественных исследователей политической легитимации всегда имелась серьезная специфика. И ее требуется пояснить. После средневековья западноевропейская традиция осмысления легитимности и легитимации стала производной от более конкретного разделения светской и духовной власти. В России подобного рода жесткого размежевания во всех социальных группах не возникло (раньше всего — в основном у элиты). Начиная с отечественной дополитологической (политико-философской) публицистики Древней Руси сохранялось не нормативное, а сакральное обоснование власти. Возникает интересный вопрос — почему данная традиция укоренилась не на Западе, а на Руси, а позже в России? Вероятно, это произошло по политико-географическим причинам. Во-первых, древнерусскому, а затем российскому населению пришлось постоянно осваивать новые территории от Балтики, Днепра до Тихого океана и Северной Калифорнии с целью поиска пригодных для земледельческой работы пространств, при этом климатические условия Европы были более благоприятные, позволяя избежать ее населению фактора рискованного земледелия и снимать лучшие урожаи. Во-вторых, для контроля и защиты широко расселившегося населения потребовался довольно мощный институт государства, который смог бы сформировать администрацию на местах, армию, перераспределять ресурсы и мобилизировать людей. Изначально подобное государство базировалось на принципах сакральности195, общинности (коллективности) и справедливости, а следовательно, ему было мало лишь легального (законного, нормативного) компонента политической легитимации. Естественно, кроме политико-географических факторов на специфику технологий отечественной легитимации повлияли и ценностно-символические причины (наследие Византийской империи, православная этика и традиции). Скорее, все эти факторы и причины действовали в совокупности.
Весьма глубокие соображения о недостаточности нормативной (законодательной) стороны для прочности власти в «Слове о Законе и Благодати» делает первый древнерусский митрополит Иларион Русин (Киевский), четко отделяя Благодать и Закон196. Митрополит отводил центральное значение именно категории Благодати, соотнося ее с истиной, сакральным, свободным и грядущим, тогда как категория Закона у Илариона обладает второстепенным характером и поэтому связывается с тенью Благодати, всем земным и рабским.
Закрепление сакральной традиции осмысления политической легитимации на Руси видно и на примере «Поучения» Владимира Мономаха, который советовал будущим правителям чтить и обеспечивать священников, чтобы через них получить божественную «милость». Сразу обращает внимание на себя то, что Мономах не отделял сакральное понимание власти от ее практической, созидательной миссии197. Бережное отношение к данной традиции видно и в эпоху преемницы Древнерусского государства — средневековой России. Так, Иван Грозный в своем первом послании Андрею Курбскому пишет о божественном обосновании царской власти, сравнивая противников царя с наихудшими грешниками. Но, как раньше и Мономах, первый русский царь не просто отмечает божественность ореола своей власти, а прочно соотносит ее с категориями практики, созидания и справедливости198. Хотя он и не допускал полного совмещения духовной и светской власти.
Более поздняя отечественная политическая публицистика являет собой показательный пример по сохранению традиции сакрального обоснования легитимации власти. Сподвижник Петра I Феофан Прокопович видел опору власти в справедливом и сакральном, христианском порядке (богоданном)199. Ф. И. Тютчев в своей работе «Римский вопрос» итогом «святотатственного поединка» императоров и римских пап на Западе видел удар по принципу сакральной власти200. Н. Я. Данилевский, развивая тезис о «политической аскезе» — подчинении личной воли общественному благу, изучал культурно-исторические народные основания власти201. И позже П. И. Новгородцев, сравнивая католические, протестантские и православные основания власти в разных странах, выделял коллективистскую традицию ответственности всех за каждого и каждого за всех в православной дореволюционной России202.
И. С. Аксаков писал о родстве российской власти с понятиями божественного, правды и совести203. Любопытно, что дореволюционные политические публицисты считали причиной делегитимации и крушения монархического режима процесс десакрализации института императора. Что хорошо показал В. В. Шульгин на примере отношения общества к «распутинщине»204. С другой стороны, Л. А. Тихомиров в своих работах писал о рисках для верховной императорской власти со стороны административного (служебного) аппарата в ходе непродуманной модернизации системы государственного управления205. Процесс десакрализации института императора приводит к тому, что в начале XX в. ореол сакрального обоснования власти переносится населением на само государство. Об этом, как о свершившемся факте, пишет И. А. Ильин, подмечая за российским государством мощную власть постольку, поскольку оно имеет некую высшую, божественную и единую цель206. Но, если же, предупреждает Ильин, служения общей цели нет, то государство ослабевает.
Отношение к категории легитимации у российских и западных политических мыслителей отличается и по причине их специфического подхода к самому феномену политики. Например, если К. Шмитт объясняет политическое на основе выявления антагонистического маркера «друг-враг»207, то тот же И. А. Ильин описывает политическое только с точки зрения единого, коллективного, имеющего общие интересы208. Таким образом, российские политические публицисты давно обратили внимание, что отечественные приемы легитимации в качестве своего источника изначально имели коллективизм, общность интересов и традиций различных категорий населения, а не просто нечто сакральное, высшее, божественное. Возможно, по этой причине Ильин под государством понимал духовную общину. Сакральное плюс коллективное давало формулу русской политической легитимации. Легитимность, делегитимация, легитимация и иные связанные с ними, по сути, термины всегда подчеркивали сакральную мессианскую функцию действующего режима. Такую традицию не смогли предать забвению даже большевики. Н. А. Бердяев в своей работе «Истоки и смысл русского коммунизма» сравнивал ценностные источники дореволюционной монархии с новым коммунистическим государством и находил в них много схожего со священным царством209.
Не только Шмитт, Битем, Алмонд, Пауэлл сходятся в важности неформальной стороны власти, отходя от нормативно-силовой традиции понимания легитимации Вебера. В своей книге «Понятие власти» русский политический мыслитель А. Кожев предложил разграничить «авторитарный» режим, основывающийся на авторитете власти, и «мажоритарный» режим, опирающийся лишь на силу210. В отличие от Вебера, сосредоточившегося в своем анализе видов легитимации на принципах силы и принуждения, Кожев четко разграничивает термины «сила» и «власть»211, считая, что власть, не базирующаяся на силе, может использовать лишь авторитет, в свою очередь, формирующий силу, тогда как сила не может породить авторитет. Тезис Кожева весьма важен для понимания современных коммуникационных приемов легитимации политического режима. В случае, если анализировать политическую легитимацию через многомерный принцип, то придется принять не только силовую составляющую и принуждение, но и формирование авторитета самой власти. Авторитет власти как раз и связан с такими понятиями как убеждение, поддержка, доверие и согласие.
Советский ученый Э. Н. Ожиганов связывал легитимность со способностью политического режима формировать свою социальную базу, а также положительное отношение к действиям властей в массовом сознании212 (т. е. к самим приемам легитимации). Такой проницательный взгляд во многом пересекается с моделью легитимации Д. Истона. В. Н. Амелин указывал на важность легитимационных приемов оправдания установленной системы политических отношений, общих правил игры213, что, несомненно, сближает его трактовку с моделью С. Липсета. Л. Г. Фишман же замечает214, что в России, в отличие от Запада, гражданское общество как источник легитимации начало складываться позже, поэтому легитимационные практики были связаны с более традиционными приемами оправдания политического режима. Сущность легитимации видится некоторыми российскими политологами215 в нескончаемом процессе примирения государства и гражданского общества, неустанном совершенствовании умения сосуществовать в условиях одновременно открытых и закрытых общностей, обращении конфликтов во благо, обретении политической устойчивости системы.
Отчасти осознание коллективистского начала для объяснения механизма политической легитимации сохранилось и у современных российских политологов. Быть может, по этой причине, по оценке Г. А. Белова, в отечественном понимании легитимность соотносится с общинно-демократическим, народоправным и даже единоправным началом216. К. С. Гаджиев пишет о схожем термине легитимизации, как о признании большинством общества права на господство существующего политического режима217. А. А. Керимов справедливо замечает, что основной функцией легитимности является сохранение согласия в социуме в отношении действующего политического режима, его правомерности, участия, активности граждан в его поддержке, а также формировании предпосылок для поддержания и повышения авторитета власти218. Иными словами, в качестве основы механизма легитимности понимаются технологии легитимации. При этом Керимов пишет, что повиновение населения власти может достигаться лишь при конструировании системы их взаимоотношения, без которой не будет ни согласия, ни поддержки. Исследователь проницательно предупреждает, что легитимность, конечно, можно обеспечить на какое-то время силой в условиях катастрофы, войны, чрезвычайных обстоятельств, однако постоянное обращение к силовым методам чревато падением политического режима.
А.-Н.З. Дибиров также усматривает основу механизма легитимности в несиловых легитимационных приемах, отводя центральное значение процессу соотнесения глубоких народных верований и представлений о некоем идеальном порядке, власти с действующим политическим порядком и с категориями безопасности и благосостояния219. К. Ф. Завершинский в целом соглашается с тем, что политическая легитимация является символическим механизмом, репрезентирующим аспекты современных политических коммуникаций. Он предлагает ее изучать в нескольких сферах: предметной (в связи с политическим коммуникациями), социальной (понять, как сами политические акторы понимают легитимность своей позиции) и темпоральной (учет политики памяти, символической связи прошлого режима с его будущим)220.
Преемственность в традиции сакрального осмысления политической легитимации от Илариона и Ивана IV до Тютчева и Ильина совершенно очевидно прослеживается в политологических работах современной исследовательницы Н. Г. Щербининой, которая на примерах глубокого разбора отечественных политических мифов (особенно змееборческого мономифа, связи образа Георгия Победоносца с понятием справедливости, победой «добра» над «злом», порядка над хаосом) и сакральных традиций довольно основательно изучила героическую символическую репрезентацию как привычный способ легитимации российской политической власти221. Особую научную ценность приобретает тот тезис Щербининой, согласно которому героико-символическая репрезентация власти обретает новую актуальность и значение для легитимации режима именно в переломные периоды существования России.
Резюмируя сказанное по параграфу, важно отметить несколько выводов. Во-первых, данная работа не случайно опирается на функциональный подход к политическому режиму. В авторской трактовке политический режим — это порядок функционирования политической системы, предполагающий разнообразные способы воздействия субъекта управления на сознание и поведение объекта управления. Можно заключить, что такое видение основано как на разработках зарубежных, так и российских политологов (к примеру, на тезисах одного из основателя Чикагской школы политического бихевиорализма Г. Лассуэлла, по которому у каждой фазы политико-управленческой деятельности есть функциональное значение, тезисах Г. Блумера, Г. Беккера, Д. Истона, модели социального действия Т. Парсонса, а также на идеях профессора факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Н. А. Баранова, оценках А. И. Соловьева и концептуальном анализе власти В. Г. Ледяева). Функциональный подход к политическому режиму отражает современную картину развития политических систем, не исключая, а учитывая, как инструментальные, так и институциональные трактовки данного феномена. Опираясь на исследования Г. Беккера и профессора М. Н. Грачева, функциональный подход к политическому режиму и многомерный принцип в анализе его сетевой легитимации логично связать с феноменом политической коммуникации, означающей механизм конструирования, отправки, получения и обработки тех сообщений, которые оказывают сильное влияние на политику. Качественное функционирование политического режима взаимосвязано с постоянным внедрением разнообразных технологий легитимации, которое должно соответствовать разнообразию управленческой системы. В случае, если это правило нарушается, то режим становится дисфункционален и возникают риски делегитимации.
Во-вторых, теоретическая модель М. Вебера, к сожалению, не всегда подходит для политологического исследования легитимации современных политических режимов по объективным причинам: игнорирования возрастающей роли интернет-пространства в политике и излишней гиперболизации факторов легитимного насилия и харизматического лидерства. Хотя актуализация сетевого феномена в политологических работах — сравнительно недавний тренд, на самом деле сеть — чрезвычайно древнее социально-политическое изобретение, означающее гетерархичность, а не иерархичность и ведущее свое начало от практики синойкизма — объединения нескольких общин в одну крупную общину при пересечении их управленческих систем. Легитимация политического режима — это процесс достижения, сохранения легитимности — согласия общества и власти по вопросам справедливости, оптимальности коммуникаций и технологий действующих политических институтов.
В-третьих, следует заметить, что в политологическом осмыслении категории легитимации между отечественными и зарубежными авторами есть как определенные точки пересечения, так и принципиальные различия. В первую очередь, большинство политологов причисляют к признакам политической легитимации такие понятия как доверие, согласие и авторитет. У европейских политологов часто встречается модель, где в осмыслении легитимации включена следующая дихотомия: легитимность возможна, если, во-первых, субъект управления осознает и качественно исполняет свою миссию; во-вторых, объект управления соглашается с данным положением (Д. Штернбергер, Ж. Шабо).
Сосредоточенность американских (Д. Истон, Д. Хелд, М. Алагаппа) и европейских (Д. Битем, Н. Боббио) политологов на исследовании согласия сближает их с моделями российских политологов (К. С. Гаджиев, А. А. Керимов). Сходство между отечественными и зарубежными работами очевидно в том, что политическая легитимация, ее технологии в основном рассматриваются как второстепенные по отношению к базовому феномену легитимности.
Однако все же можно говорить о принципиальной специфике — ряд западных политологов изучают такой признак легитимации как согласие в тесной привязке именно к эффективности власти (С. Липсет, Х. Кельзен, Х. Линц). Отечественные же политологи (Г. А. Белов, А.-Н. З. Дибиров, Н. Г. Щербинина), исследующие согласие как ключевой элемент легитимации, сохранили определенную преемственность в отсылке к дореволюционной политической публицистике: во-первых, выделявшей сакральную природу власти (традиция от Илариона Русина, Мономаха, Феофана Прокоповича, дошедшая до современности через Ф. И. Тютчева, И. С. Аксакова, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина); во-вторых, усматривавшей основу власти в общих интересах и коллективистских ценностях и традициях населения (традиция от Н. Я. Данилевского, П. И. Новгородцева к А. А. Зиновьеву). Зарубежные политологи больше рассматривают не сакральную, а коммуникационную природу политической легитимации (М. Фуко, П. Бурдье, Д. Хелд, Ю. Хабермас). Это вовсе не означает, что зарубежных, особенно западных политологов совсем не волнуют те же символические проблемы политической легитимации (достаточно упомянуть имена глубоко изучивших этот аспект Г. Блумера, Г. Беккера, П. Бергера и Т. Лукмана), однако таковых значительно меньше, чем исследователей, посвятивших свои работы таким аспектам власти как политическая коммуникация, политическая технология, эффективность, менеджмент и маркетинг.
Представляется логичным, что оптимальным методологическим приемом в исследовании политической легитимации будет учет обеих сторон ее природы — сакрально-ценностной и коммуникационно-технологической. Между тем сочетание аксиологического и коммуникационного измерений не препятствует рассмотрению политического режима как порядка, когда субъект управления через разнообразные технологии воздействует на поведение и сознание объекта управления с целью его подчинения своим интересам. Наоборот, символика, ценности, политическая мифология используется в хорошо описанных В. Г. Ледяевым технологиях воздействия субъекта управления на объект управления — убеждения, манипуляции, принуждения, побуждения, применения авторитета. Данные технологии в условиях открытого Г. Блумером процесса интерпретации не просто применяются субъектом управления, а признаются объектом управления как неизбежная повседневная реальность. И если все технологии воздействия субъекта управления на поведение и сознание объекта управления не отвергаются последним и обретают процедурный характер, то и возникает та самая легитимность политического режима в понимании С. Липсета — субъект управления формирует и поддерживает убежденность объекта управления в справедливости, эффективности коммуникаций и технологий действующих политических институтов. Такая убежденность создает базу для поддержки гражданами власти. Если же субъект управления по каким-то причинам не может через технологии легитимации поддерживать убежденность объекта управления в справедливости и эффективности функционирующих политических институтов, то возникает описанный Хабермасом и Липсетом кризис легитимности, а также циклы легитимации, предложенные К. фон Гальденвангом. Модель Гальденванга логично скорректировать тем, что легитимность политического режима предполагает циклы легитимации и делегитимации, зависящие от умения и способности субъекта управления поддерживать убежденность в объекте управления о справедливости и эффективности функционирующих институтов.
Разработки С. Липсета, В. Г. Ледяева, Г. Блумера и К. фон Гальденванга дают важный ключ к пониманию взаимосвязи политического режима и его технологий нисходящей легитимации222 на основе отношений субъекта и объекта управления, эмоциональной и рациональной, внутриполитической и внешнеполитической стороны данного процесса.
Фрактальность политической власти, зависимость властных субъектов и объектов от вызовов меняющихся социальных аттракторов заставляет говорить о сочетании перечисленных функциональных уровней легитимации с эффектом циклов легитимации и делегитимации, основанных на традициях согласия и несогласия223, разной оценке населением функциональности и дисфункциональности власти. К примеру, если во Франции и США протестная культура может рассматриваться как матрица сохранения обратного контура связи общества и власти, условием режимной легитимации, то в постсоветских странах (Россия, Казахстан и др.) картина совершенно иная. Вот почему необходимым условием работоспособности такой аналитической схемы является поправка на политико-культурные, цивилизационные особенности политического режима.
Можно предложить собственную модель легитимации политического режима, выделив следующие ее уровни с учетом функционального подхода: технологический, персональный, институциональный и ценностный. Данные уровни — от наиболее утилитарного, профанного «технологического» до самого высшего, сакрального «ценностного» — наиболее оптимально работают в сетевой совокупности и двух измерениях — внутриполитическом и внешнеполитическом, совмещаясь между собой и усиливая друг друга по принципу фрактальности. В «чистом виде» не один уровень (или измерение) легитимации не способен обеспечить устойчивость и работоспособность политического режима. Наиболее действенный вариант заключается в адекватном сочетании этих уровней элитой режима.
Технологическая легитимация — это базовый функциональный уровень формирования согласия между объектом управления (гражданами, их группами) и субъектом управления (элитами, их партиями и правительством) через цифровые технологии. На этом прикладном уровне посредством сетевых технологий и коммуникаций распространяется нужный власти политический месседж и происходит управление политической повесткой, результатом чего является минимальный порог доверия к деятельности политического режима. Ж.-Л. Шабо писал о схожем типе легитимации — технократическом224. Связь медиадискурса в политических коммуникациях с феноменом легитимации политических режимов интересует и других авторов225. Недостаточность технологического уровня сужает возможности субъекта власти влиять на объекты власти226. С другой стороны, не стоит идеализировать этот уровень и считать неким объективным. Абсолютно все типы современных политических режимов практикуют манипулятивные технологии в целях собственной легитимации путем контролирования среды формирования общественного мнения — коммуникативного пространства227. Технологический уровень легитимации на практике проявляется в интернет-коммуникациях и обеспечивается использованием субъектами управления социальных сетей, облачных ресурсов, микроблогов, мобильных приложений, искусственного интеллекта, Интернета вещей, дополненной реальности и других цифровых технологий и площадок. Технологическую легитимацию невозможно вообразить без инновационной экономики, цифрового, технологического суверенитета страны. Технологический уровень легитимации достигается через систему адаптированных под гаджеты, компьютеры, цифровые ресурсы алгоритмов (API).
Персональная легитимация — это имиджевый функциональный уровень установления согласия между объектом и субъектом управления через яркие и понятные образы представителей власти. Доверие к политическому режиму является ключевым результатом целеполагания этой легитимации через активность политических лидеров. Легитимация персонального плана с помощью простых и запоминающихся образов связывает между собой все остальные уровни легитимации — технологический, институциональный и ценностный. М. Вебер близко подошел к осмыслению этого персонального уровня одним из первых, писав о харизматической легитимности и легитимации. Данная разновидность сохранилась в модели К. фон Гальденванга. Персональный тип легитимации выделяют Д. Истон и А. В. Скиперских228. В современной политической практике наибольшую перспективу для реализации персональной легитимации представляет дополненная реальность и так называемая политическая голограмма, приобретающая благодаря спутниковой связи, социальным сетям и потенциалам голографического чата и телевидения сетевой характер.
Институциональная легитимация — это функциональный уровень организации согласия между гражданами и политическим режимом через создание образа эффективных и работоспособных институтов — правительства, парламента и партий. Авторитетность принимаемых решений политическим режимом — кардинальный компонент институциональной легитимации. Преобладание работы правительства и его органов государственной власти в ущерб партийной, парламентской работы создает риски обвинений в бюрократизме, волоките и авторитаризме. Ставка только на работу проправительственных партий формирует почву для критики власти за непрофессионализм и популизм. Следовательно, в условиях цифровизации политики важно достижение баланса участия правительства и партий в разработке и реализации политических решений. И достижение данного баланса партий и правительства политическому режиму необходимо отражать в сетевых коммуникациях. Такой тип легитимности М. Вебером назывался рационально-правовым, К. Шмиттом плебисцитарно-демократическим229, Д. Истоном — структурным, Ж.-Л. Шабо — демократическим. О схожем явлении писал Н. Боббио и К. фон Гальденванг. С. Липсет связывал этот уровень с эффективностью230. В случае институциональной легитимации происходит смена предпочтений правящих элит от использования e-government к внедрению в подконтрольные им политические коммуникации и цифровые площадки искусственного интеллекта.
Ценностная легитимация — это символический функциональный уровень закрепления согласия между гражданами и политическим режимом, обеспечивающий ценностное обоснование любых действий власти. Основное целеполагание ценностной разновидности легитимации — воспроизводство сакральной, мессианской роли политического режима. Данный высший тип легитимации особенно помогает власти во время институциональных кризисов, когда другие технологии легитимации уже не работают. Иногда возникает апелляция политиков к особым цивилизационным ценностям. Поэтому, несмотря на внешнюю рудиментарность и архаичность символической основы ценностной легитимации, ее актуальность сохраняется и в условиях процесса цифровизации политики. Этот тип легитимации рассматривался М. Вебером как традиционный, К. Шмиттом — династический, Д. Истоном — идеологический, Ж.-Л. Шабо — идеологический и онтологический, Р. Итвелом — культурный, М. Макгилом — религиозный, К. Завершинским — хтонический231, К. фон Гальденвангом как порядок на основе значения. Причем Истон в идеологической легитимации признавал две ее формы проявления — собственно легитимационную и партизанскую. Первая практикуется для прямой поддержки режима, а вторая действует в случае выдвижения самой властью дополнительных, альтернативных кандидатов. Причем ценностная легитимация шире идеологических приемов232. Но важнее другое — с приходом цифровизации, сетевых технологий и коммуникаций ценностная, символическая сфера стала видоизменяться, но никуда не исчезла, продолжая использоваться субъектами управления для удержания контроля над объектами управления. Ценностная легитимация во многим может быть связана со справедливостью (при этом нужно делать поправку на цивилизационные и страновые специфики понимания справедливости). В киберпространстве ценностная легитимация может опираться на мемы и хэштеги — эволюционирующие плакаты и лозунги. Идеология не исчезла, она перешла на новый коммуникационный уровень.
Каждый уровень легитимации достигается и обеспечивается соответствующими технологиями — легитимационными практиками, фрактально дополняющих друг друга. Например, конструирование провластных сетевых сообществ предполагает ценностную, технологическую, институциональную и персональную легитимации. Также все перечисленные технологии легитимации должны учитывать внутриполитическое (поддержка со стороны населения) и внешнеполитические (признание со стороны других государств) измерения (о чем писали Ф. Фукуяма, Дж. Везерфорд, Г. Киссинджер, В. Зубок («народная легитимность»), В. Л. Цымбурский, А. И. Соловьев233. Тем самым обосновывается логика изучения именно сетевой легитимности и легитимации, способной сочетать все обозначенные нюансы.
1.2. Процесс цифровизации: значение для общества и политического режима
В узком смысле под цифровизацией подразумевается трансформация различного плана информации в цифровой формат для увеличения возможностей и уменьшения издержек развития системы. Тогда как в широком смысле под цифровизацией понимается единый для человечества тренд эволюции политики, общества и экономики, базирующийся на переводе любой информации в оцифрованный вид и позволяющий создавать условия для повышения качества жизни человека и эффективности экономики234. Цифровизации подвергаются государство, политические партии, политические лидеры, элиты, а также политические режимы как специфические порядки функционирования политической системы. Оцифровка контента может формировать новые отрасли экономики, сокращать материальные затраты, создать мощную технологическую базу для развития коммуникаций, гражданского общества и демократии, с другой же стороны — заложить основы для политических симулякров и манипулятивных практик. Поэтому для определения цифровизации категории оцифровки недостаточно, необходим критерий более фундаментального характера.
Иногда основной отличительной чертой цифровизации исследователи называют появление цифровых медиа. Л. Манович как раз предлагает говорить о подобных цифровых медиа, характерной особенностью которых, по его мнению, является масштабное внедрение софта — средств программного обеспечения (по сути, разнообразных программ). Свойства цифровых медиа определяются принципом изменчивости и конкретной программой, а не находятся в самом контенте235. И. А. Исаев, пишущий об особых «машинах власти», замечает, что цифровизация накладывает собственный количественный порядок на качественную сторону реальных отношений. Цифрование связано с обозначением ранга, уровня, степени — различных иерархических элементов236, что порождает проблему соотношения демократического процесса с технократическими трендами (ведь алгоритмы хорошо сочетаются с властными механизмами).
Характерно, что известный индекс цифровизации экономики и общества (DESI), рассчитываемый по 31 показателю из укрупненных параметров (подключение государства к средствам связи; человеческий капитал; использование гражданами Интернета; цифровизация бизнеса; цифровизация публичных услуг), учитывает в первую очередь уровень развития сетевых коммуникаций: развитие широкополосного Интернета, доступ к мобильному Интернету, чтение гражданами онлайн-новостей, распространение социальных сетей. На тесную связь цифровизации с сетевой природой коммуникаций указывает и ряд авторов, понимая под ней активное распространение цифровых технологий, углубление распределения, дифференциации власти, влияния основных акторов в коммерческой сфере, оформление цифрового публичного пространства, а также новой формы представительства — кибергосударства237. Цифровизацию также оценивают по глобальному инновационному индексу (GII) и индексу сетевой готовности (NRI). В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» от 2017 г. также провозглашается приоритет принципов сетевой коммуникации, обозначено значение создания информационной инфраструктуры, цифровой безопасности информационного взаимодействия граждан и цифрового суверенитета238.
Цифровизация различных сфер общества связана с параллельным развитием сетевого и программного (на основе всевозможных приложений и софта) формата взаимодействия различных акторов (государства, граждан, бизнеса) и фиксируется в следующих процессах: появлении соответствующей нормативной базы; формировании нового корпуса кадров; создании институциональной основы цифровизации (внедрение информационной структуры и необходимых органов власти); переводе информации, необходимой для сетевой коммуникации в цифровой формат; разработке системы информационной безопасности. Цифровизация политики является сопутствующим, но более специфическим процессом и предполагает: внесение соответствующих изменений в законодательство (возможность интернет-выборов, электронного референдума и т. п.); возникновение когорты специалистов (как работников избирательных комиссий, профильных правительственных ведомств, так и политконсультантов, применяющих технологии политической пропаганды, дополненной реальности, искусственного интеллекта, политических голограмм), непосредственно связанных с организацией политического процесса посредством интернет-коммуникаций; формирование киберполитической институциональной среды (внедрение структуры органов, организующей электронные выборы, интернет-партий); разработку принципов кибербезопасности политического режима (защита от хакерских атак, практика блокчейн и т. п.).
Процесс цифровизации политики затрагивает как общество в целом, так и его политический режим в частности. Во-первых, инициатором цифровизации может быть бизнес, заинтересованный в сокращении затрат и издержек, расширении клиентской базы, улучшении своего имиджа и репутации на рынке, опережении конкурентов и увеличении прибыли. Из-за этих причин бизнес заказывает аналитику рисков и потенциалов цифровизации своей деятельности, финансирует научные исследования, а также лоббирует соответствующие законопроекты. Во-вторых, в качестве мощного инициативного актора по цифровизации всего общества часто является государство, т. к., по сути, только оно имеет все возможности и ресурсы для такого полномасштабного проекта национального уровня. Но опять же, государство берет чей-то опыт — на деле того же бизнеса: в сфере коммуникации, области предоставления услуг, аналитической работе. Ярким примером заимствования опыта бизнеса государством могут служить технологии по конструированию политического образа. В-третьих, в отдельных случаях инициаторами цифровизации социальной жизни могут быть политические партии, различного плана оппозиционные группы, отдельные политические лидеры, исследователи, политологи, IT-специалисты, общественные деятели и их организации, представители зарубежных государств, фирм и транснациональных кампаний. В то же время все перечисленные акторы будут так или иначе связаны либо с государством, либо с бизнесом конкретной страны.
Цифровизация — это процесс переноса политических и социально-экономических явлений в условия функционирования цифровых платформ, приложений, медиа, компьютерных программ и алгоритмов. Ядром цифровизации является наличие алгоритмов239. Специфика цифровизации — формирование медиакорпорациями и связанными с ними режимами условий социотехнической реальности240, где техническое, его алгоритмы настолько тесно переплетаются с социально-политическими практиками, что ставят их в зависимость по отношению к собственным коммуникационным правилам и параметрам. Связующим компонентом социального и технического становятся интернет-коммуникации. Но цифровые коммуникации в отличие от прежних аналоговых становятся программируемыми в условиях дискретных сообществ сетевых коммуникаций.
Алгоритмизация через принцип транскодинга подчиняет политическое своим шаблонам — индивиды, социальные и политические процессы подстраиваются под приложения и их программные алгоритмы (технический формат цифровизации). В условиях цифровизации все политические символы и смыслы получают собственный код, который можно менять. Но и политическое, социальное влияет на неравномерность темпов цифровизации (сохранение цифрового неравенства путем переноса тех же нерешенных противоречий социального неравенства в обществах). Тем самым проявляется социализация цифровой среды241, когда интернет-коммуникации становятся проводником все тех же политических отношений, ценностей и конфликтов, фундаментально их не трансформируя. Таким образом и формируется социотехническая реальность как матрица цифровизации. По-другому эту дополненную реальность называют фиджитал-миром242. Власть через алгоритмы определяет преодолимые и непреодолимые пределы243 коммуникации, политического для человека. Алгоритмы принимаются обществом по той же причине, что и принимаются бюрократические структуры — из-за своей мнимой безличности, непредвзятости и мифологии рациональной справедливости, о чем писал Д. Гребер244. Часто навязываемым непреодолимым пределом алгоритмичной власти является рационализация политического, однако и она, по сути, является одним из утопических проектов.
Фундаментальной основой цифровизации является появление капиталистических компаний, создающих цифровые платформы — базовые инфраструктуры, которые порождают «сетевые эффекты»245: а) возникновение коммуникационных арен (социальные сети, блоги, мессенджеры, порталы, форумы, приложения и т. п.), дающих гражданам само право взаимодействовать между собой; б) рост числа пользователей (чем их больше, тем ценней цифровая платформа для других пользователей); в) стремление цифровых платформ к монополистической модели, ориентированной на контроль пользователей и их данных; г) нацеленность платформ на постоянный сбор и анализ данных пользователей (трансформация данных в особый тип сырья); д) появление специфических «цифровых ритуалов», благодаря которым цифровые платформы получают абсолютный доступ к регистрации граждан на интернет-ресурсах, а также через алгоритмы контролируют их персональные аватары, функционал пользовательского интерфейса посредством стандартизированных операций.
Стержневым элементом цифровизации можно назвать цифровые ритуалы (лат. ritus — культовый обряд, церемония) — однотипные социальные действия индивида, возникающие в виде реакции на активность других индивидов в формате интернет-коммуникаций. Исследователи уже выделяли появление ритуалов медиа, основанных на подражании селебрити246. Примерами цифровых ритуалов являются лайки, дизлайки, ежедневный просмотр френд-ленты, новостной ленты на гаджетах, смартфонах, планшетах, постинг, репост, комментарии в дискурсе, регистрация, аутентификация и т. п. За каждым из этих ритуалов стоит конкретный алгоритм, фактически обретающий ритуальную значимость. Благодаря алгоритмам можно перепрограммировать, заменить любую часть дискретного, фрактально устроенного цифрового пространства, отражающего и копирующего любые политические и культурные смыслы повседневной жизни247. Интересно, что большинство компьютерных программ представляют собой цикл из последовательно повторяющихся сценариев, что также характеризуется ритуальным характером.
Дефиниция цифрового ритуала как раз устанавливает важную каузальную связь между цифровым, ценностным и политическим. Ритуалы цифрового плана синтезируют мифы о справедливой власти, народоправии, стереотипы об эффективной коммуникации, идеальном лидере. Политическое мифотворчество (культ машины, вера в объективность искусственного интеллекта в оценке политики и т. п.) — основа таких ритуалов, так как оно, в отличие от архаичного мифотворчества, допускает процедуру рационализации248. С помощью распространения цифровых ритуалов реализуется на практике механизм «моментальной массовой сделки», означающий согласие населения с большинством действий политической власти и допускающий перманентную апелляцию последней к риторике чрезвычайного положения249. Такие «сделки», если учитывать концепцию биополитики М. Фуко250, одновременно осуществляют рациональное управление политическим поведением граждан через их цифровые двойники (аватары) и заключаются с каждым из них отдельно. Через них осуществляется технология «частичной легитимации власти», происходит регулярное упорядочивание систем, в том числе и общественных251.
Алгоритмы, как базовые элементы всех цифровых технологий, расширяют прежние возможности политико-легитимационных практик. Механизм «двойного согласия», обнаруженный С. Милгрэмом252 еще в ходе его экспериментов, получает поистине грандиозные перспективы. Гражданин через цифровые платформы заключает договор с корпорацией, государством (или с государством при посредничестве корпорации), при этом такая «моментальная сделка» не обязательно оговаривает детальные условия обязательств. Согласно Милгрэму, даже если гражданин принимает собственное свободное решение, в будущем это решение становится обязательством гражданина. Особенно эти наблюдения становятся актуальными в условиях распространения цифровых ритуалов и практик, когда алгоритмы постепенно встраиваются в политический процесс.
Цифровые ритуалы, заданные алгоритмами, способствуют композитингу — подгонке социально-политических действий индивида под готовые шаблоны, этику гипертекста. Стремительное развитие науки и активность IT-корпораций приводит к тому, что цифровые ритуалы провоцируют два специфических процесса — интерфейсизацию и аватаризацию. Если аватаризация носит более всепроникающий характер и уже определяет функционирование коммуникационного уровня современного общества, то интерфейсизация только намечается и больше служит интересам легитимации политического режима. Начнем с анализа условий цифровой аватаризации общества.
Воспользовавшись методологией SWOT-анализа, рассмотрим перспективы цифровизации для гражданского общества. Безусловной сильной стороной процесса цифровизации общества является оцифровка огромных массивов знания, книг, статей, картин, фото, различных изображений, музыки и т. п. Просветительская сторона этого тренда очевидна — создание электронных копий редких, малодоступных монографий, журналов, выходивших небольшим тиражом, упрощает доступ к ним специалистов, которые могут быстрее познакомится с данными различных уникальных научных исследований, то же самое касается не только научной, но и художественной литературы. Гражданин сможет получить любой квант интересующего его знания, приобщиться к достижениям мировой культуры, посетить виртуальные экскурсии, не выходя из собственного дома, не тратя время и деньги на длительную поездку в какой-либо архив или библиотеку. С помощью цифровых ритуалов регистрации и аутентификации на цифровых платформах упрощается доступность различных товаров и услуг для человека. Параллельно усиливаются позиции телемедицины, доступности медицинских консультаций для населения.
Повсеместное установление видеокамер на автомобильных дорогах, дворовых территориях, в магазинах, общественном транспорте и учреждениях мотивируется обеспечением личной безопасности граждан. Создание специальных интернет-порталов для государственных услуг объясняется желанием политиков наладить коммуникацию между обществом и властью, намерением сделать последнюю более эффективной. В основе этих цифровых метаморфоз — переход бизнеса, общественных организаций, движений, самого государства на цифровые платформы в ходе так называемой четвертой технологической революции253.
Слабой стороной является недостаточное и неравномерное распространение процесса цифровизации во все сферы общественной жизни, неготовность социума к серьезным изменениям. Быть может, поэтому зарубежные эксперты под «цифровой трансформацией» понимают формирование (или изменение) общественной ценности (public value) через государственную политику цифровизации254. В России же цифровую трансформацию идентифицируют с автоматизацией, заменой одних подпроцессов другими, принятие решений без участия человека в автоматическом режиме (позиция Центра стратегических разработок)255. Необходимость фундаментальных преобразований для всего общества подменяется отрывочными, косметическими мерами.
Если взять систему государственного управления, образования, науки, то здесь могут одновременно сохраняться как традиционные, так и цифровые приемы. Примером служит дублирование электронного документооборота бумажным форматом. Это приводит к перегрузке, дисфункциональности системы. Причинами неравномерной и поверхностной цифровизации могут служить: такое же неравномерное инвестирование в проекты по внедрению цифровизации (так, например, инвестиции в бизнес электронной книжной продукции могут быть не сопоставимыми с темпами инвестиций в комплектацию новой литературой сельских школ), типичное недоверие государственных, муниципальных служащих, пенсионеров, а также других категорий населения к самому феномену цифровых ритуалов. То есть цифровизации могут препятствовать экономические ограничители — дотационные, невыгодные области, сферы общественной жизни или даже рынка обрекаются на симуляцию этого процесса по сравнению с иными сферами общества и рыночными сегментами. Еще одним ограничителем цифровизации является юридическая сфера — авторское право не даст просто так бесплатно распространять и оцифровывать книги, музыку, просматривать фильмы и изображения.
К возможностям цифровизации в общественной жизни можно отнести развитие в будущем обширных коммуникационных сетей, способных оперативно доносить до власти те проблемы, которые важно срочно решать. С одной стороны, общество сможет выстроить «цифровой народный контроль», постоянно выявляющий нарушения закона, прав гражданина, факты коррупции с соответствующей доказательной базой. Такие коммуникационные хайвеи будут включать не только уже получившие распространение социальные сети, блоги и видеохостинги, но и систему дополненной реальности (AR) из видеокамер, видеорегистраторов, навигаторов автомобилистов, водителей общественного транспорта, приложений, систему различных компьютеров, баз данных. Активные граждане получат дополнительные возможности дать политикам и профессиональным управленцам совет или всесторонне описать проблемную ситуацию. С другой стороны, власть обретает перспективы построить крупные нейронные обучающиеся сети, которые не только будут аккумулировать социально-экономические проблемы в стране, но также иметь информационные банки адекватных решений. Приближением к искусственному интеллекту здесь будет именно появление такого рода интеллектуальной системы, которая была бы подключена к большинству информационных баз страны и, сопоставляя прошлые и новые проблемы с накопленными кейсами, предлагала бы совершенно новые решения.
Угрозы цифровизации для общества также существуют. Есть определенные риски дегуманизации, когда в ходе новой технологической революции все рычаги контроля над цифровыми ритуалами, их алгоритмами, базами данных, сетевыми коммуникациями и искусственным интеллектом получит узкая группа специалистов. Нельзя забывать и о цифровом неравенстве, когда в будущем из-за роста диспропорции в доходах между группами населения могут возникнуть части граждан, которым блага цифровизации будут более доступны, чем другим, а кому-то и вовсе недоступны. Крупной проблемой остается и грамотное обеспечение информационной безопасности. Остальные риски цифровизации — это компьютерная зависимость, тотальная подмена традиций, ценностей социальной жизни цифровыми ритуалами, уход из реального мира в виртуальное пространство и разрыв социальных связей, формирование гражданина с потребительским сознанием, которому не нужны ценности, история государства, характерно безразличие к патриотизму и соучастию по отношению к судьбе страны256. Кроме этой группы безучастных потребителей реальной угрозой для разрушения общества становится и категория граждан, полностью отвергающая российские традиции, как отсталые, ориентируясь на абстрактные смыслы, модели и примеры Запада, но, в то же время, не намеренная брать на вооружение, к примеру, западноевропейский опыт политических реформ.
Перечисленные условия цифровизации гражданского общества и развитие однотипных цифровых аватаров привели к запуску масштабного процесса аватаризации — присвоению индивиду разнообразных идентификационных кодов, номеров, внедрению цифровых документов и подписей. Цифровой аватар — это, выражаясь языком М. Маклюэна, виртуальное расширение, воплощение индивида, которое отражает его специфический образ, основные черты характера, поведения, предпочитаемых цифровых ритуалов и разделяемых ценностей, в том числе и политических (достаточно вспомнить, что в ряде аккаунтов соцсетей функционал позволяет указать свои политические воззрения). В качестве примера цифрового аватара можно привести аккаунт пользователя в соцсетях, форумах или блогах. Как правило, цифровой аватар имеет свою «цифровую тень» (считываемую автоматически информацию человека, иногда без его согласия) и «цифровой след» (умышленно оставляемую человеком информацию — лайки, комментарии и т. п.)257. Сама идея аватара довольно древняя и восходит к функции маски, формирующей дистанцию между носителем и зрителем с архаичных церемоний258. По сути, такой аватар — виртуальное тело человека. И хотя в виртуальном поле есть проблема гендерной перверсии, смены пола, пользователи все же стараются не выходить за границы своих идентификационных матриц259. Это же доказывают и исследования по социализации Интернета260, когда пользователи не выходят за пределы своей идентичности, чтобы им доверяли другие участники коммуникации.
Проблема заключается в том, что появляются искусственные индивиды (на основе анализа психотипов реальных людей261), также обладающие своими аватарами, что задает новые вызовы для объективной и безопасной политической коммуникации. В соответствующей главе будет показано, что в настоящее время возникло несколько видов цифровых аватаров — репрезентанты реальных людей, репрезентанты на базе искусственного интеллекта (виртуальные чиновники и виртуальные политики) и так называемые ложные цифровые аватары, притворяющиеся иными личностями в деструктивных целях. Пока же важно заметить, что цифровые аватары реальных и искусственных личностей заставляют пересмотреть само понятие субъектности в политической коммуникации, т. к. они способны передавать смыслы, символы и месседжи, весь комплекс социальной информации, незаметно воздействующей на образ мыслей людей262.
Цифровизация, конечно, связана с феноменом сети, однако она полностью не отменяет факт иерархии. Аватар имеет не только потенциалы для широкой политической коммуникации гражданина, но и таит риски алгоритмического контроля (как со стороны цифровой корпорации, так и со стороны того режима, который заинтересован в тотальной слежке). П. Вирно предупреждал, что в настоящее время формируются измельченные, персонализованные, разрастающиеся иерархии. Современное множество является, по Вирно, «общественным индивидом», где объединяется противоположное — индивидуальное и коллективное263. И, действительно, цифровой аватар гражданина, с одной стороны, становится его индивидуальным биометрическим воплощением, а, с другой, — остается связанным с чем-то надиндивидуальным посредством алгоритмов (с каким именно надиндивидуальным — большой вопрос: либо корпоративным, навязываемым техногигантами, либо коллективно-идентичностным, устанавливаемым политическим режимом). Аватары пользователей могут, в конечном итоге, исходя из интересов создающих их цифровых корпораций, стать индивидуальными фильтрами-пузырями, обладающими тремя измерениями: идеологическим, географическим и кругом знакомств264. Три основные измерения изолируют гражданина и посредством цифровой сферы.
Аватаризация общества полностью соответствует принципу фрактальности — IT-корпорации, заинтересованные в формировании коммуникационных арен для своих потенциальных клиентов, постоянно расширяют практику однотипных цифровых ритуалов и сопутствующих им аватаров. Процесс аватаризации конструирует особую среду из потенциальных объектов власти — целевых аудиторий из групп цифровых аватаров. Такие цифровые аудитории обладают важным диалектическим свойством объекта политической власти — с одной стороны, они фрагментированы — разобщены с другими аудиториями из цифровых аватаров, с другой стороны, — без них современный субъект власти не сможет осуществить технологии политической легитимации. Таким образом, эти новые цифровые аудитории являются «носителем легитимности».
Ю. Хабермас угадал характер легитимации большинства режимов в совместной заинтересованности капитала и власти в деполитизации, создании формальных демократических процедур, не допускающих граждан к принятию решений, в переориентации власти на установление или прерывание коммуника
...