автордың кітабын онлайн тегін оқу Карта утрат
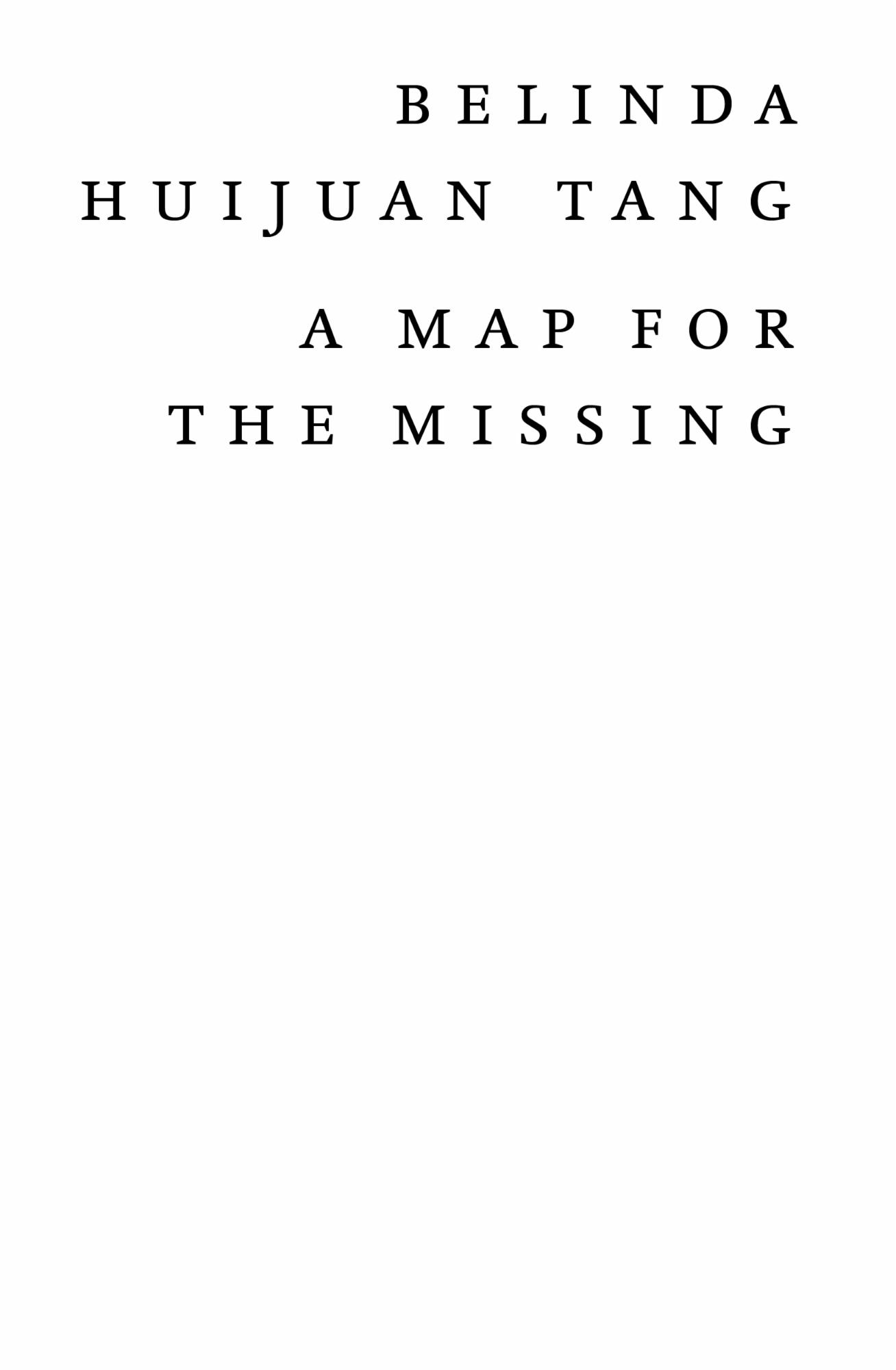

Моей бабуле
Ведать о том, кто отец наш, наверное, нам невозможно...
Но если уж ты вопрошаешь, то он, из живущих
Самый несчастливый ныне, отец мне, как думают люди.Гомер, “Одиссея” [1]
Их цель — не место в истории. Их цель — они сами.
Ван Аньи, “Песня о вечной печали”
[1] Перевод В. Жуковского.
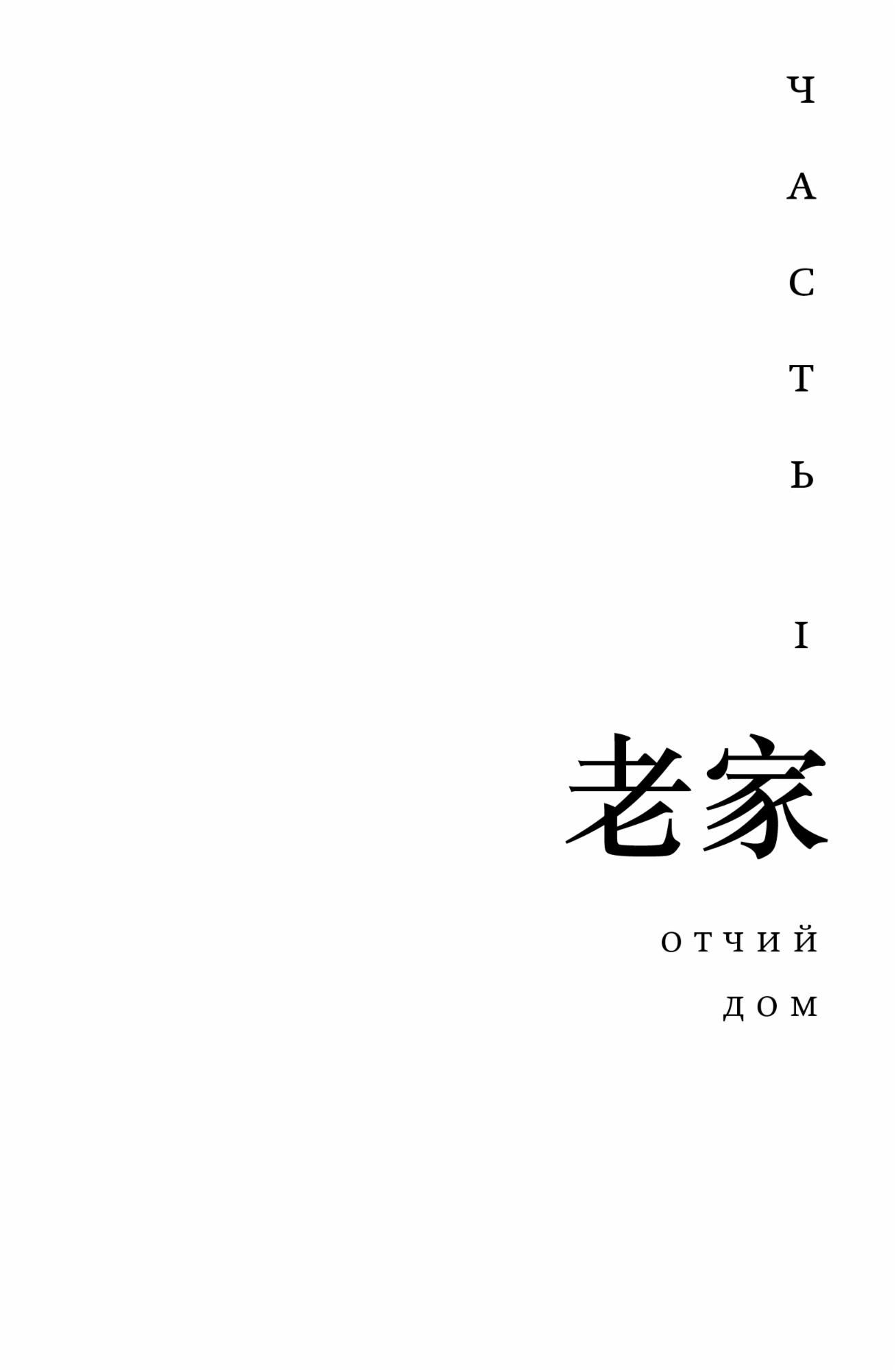
глава 1
январь 1993
—
Если переводить дословно, это означает “твоего отца не видно”.
В трубке опять раздался голос матери:
— Твой Па пропал.
Он сидел в своем кабинете на факультете математики, эхо телефонного звонка разбивало тишину помещения, будто бы преисполненную важности научных изысканий. Прежде такого еще не случалось, международные звонки дорогие, поэтому на ту сторону Тихого океана он всегда звонил сам.
— Ты слышишь? — спросила мать.
Удивленный и тем, что слышит ее голос, и ее словами, он утратил дар речи.
— Да, мама, я тебя слышу, — выдавил наконец он.
Прижав к уху телефонную трубку, он быстро прикинул время. Сейчас в Пало-Альто ранний вечер, следовательно, в Китае даже утро толком не наступило. Чтобы позвонить ему, мать встала посреди ночи и прошла пятнадцать ли [2] до города промерзшими проселочными дорогами, уходя все дальше и дальше от деревни, пока не добралась до главной улицы городка, которая в этот час тихая и темная, и лишь изредка в темноте мелькают силуэты женщин, готовящихся открывать свои магазинчики. На обветшалой железнодорожной станции мать спросила кого-то из сонных пассажиров, в какую сторону ей ехать, а добравшись до города, она выловила в толпе прохожего с бесстрастным лицом и попросила того прочесть ей указатели. Лишь проделав столь долгий путь до центрального телеграфа, она смогла наконец-то позвонить ему.
От осознания этого желудок у него сжался. Рука, цепляясь за привычное удобство, стиснула обитый тканью подлокотник кресла.
В словах матери звучало такое отчаянье, что он на секунду отпрянул от телефонной трубки. Мать по-прежнему пребывала в убеждении, что когда говоришь по телефону, особенно если собеседник твой находится по ту сторону Тихого океана, следует кричать, и погромче. А чем громче она кричала, тем сильнее он боялся, что она переполошит весь математический факультет. Чтобы приглушить звук, он обмотал динамик трубки свитером.
В конце концов он успокоил ее настолько, что у нее хватило сил все растолковать. По ее словам, два утра назад отец ушел из дома, причем повесил на руку полиэтиленовый пакет, будто на целый день уходил. И не вернулся. Мать думала, он просто в соседнюю деревню пошел, родственника навестить или старого сослуживца по армии, однако она вынуждена признать, что ей пришлось побороть в себе сомнения. С чего бы отцу так поступать, ведь уже много лет он не покидал деревню.
Он глубоко вздохнул и пообещал матери приехать.
Итянь вздрогнул во второй раз: в дверь кабинета постучали, а затем послышался голос, такой характерный для Америки, неуверенный, полный понимания, что обладатель голоса наверняка помешал:
— Простите?
Итянь глянул на дверь. Он заметил, что стискивает руки с такой силой, что на коже проступили бело-красные пятна, и с изумлением обнаружил, что по кабинету разливается мягкий сумрак. Солнце уже село, а он и внимания не обратил, что наступил вечер.
На пороге стоял Стивен Сюн. Вид у него был встревоженный, на плече висел кожаный портфель. Телефонная трубка по-прежнему болталась на проводе.
— Я уже ухожу, просто решил заглянуть и спросить, все ли у вас в порядке. Услышал ваш голос, вот и зашел.
— Да, все хорошо.
Судя по схожему акценту — у Стивена он делался отчетливым только в окончаниях сложных слов, у Итяня еще никуда не делся, — им было бы намного проще общаться на китайском, однако Итянь следовал правилам, которые установил Стивен во время их знакомства. Стивен появился на факультете первым, он приехал из Тайваня лет на десять раньше Итяня. В беседе с американскими коллегами Стивен умел пошутить к месту, а имя Итяня произносил так, что оно казалось почти американским, но звучало при этом странно, как-то плоско, не имя, а раскатанная лепешка. Китайского имени Стивена Итянь вообще не знал.
Заметив, что Стивен вопросительно смотрит на телефонную трубку, Итянь поспешно положил ее на аппарат.
— Это мать позвонила... — про телефонный разговор все равно придется рассказать, но он решил ограничиться самым лаконичным объяснением, — возможно, мне придется слетать домой и помочь с отцом.
Стивен посмотрел на него — утомленно, как и при первой их встрече, а затем, к удивлению Итяня, вернулся к двери и пинком закрыл ее, после чего поставил портфель на пол. На факультете было принято держать двери кабинетов открытыми, “во имя духа единства”, как мягко сказал однажды декан, попросив Итяня не закрывать кабинет, поэтому Итяню нередко чудилось, будто за ним наблюдают.
Стивен вздохнул и оперся ладонями о стол.
— В их возрасте такое случается — сперва они тебе просто названивают, а потом узнаешь о каком-нибудь внезапном недуге... — Китайский у него оказался вовсе не такой изящный, как ожидал Итянь. — Все уладится. Декан к таким вещам относится с пониманием и на несколько недель, пока вас не будет, непременно найдет кого-нибудь на замену. Думаю. Вы еще не поняли, но нам с деканом повезло.
Стивен принялся рассказывать о собственной матери, у которой двумя годами ранее обнаружили рак яичников, отчего он теперь вынужден периодически наведываться в Тайвань. Итянь отрешенно слушал рассказ о больницах, домашних сиделках, экстренных поездках в Тайпей, ощущении неизбывной безысходности. Такой длинной речи от Стивена он еще не слышал, разве что однажды, когда они с супругой пригласили Итяня и Мали на ужин. Вечер тогда получился странный, а Итянь понял, что с утонченной семьей Стивена у него мало общего: выходцы из Тайпея, они знали свою родословную вплоть до королевских особ в эпоху династии Мин. Итянь отмалчивался — обронил лишь, что сам он родом из деревушки в провинции Аньхой, а дальше позволил Мали рассказывать о детстве, которое она провела в пекинском хутуне [3]. Итянь надеялся, что это им ближе. Общались они на английском, а на ужин жена Стивена без зазрения совести подала картонные коробки с едой из ресторана. Итянь понял, что они с Мали важными гостями не считаются. Прощаясь, хозяева предлагали непременно повторить встречу, однако никто из них новой попытки не предпринял.
Ни прежде, ни теперь Итянь не признавался Стивену, что уже восемь лет не был в Китае, а в родной деревне не показывался и вовсе лет пятнадцать. Он опасался вопросов — Стивен наверняка удивится, узнав, что он так давно не бывал дома. Для Стивена Итянь — хороший сын, отвечающий за своих родителей. Обязательства — ядро общей для них двоих культуры. Как объяснить, что пятнадцать лет Итянь не только пренебрегал своим сыновним долгом по отношению к отцу, но они даже ни разу не разговаривали за все это время? Да и Стивен все равно не понял бы.
— Все образуется, — проговорил Стивен напоследок.
Итянь осознал, что почти не слушал его.
— Спасибо, — сказал он.
— Не переживайте, ладно? — улыбнулся Стивен.
Вокруг глаз, за стеклами круглых очков, обозначились морщинки. Такие очки Итянь видел в фильмах шестидесятых годов. Он понимал, что старший коллега гордится, что помогает земляку советом, поддерживает. Проще всего просто кивнуть. Да и смог бы он объяснить, что понятия не имеет, какая помощь ему сейчас нужна?
Стивен ушел, а Итянь собрал бумаги, сунул в рюкзак и направился к машине. Домой он обычно ехал по живописному шоссе 280, но сегодня вместо приятного, но более длинного маршрута выбрал загруженную трассу 101 — хотел побыстрее добраться до дома и посоветоваться с Мали, как ему поступить.
Дома его ждало разочарование: на автоответчике Мали оставила сообщение — начальница попросила ее поработать сегодня подольше. Мали составляла базу данных для женщины-риелтора, которую называла “миссис Сюзанна” и которая в последнее время учила Мали проводить собственные сделки. Много лет назад, когда у Мали еще не было разрешения на работу, миссис Сюзанна единственная согласилась ее взять к себе, поэтому Мали никогда ей не отказывала.
Итянь полистал записную книжку, прикидывая, с кем бы посоветоваться. Матери не позвонишь — она его звонка не ждет и не сидит в ожидании возле единственного на всю деревню телефона, с которого сама звонить не может. Если позвонить друзьям, Цзюн Мину и Мэй Фану, то придется объяснять и растолковывать. Нет, Мали единственная, кто не потребует объяснений. Итянь уселся за обеденный стол и уставился на входную дверь, которую Мали украсила венком из искусственного плюща. Чтобы в доме было уютнее — так она сказала. Мали всегда думает о том, чего он учесть не в состоянии. Когда они въехали сюда, Итянь окинул взглядом голые оштукатуренные стены бежевых, песочных, светло-коричневых оттенков — он так и не научился их различать, — и внезапно его накрыло одиночество настолько пронзительное, что он оцепенел. Итянь не знал, догадалась ли Мали о его чувствах или ощутила нечто похожее, но, как бы там ни было, именно она предложила развесить по стенам фотографии родственников и оживить квартиру растениями. Это помогло — здесь появилось ощущение дома. У нее всегда удачные идеи. Он знал, что пока не обсудит с Мали звонок матери, сам тоже толком не осмыслит то, что мать сообщила.
Когда Мали вернулась, он по-прежнему сидел, уставившись на дверь. Мали уронила объемистую стопку документов и бросилась к нему. Лишь когда она пододвинула кресло, уселась напротив, поставила локти на стол и взяла его руки в свои, он подробно пересказал разговор с матерью.
— И как ты поступишь? — спросила Мали.
— Я сказал, что приеду, — ответил он.
Матери он пообещал это, ни секунды не колеблясь. Инстинкт толкал его к действию. В плаче матери было отчаянье, а он — сын, отец которого пропал.
— Поедешь?
Итянь посмотрел ей в глаза и понял, что такого ответа она не ожидала.
— Ты не хочешь, чтобы я ехал?
— Не в этом дело. Просто мне кажется, в этом ничего особо странного нет. Ты не согласен? Он ушел из дома. Отправился прогуляться. Иногда пожилые люди забывают предупредить близких, это бывает. И вряд ли он далеко ушел.
Итянь смотрел на ее лицо, выискивая отсвет надежды, за которую он мог бы ухватиться. Мали выглядела такой уверенной, но ведь она всегда такая.
— Тебе предстоит долгий путь, — она прикусила губу, — а когда доберешься до них, он, возможно, уже вернется.
— Возможно.
Тем вечером практичность и оптимизм Мали не подействовали. На протяжении всех этих лет он так мало рассказывал ей об отце, в подробности и вовсе не вдавался, так что о напряженности в их отношениях Мали было известно, а о причине — нет. Она полагает, что старик просто отправился на закате дней навестить старых друзей. Вот только его отец уже долгие годы не покидал деревни, никогда не нарушал границ известного ему пространства — внутри него все для старика знакомо и привычно, там он защищен от опасностей, которые подстерегают, как он считает, в большом мире.
— Я не отговариваю тебя, — сказала Мали.
Она явно чувствовала, что допустила оплошность, — он это видел.
С момента их переезда в Америку Мали дважды навещала родных в Пекине, каждый раз отправляясь в путешествие с радостным ожиданием и чемоданом, набитым подарками.
— Если ты считаешь, что это поможет, то, конечно, поезжай.
Она поставила еду разогреваться, позвонила в авиакомпанию, чтобы забронировать билет.
— В один конец. На ближайший рейс. — Мали нахмурилась: — А пораньше точно ничего нет? Нам нужно срочно, по семейным обстоятельствам. — Она помолчала. — Ладно, бронируйте.
В подобные моменты его собственный английский сбивается на шаблонные формулировки из учебника. Одной рукой Мали проверяла, согрелась ли еда, другой крутила телефонный провод. Трубку она прижимала к уху. Как только у нее хватает сил оставаться такой хладнокровной и практичной? Его захлестнула благодарность.
Мали повесила трубку, взяла две тарелки и отнесла на стол.
— Завтра в четыре часа вечера вылет из Сан-Франциско. Пересадка в Сеуле. Билет я забронировала. Через день будешь дома. Хорошо?
Он кивнул. Дома. Это она так сказала. Не он.
Возможно, если бы они с отцом не прервали общение много лет назад, Итянь смог бы предположить, куда отец отправился, но Итянь не знал, как и чем тот жил последние пятнадцать лет.
Ночью он лежал рядом с Мали, но сон не шел. Бессонница его мучила нередко, поэтому в свое время они даже заказали для него особенно мягкий матрас. Мали же, по ее собственным словам, способна заснуть где угодно. Сегодня ночью мягкость матраса лишь раздражала его. Лежа в темноте, Итянь пытался представить, как спустя все эти годы выглядят отцовское лицо и тело. Он всматривался во мрак спальни и одну за другой восстанавливал отцовские черты. Сперва глаза. Представить их он не смог, разве что помнил, что они мутные. Веки нависают над зрачками, черными, словно вымоченная ливнем земля. Даже когда Итянь был совсем ребенком, глаза на лице отца будто бы принадлежали мужчине намного старше. В тех редких случаях, когда отец смеялся, эти нависающие веки мешали понять, добралась ли улыбка до глаз.
Затем рот. Он запомнился Итяню преимущественно ужасом, который охватывал его, когда отец открывал рот и выплевывал грубости. Во рту жило влажное гнилостное зловоние — это Итянь понял, лишь уехав из деревни. За всю свою жизнь отец ни разу не почистил зубы.
Итянь вылез из постели и огляделся в поисках клочка бумаги, чтобы облечь мысли в выводы. Тихое дыхание Мали выбивало его из колеи. Он вдруг затосковал по одиноким ночам своей прежней жизни, по рваному, нарушенному посторонними звуками сну.
Итянь прошел в кабинет, зажег настольную лампу и достал из ящика стола лист бумаги. Лампочка рисовала на гладком яично-белом листке продолговатые тени. Итянь принялся за то, что умел лучше всего — выстраивать математическую модель.

Легкое порхание карандаша прекратилось. Он не мог отбросить то, что область функций ограничена определенным пространством — границами деревни, ее двумя квадратными километрами, втиснутыми между речкой с одной стороны и полями с другой. И в то же время не мог растянуть область значений этих функций так, чтобы включить в нее дорогу, которая выходит из северо-западного угла деревни и по которой человек способен уйти из места, считающегося его домом. Да и вообще, кто знает, правильны ли эти функции? Долгие годы Итянь запрещал себе думать о доме. Как бы ему этого ни хотелось, он убеждал себя, что главное — это новая жизнь в Америке и все, чему ему предстоит здесь научиться. Печальные воспоминания только станут помехой. И все же возвращение домой представлялось ему более торжественным, в воображении рисовался и отец: осознав, чего Итянь достиг в Америке, он готов признать, что сын наконец исправил ошибки прошлого.
Итянь погасил лампу и вернулся в постель. На темном небе за окном пробивались первые рассветные лучи.
Когда на следующее утро Мали помогала ему собирать вещи, реальность вновь начала ускользать от Итяня. Он сидел на полу возле чемодана, куда Мали укладывала его одежду. Она сняла с вешалок рубашки и спросила, какие он хочет взять с собой, и Итянь вдруг понял, что понятия не имеет, какая одежда ему понадобится.
— Там в это время года какая температура? Этого достаточно? — спросила она.
— По-моему, более чем.
Итянь сложил последнюю пару брюк и сунул их в чемодан, скорее для вида — показать, что он не сидит тут без дела. Чемодан был заполнен лишь наполовину, между вещами оставалось пространство.
— Я еще с работы кое-что захвачу, — сказал он и поднялся.
С трудом выдвинув нижний, самый непослушный ящик стола, Итянь достал коричневый почтовый конверт, весь заклеенный марками — свидетельством немалого расстояния, которое письмо преодолело. Когда Итяня мучила бессонница, он иногда открывал ящик, доставал этот конверт и перечитывал письмо. Ему хотелось осознать прошлое, связать его с настоящим — представить, что произошло бы при другом раскладе, если бы он не расстался с Ханьвэнь, своей первой любовью. Впрочем, в те времена он не назвал бы это так — “любовь”. Это слово пришло позже, уже в Америке, когда он освоил язык, в котором есть названия разным чувствам.
Он сунул письмо в первый попавшийся под руку учебник. Старая любовь между страницами “Введения в топологию”. Она единственная оживляла учебник. В этом семестре никто из студентов не проявлял особого интереса к его предмету, и составление лекционного плана было обязанностью неблагодарной.
— Ты в такой момент способен думать о работе. Просто удивительно! — сказала Мали, когда он вернулся в спальню и положил учебник в чемодан.
Итянь сунул книгу между слоями одежды — чтобы быть уверенным, что с ней уж точно ничего не случится.
[3] Хутун — традиционная городская застройка в Китае, хутуны в больших городах сейчас считаются историческими памятниками.
[2] Ли — китайская мера длины, современная величина которой составляет 500 метров. — Здесь и далее примеч. ред.
глава 2
деревня тан,
провинция аньхой
Еще не открыв глаза, он знал, что находится дома. Видеть и не требовалось, да и время, совсем как прежде, он определил по ощущениям и звукам. Если темноту разбавлял приближающийся рассвет, если за окном погромыхивала тележка, если соседские кумушки будили мужей и детей, значит, вскоре мать придет за ночным горшком, содержимое которого отправится в компостную яму. Если же еще темно и тихо, мальчику разрешалось еще немного полежать в кровати рядом с дедушкой.
Он открыл глаза и за окном такси увидел знакомую сосну. Ее ветви, голые, как и в день его отъезда, приветственно склонились над дорогой. Будто прошел всего лишь день.
Чтобы разглядеть получше, он опустил стекло.
— Эй! — воскликнул таксист. — Холодно же!
Итянь не обратил на него внимания. Удивление, вовсе не такое уж и неприятное, подготовило его к встрече с матерью. Он так и не заснул ни в самолете из Сан-Франциско, ни во время турбулентности над Южной Кореей, ни в тряском поезде, следующем из Шанхая в Аньхой, — в купе, которое он делил с восемью другими пассажирами. Сев на завершающем отрезке путешествия в такси — Итянь позволил себе такой расход, обосновав тем, что потратил бы несколько часов, вникая в расписание автобусов, — он ощутил столь сильную усталость, что был не в силах даже ответить, когда таксист спросил, что он забыл в такой глуши. Итянь заснул, когда за окном замелькали новостройки Хэфэя, а проснувшись, увидел знакомые с детства пейзажи. Небо давило зимней серостью. Такси ехало по главной улице, а Итянь вглядывался в узенькие переулки, высматривая когда-то знакомые дома. Все они были из того же материала, что и раньше, — посаженных на глинистый раствор кирпичей, однако под заснеженными крышами со свисающими сосульками дома казались значительно выше, чем прежде. А вот сама деревня была меньше, чем ему запомнилось. Они проехали мимо углового дома, и Итянь пораженно ахнул: за приоткрытыми дверями он заметил стоящий на ветхом буфете квадратный телевизор.
— Дальше куда, начальник? — спросил таксист.
Улица закончилась, а крыши с потрескавшейся черепицей Итянь так и не увидел, поэтому и не знал, где свернуть.
— Я, похоже, поворот пропустил, — сказал он, — давайте назад вернемся?
Но крыши в каждом переулке были аккуратные, с тщательно уложенной черепицей. На таксометре мигали красные цифры.
— Высадите меня здесь, — попросил он, — я пешком дойду.
Итянь шагал по переулкам, ботинки скользили по снегу. Он уже жалел, что не позволил Мали положить в чемодан побольше теплой одежды. Свирепый ветер пробирался к телу, доказывая, что прятаться от него смысла нет. Такого холода Итянь не ощущал уже много лет. В Калифорнии не бывает настоящей зимы. Впрочем, настолько яростный зимний ветер редкость даже по местным меркам, он словно был дурным предзнаменованием, связанным с исчезновением отца. Итянь надеялся, что его отец, куда бы он ни ушел, надел самую теплую свою одежду и не страдает от холода.
В конце концов нужный переулок он отыскал. Итянь пропустил его, потому что крыша с осыпавшейся черепицей исчезла. Одноэтажное кирпично-глиняное строение из его детства выросло, обзавелось шиферной крышей, и стены были беленые. Он уже дважды проходил мимо этого дома, но только на третий раз признал старое строение, прячущееся внутри. Дом стоял чуть особняком. На такие дома деревенские жители показывают пальцем и шепчут: “Вот тут богатеи живут”.
От этой мысли Итянь ощутил прилив гордости. Дом отстроили благодаря деньгам, которые он присылал семье два раза в год. Даже когда они с Мали только-только переехали в Америку и расписывали недельный бюджет вплоть до самых мелких расходов, Итянь все равно отправлял матери чек. Иногда сумма едва превышала почтовые сборы за перевод, порой Мали показывала, как мало остается на жизнь им самим, и умоляла его отправить поменьше. Она протягивала руки, держа их ладонями вверх, и не сводила с него глаз. Видишь, ничего не остается. Как ей ответить, Итянь не знал. Для него забота представляла собой величину, которую невозможно поделить между теми, кто ему дорог.
У двери он замешкался. Его поднятая и сжатая в кулак рука дрожала. Он прижался лбом к новому деревянному полотну, почти ожидая услышать рычащий голос отца, в очередной раз напившегося среди бела дня. Вот-вот он распахнет дверь и, стряхнув с себя опьянение, скажет Итяню, что исчезновение — просто шутка, которую он устроил, потому что наконец-то решил его простить и заманить домой. Следом покажется и мать. Вытирая руки о передник, она извинится за обман. Они обнимутся, и все сойдутся на том, что шутка того стоила.
Из-за двери не доносилось ни звука. В конце концов Итянь дернул за железное кольцо. Дверь приоткрылась.
— Есть кто дома? — крикнул он в пустой дворик.
Итянь поразился тому, как легко, без малейших усилий, дались ему слова на родном диалекте.
Мать раздобрела, живот и грудь у нее округлились, кости будто уступили место плоти. Мать уткнулась головой ему в плечо и погладила руки, словно для того, чтобы поверить в его приезд, ей непременно было нужно коснуться его. В воспоминаниях мать была выше, хотя этот ее новый облик вполне соответствовал его ожиданиям, а ее раздобревшее, но плотное тело было вполне под стать размашистым движениям и решительному голосу.
— Куда ж ты подевался?! — была первая ее фраза. — Я уж несколько дней тебя жду!
— Ма, сюда очень долго добираться.
— Ты ел? Я курицу вчера вечером зарезала — думала, ты вот-вот приедешь. Сейчас еду разогрею. Сколько ты за такси заплатил?
Она захлопотала, поставила кипятиться воду, отнесла его чемодан в спальню, и каждый раз, отходя от него хоть на пару секунд, она тут же возвращалась и задавала очередной вопрос.
Итянь не понимал, с чего начать. Отец пропал, но вот она мать — впервые за много лет рядом, живая, во плоти.
Пока мать кипятила воду для чая, Итянь не торопясь бродил по комнате. Он вдыхал знакомый запах — чеснока, пыли и работы. Комнаты мать по-прежнему содержала в чистоте. Вдоль стен все те же полки с выстроившимися на них банками с соленьями, рядом висят разделочные ножи и доски да старые, некоторые еще восьмидесятых годов, календари. В центре потрепанный постер — залитый таинственным светом горный пейзаж. Место, куда им никогда не попасть. Итяня поражала неприкрытая практичность этого жилища, так не похожего на американские дома, где главное — возможность уединиться и личное пространство. Услышав впервые словосочетание “жилая комната”, он, помнится, растерялся, ведь на самом-то деле все элементы жизни — стряпня, еда, сон — прятались за дверями. Настоящая жилая комната здесь — в этом старом доме, где ее никто так не называет, да тут и понятия такого просто нет.
Они с матерью уселись пить чай. Стоявший посреди комнаты стол был таким высоким, что Итянь чувствовал себя коротышкой. Мать неловко примостилась сбоку на деревянной скамье — она никогда не позволяла себе толком отдохнуть. Итянь неожиданно подумал, что последние несколько дней мать живет в этом доме одна — впервые в жизни одна.
— Па... — начал было он, и из глаз матери тут же брызнули слезы. — Никаких новостей?
Она покачала головой.
— У нас в деревне все знают. И в городке рассказали. Я постаралась, чтоб побольше народа узнало. Но никто ничего не слышал. — Она нервно теребила завязку фартука. — И за что только твоему отцу все это?
— Мы его отыщем. — Уверенность звучала притворно, он и сам это слышал.
Итянь ничего не знал о том человеке, которым за эти годы стал отец. И как все теперь устроено в стране, он тоже не знал. Практической помощи ждать от него бессмысленно. Зачем он вообще приехал и как собирался помочь? Он тут всего-то пару часов, но уже ясно, что место это разрослось, что появилось пространство, где немудрено и затеряться.
— Я тут прикинул, как поступить. Может, сначала обратимся в полицию? — предложил он.
— В полицию?!
— Ну да. Подадим заявление. А они нам помогут.
— По-твоему, они там для этого сидят? Даже если ты придешь к ним без проблем, то там тебе их непременно найдут. Ты и впрямь слишком долго в Америке живешь.
— Но они, по крайней мере, с другими городами свяжутся. Разве нет?
Мать фыркнула:
— Ты думаешь, они там что, работают? Обзванивают другие города?
— Ладно, а что ты предлагаешь?
Мать не ответила, и он снова заговорил:
— Если ничего не выясним, давай все же поедем в полицию и подадим заявление. Они хотя бы в курсе будут. Заранее же не скажешь. В сельсовете еще есть тот фургончик?
— Смотри тут такое не скажи, засмеют ведь. Сейчас это называется “управа”.
Итянь остро ощущал свою чуждость. Он уже собирался расспросить мать, что еще теперь называется по-новому и как ему скрыть свою неосведомленность, но со двора донеслись шаги. Он вскочил. Мали оказалась права — надо было лишь немного подождать, и отец объявился сам.
— Вот и ты! — воскликнул возникший на пороге мужчина.
Щупленький и бодрый, он был намного ниже отца Итяня, но такой же громогласный, разве что в голосе вместо требовательной строгости звучала благодушная непринужденность.
— Ох... — вырвалось у Итяня.
Стараясь унять подпрыгнувшее сердце, он скрестил на груди руки в надежде, что никто не заметит сковавшего его напряжения. Эта внезапная окаменелость случалась редко, зато если уж нападала, то внезапно и безжалостно. Заправщик на бензоколонке как-то знакомо ссутулил плечи — понурая фигура, голова опущена, щетинистый подбородок в тени. На какой-то миг он увидел отца: вот тот, ссутулившись, затягивается подобранным с земли окурком; вот, подобрав ногу, на которую прихрамывает, привалился к стене, чтобы немного отдохнуть. От этих картин Итянь замирал. Одного-единственного жеста хватало, чтобы отправить его в прошлое.
Однако лицо гостя казалось смутно знакомым. Итянь силился разглядеть под морщинистой кожей привычные черты.
— Ты ж меня не забыл, да?
— Что за глупости! Разве Дядюшку забудешь? — встряла мать.
Ну конечно, как он мог его забыть. Этот человек с изборожденным морщинами плутоватым лицом — один из немногих отцовских друзей, если их вообще можно так называть. Двоюродный дядюшка Тан. В детстве Итянь видел его неизменно в тусклом свете лампы, вечером, когда Дядюшка с отцом выпивали или играли в карты и дом, прочие обитатели которого старались держаться от этой парочки подальше, сотрясался от приступов хохота. Днем Дядюшка таинственным образом исчезал. Его даже прозвали Янезнаю — именно так отвечала его жена, когда за Дядюшкой приходили из сельсовета.
— Кое-кто нашептал, что в наши снежные края приехал чужестранец с красивым чемоданом. Вот я и пришел у твоей матушки справиться, может, она чего знает.
Мать принесла чаю и подсолнечных семечек, а сама уселась на трехногий стул возле двери и принялась растирать колени. В присутствии гостя-мужчины она за стол не садилась.
— Даже не верится. Наш самый знаменитый земляк, Итянь Тан, домой вернулся. Ты приехал из-за отца, да? — Дядюшка сокрушенно покачал головой: — Чудные дела...
— А у вас какие-то соображения есть? — спросил Итянь. — Лучше вас его разве что Ма знает.
— Честно говоря, мы в последние годы мало общались. Он стал... — Старик запнулся и посмотрел на мать Итяня.
— Одиночкой, — подсказала она, — все больше особняком держится.
“Одиночкой”. Странно, что она выбрала именно это слово. Сама идея одиночества предполагает потребность в других людях, а для отца такие сложные чувства были несвойственны. Он играл с Дядюшкой в карты и выпивал, потому что эти занятия доставляли ему удовольствие. Если он и здоровался на улице с соседями, то лишь потому, что в деревне так принято.
— Па не из тех, кого называют одиночкой.
— Люди меняются, — Дядюшка пожал плечами, — посмотри на меня. Сколько лет жизни я потратил впустую! Пил, в карты играл! Я мог бы прожить совсем другую жизнь. А вот ты, — он наставил палец на Итяня, — ты всегда знал, чего хочешь от жизни. Твой отец в тебе ошибался. Сейчас мы все это видим.
Итянь было запротестовал.
— И такой скромник. Рядом с тобой, Тан Итянь, нам всем стыдно.
Итянь заметил, как мать гордо выпрямилась.
— У твоей матери была одна догадка, — сказал Дядюшка, — верно ведь?
— Ох, даже и не знаю... — Она покачала головой и уткнула взгляд в колени.
— Ма, у тебя и правда какие-то соображения есть? Ты вроде сказала, что нет.
Мать, словно школьница, вжалась от смущения в стенку и забормотала:
— Да не знаю даже. Но я тут подумала, что если твой отец и жил где-то кроме нашей деревни, то это в армейских казармах. И он столько рассказывал про тогдашнее свое житье-бытье. Может, ему захотелось на старости лет еще раз на казармы те глянуть. Посмотреть, не изменилось ли там все.
— Он в последнее время говорил о том, что собирается туда?
— Что собирается — нет, а вот старые свои байки рассказывал. Он то и дело их вспоминал.
— Я слыхал, там все уже упразднили, — сказал Дядюшка.
— И я такое слыхала, да, но здания-то остались. Возможно, ему просто захотелось на них взглянуть.
Предположение матери рисовало образ куда более сентиментальный, чем тот человек, которого помнил Итянь. Однако других версий у них все равно не имелось, к тому же, если они начнут разрабатывать эту, появится ощущение полезности — все лучше, чем беспомощно сидеть дома.
— Ладно, — согласился Итянь, — сначала съездим в полицию, а после и про казармы подумаем.
— В полицию? — изумился Дядюшка.
— Он думает, в полиции ему помогут.
Дядюшка расхохотался и шлепнул себя по ляжкам. “Да что они вообще понимают? — подумал Итянь. — Мать даже читать не умеет, Дядюшка — деревенский пьянчужка, что бы он там ни говорил”. Мысль о том, что он примется рыскать по провинции в одиночку, без поддержки государственных служб, пугала Итяня. Отправиться в путешествие не пойми куда, не оставив предварительно заявления, — нет, такое у него в голове не укладывалось.
— Ладненько, пора нам пообедать, — сказала мать.
Она предложила Дядюшке поесть с ними, но тот покачал головой:
— Тетушка у меня тоже обед стряпает. — Он повернулся к Итяню: — Зайди к ней повидаться, пока ты здесь. Если время будет.
— Да, ты ведь давно ее не видел. Мы завтра придем, — сказала мать.
— Не уверен, что получится. Нам же надо Па искать...
Лицо у Дядюшки оскорбленно скривилось, и Итянь осекся.
— Ну да, ясное дело. Ты сейчас человек занятой, — сказал Дядюшка.
Когда Дядюшка вышел за дверь и уже точно не мог услышать, мать резко сказала:
— Ты чего грубишь? Это тебя в Америке научили так с людьми разговаривать?
Итянь забыл, насколько в этом мире пекутся о хороших манерах, жертвуя срочностью и логикой в угоду этикету. Даже если он действительно тревожится об отце, говорить об этом вслух не следует. Правильно было бы принять приглашение и не приходить — подобное более приемлемо. В Америке, он не сомневался, в такие моменты и речи не идет о вежливости. Впрочем, его отец тоже без зазрения совести выпроводил бы гостя, будь у него дела поважнее. Отец имел привычку говорить начистоту и ставить собственные желания превыше всего. По ночам, порядком нагрузившись, он просто вставал из-за стола и, не обращая внимания на гостей, валился в постель. Порой он даже тапки забывал скинуть, и они повисали на кончиках пальцев. Матери Итяня приходилось прощаться с гостями и сглаживать ситуацию, отчего позже по деревне поползли слухи на ее счет.
— Прости, Ма. Просто я не знаю, как долго смогу здесь пробыть.
Итянь подошел к матери, которая мыла в раковине чашки, и собрался взять ее ладонь. Так он обычно успокаивал Мали. Однако его тело тут же налилось тяжестью, пропиталось волнением — он вспомнил про местные традиции, ведь согласно им следует держаться на расстоянии от других людей. Никаких прикосновений тут не практикуют.
— Не знаешь, надолго ли приехал? Это почему?
— Я говорил с деканом факультета... — Итянь умолк.
Она все равно не поймет, если он пустится растолковывать, почему ему надо вернуться на работу и что такое ограниченный отпуск. Декану он солгал, сказав, что его отец серьезно заболел. На это декан, пожилой уже человек, за много лет не написавший ни единой стоящей научной работы, заверил его, что возвратиться он может, когда сам посчитает нужным.
Мать закрутила кран и спросила:
— Мали как, здорова?
Ма старалась говорить непринужденно, но Итянь чувствовал, что все это время ей не терпелось задать этот вопрос. Каждый раз, когда он звонил ей, она повторяла одно и то же. Он знал, о чем она спросила бы, будь у них более доверительные отношения. Почему Мали до сих пор не подарила ей внуков? Иногда он слышал, как американцы, его ровесники, шутят — мол, их родители ждут не дождутся внуков. Он сочувствовал им, хотя, судя по рассказам, этим родителям далеко до его матери, для нее это желание было по-настоящему глубоким, самым главным в жизни. Когда его родители прожили в браке столько лет, сколько сейчас — они с Мали, и сам Итянь, и его брат уже готовились в школу пойти. В те времена деторождение представляло загадочную, но естественную часть жизни, а не тот непонятный и сложный процесс, каким оно кажется сейчас.
— Мы подождем, пока толком не обоснуемся тут, — отвечал он матери, когда они с Мали только переехали.
Подсчитывая, сколько денег у них оставалось после расходов на квартиру, еду и аренду машины, он не представлял, как втиснуть в бюджет еще какие-то траты.
— Скоро займемся, — отвечал он матери потом, словно ребенок, отчитывающийся о домашнем задании.
Первые неудачи он списывал на невезение, но сейчас, спустя еще два года, их с Мали сомнения пустили глубокие корни. Очередное медицинское направление в клинику планирования семьи висело на холодильнике больше месяца, но они им так и не воспользовались.
Итянь делал вид, будто не замечает материнских намеков. Он знал, что пока он сам на откровенность не идет, мать ни за что не скажет, что ей хочется внуков. Он отвечал лишь, что у Мали все хорошо. Эта привычка уклоняться, имевшаяся у каждого из них, укоренилась так прочно, что едва ли не превратилась в инстинкт: все старались не говорить о темах неприятных и тревожных. Даже с Мали они избегали обсуждать визиты к врачу. В последний раз, когда у них почти затеплилась надежда, — это было больше года назад — Итянь вернулся однажды вечером домой и обнаружил Мали в ванной, она сидела на опущенной крышке унитаза и плакала, потому что у нее начались месячные. Он и не помнил, чтобы прежде она плакала. Выглядела Мали пристыженной. Сперва она спрятала лицо в ладонях, а после вытолкала Итяня из ванной и закрылась внутри, так что пришлось разговаривать с ней через дверь.
— Ничего страшного. Для меня ребенок — это неважно, — бормотал он, глядя на равнодушную дверь.
Итянь не лгал, он ведь и направление в клинику получил не из желания завести ребенка, а по инерции, полагая, что ребенок — признак того, что жизнь движется вперед.
— Зато для меня важно. — Мали распахнула дверь, и он увидел, что лицо ее искажено гневом. — Как ты не понимаешь?!
— Посмотри на меня, — проговорила мать, — когда-то не было в поле женщины сильней меня, — она протянула ему руку, — но в последние годы я сделалась такой неуклюжей. Несколько недель назад резала сухую траву на растопку, и рука вдруг сорвалась. Ты только представь! Прежде я бы такой ошибки ни за что не допустила.
Эту историю про то, как рука у нее сорвалась и она порезалась, Ма еженедельно повторяла по телефону. Она подняла руку, показав Итяню белый неровный шрам рядом с глубокой линией жизни. Итяня поразило, какая у Ма грубая кожа. Его собственные мозоли давно сошли, и ладони у него были мягкие и беззащитные.
— Поэтому мне повезло, что у меня есть сын, который деньги присылает. Иначе кто бы позаботился обо мне, старухе? Подумай о своем будущем. Вот поэтому дети — это очень важно. — Мать вздохнула. — Хотя жизнь у нас была тяжелая, Небеса оставили нам тебя.
Даже не глядя на мать, Итянь знал, что она смотрит на стену над платяным шкафом, где висели два черно-белых портрета — дедушкин и брата. Подле фотографий курились яблочные и мандариновые благовония. К таким вещам мать относилась ответственно. Религиозной она себя не считала, но полагала, что лучше уважить всех покровителей жизни и удачи.
На снимке лицо у брата было еще по-детски припухлым. Впоследствии на смену этой припухлости придет волевой подбородок, благодаря которому брата будут считать привлекательным. К моменту смерти лицо его уже огрубело, еще пару лет — и он превратился бы в мужчину, увидеть которого им так и не довелось. Дедушкин портрет рядом с фотографией Ишоу был старым и выцветшим. Итяню казалось, будто неровные, свисающие до подбородка усы и ясный, вдумчивый взгляд свидетельствуют об учености. Мужчина на фотографии, пускай даже и выцветшей, словно готов был того и гляди открыть рот и прочесть подробную лекцию об истории империи. Эти два портрета, висевшие рядом, представляли странное зрелище, в настоящей жизни ни разу не состоявшееся. Брат и дедушка почти не разговаривали друг с дружкой, не из-за разногласий, просто жизненные пути их пролегали по-разному, да и представления о мире не совпадали. Дедушкиным любимчиком был Итянь.
Итянь перевел взгляд на лицо матери. В собственном доме она напоминала усталого путника. У нее нашлось бы немало поводов для упреков, но в ее глазах он ничего такого не увидел. И испытал досаду. Упреки вынести легче, чем эту готовность простить.
— Пора обедать, — сказала мать, приподняв крышку и выпуская из котла облачко пара.
Она посмотрела на полку, на предмет, который Итянь до этого не замечал. За банками почти спрятались маленькие часы — блестящий стеклянный циферблат в деревянном корпусе с вырезанными орхидеями.
— Ма, неужели тебе теперь часы нужны? Мы всегда думали, у тебя в голове собственные часы.
Мать обычно определяла время по солнцу.
— Они мне нужны, чтобы знать, когда твоего звонка ждать.
Ну разумеется, телефонный узел — единственное место, где время, в отличие от всей прочей деревни, не является понятием растяжимым и относительным. Итянь звонил каждое воскресенье ровно в восемь, то есть в четыре часа вечера предыдущего дня по Америке. Наверное, кто-то из соседских детей нарисовал матери схему — на каких цифрах должны быть часовая и минутная стрелки. Цифры относились к тем немногим письменным символам, которые она понимала.
— Я их купила на те деньги, что ты прислал.
Мать поставила блюда с рисом и тушеной курицей на стол, но Итяню пришла в голову другая мысль:
— Давай снаружи поедим?
Он взял палочки, положил в миску рис и курицу, прижал миску к груди и тремя пальцами другой руки подхватил тарелку с маринованными овощами. Мать последовала за ним. Они вышли во двор. Итянь смахнул снег с камней у порога и сел. Отовсюду ползли ароматы еды: жители деревни готовились обедать. Сколько же раз он вместе с Ишоу обедал здесь вот так, глазея на возвращающихся с поля мужчин с закинутыми на плечо мотыгами и здороваясь с ними. Вскоре и соседи выйдут и тоже усядутся у дома обедать. Будут болтать, но и молчать подолгу, вот как сейчас они с матерью, потому что в такие минуты еда — превыше всего. И это тоже своего рода проявление близости.
глава 3
октябрь 1977
Итянь сидел на старой деревянной табуретке под навесом и смотрел, как умирает дедушка. Мальчик несколько месяцев подряд приходил сюда и, устроившись посреди ржавой рухляди и мешков с высушенным зерном, читал книги и прислушивался к дедулиному слабому дыханию. В самом начале болезни они еще беседовали, но месяцы шли, и Итянь больше не мог не замечать ухмылки смерти. Спустя много лет в забытом углу университетской библиотеки он отыскал в медицинском словаре небольшую статью, посвященную раку печени, там последние дедушкины дни уместились в короткие абзацы, однако в детстве происходящее казалось таинством. Они столько раз вызывали знахаря, что дом пропах горькими целебными травами, и тем не менее дедушкины глаза все равно пожелтели, словно пропитанные солнечным светом, а кожа высохла и посерела.
Каждые несколько минут Итянь поднимался и растирал накрытые стеганым одеялом холодные ноги деда. Прежде эти ноги мальчик порой задевал во сне — когда они с дедом спали рядом на узкой деревянной койке, ложе это они делили семнадцать лет. Ишоу спал на тюфяке возле маминой кровати, чтобы защитить мать, если к ним влезет злоумышленник. По ночам все четверо дышали по-разному, будто исполняя одновременно четыре разные песни. Затем дедушка заболел, его переместили под навес, и в комнате осталось лишь три голоса. Дедушка уже много месяцев не рассказывал Итяню никаких историй, поэтому теперь, лежа ночью в одиночестве на койке, Итянь думал, что его собственное тело утратило самую важную свою оболочку.
Первую историю Итянь услышал летней ночью, в шестилетнем возрасте, в тот же год, когда мать обрезала ему младенческую косичку. Влажный воздух не давал уснуть, мальчик несколько часов подряд ерзал рядом с дедушкой в кровати, и уже далеко за полночь, чтобы внук не елозил, дед сжал его ноги шершавой ладонью.
— Я тебе рассказывал про первого Желтого императора? — спросил дед.
Итянь стукнул ногой о бамбуковую подстилку.
— Для нашего народа эта история самая важная, и тебе тоже надо ее знать! — И дед пустился рассказывать: — Желтый император родился на вершине Холма долголетия, в самом его высоком месте, куда всегда попадает молния. Он был сыном фермера, из обычной семьи. Жили тогда в их краях шесть удивительных тварей, изводивших их народ... — Но вскоре дедушка сказал: — Я уже очень старый и быстро устаю. Дальше расскажу завтра.
Итянь не заметил, сколько прошло времени. Поглощенный рассказом, он не двигался, боялся отвлечься и упустить что-то из дедушкиного рассказа. Он напрочь забыл о кусачих комарах, о прилипших к потному лбу волосах, о том, что горячий воздух, похоже, навсегда таким и останется. Но он так и не заснул и жаждал услышать продолжение. Мальчик словно наяву видел Желтого императора, который придумал, как победить хитрых тварей. Итяню не терпелось узнать, что случилось дальше и увенчалась ли затея императора успехом.
— Пожалуйста, расскажи! — взмолился он.
— Если ты сейчас заснешь, завтра я расскажу тебе все до конца.
Следующим вечером Итянь припомнил деду его обещание. Дедушка продолжил рассказ: Желтый император научил людей строить убежища и одомашнивать скотину, отчего народ стал процветать.
— А дальше что было? Еще случилось что-нибудь страшное?
— Завтра узнаешь. — Дедушка зевнул и перевернулся на бок.
Про Желтого императора дедушка рассказывал восемь дней, а затем последовала новая история — про его преемника, Юя Великого. Спустя месяц они добрались до династии Хань. И таким вот образом за триста шестьдесят пять вечеров они преодолели четыреста семьдесят лет истории.
Дедушка продолжал рассказывать, пока не поведал внуку все двадцать четыре “Династийные истории”, охватывающие события пятисотлетнего периода. Дедушка знал их наизусть — заучил на всякий случай. Полагаться на записанные на бумаге слова ненадежно, говорил дед. Книги легко уничтожить. Порой военные, иногда японцы, но чаще наши же, китайцы, решаются на предательство, совершают набег на деревню и забирают всех мужчин. Поля они не трогают, а вот книги сваливают в кучи и сжигают. Даже эти безграмотные невежды понимают, насколько сильна власть слов. На протяжении столетий истории и рассказы сжигались, затем люди придумывали и записывали новые, а потом и их предавали огню. Память — единственное место, где словам ничего не угрожает. Дедушка хотел передать истории Итяню, чтобы они продолжали жить в памяти другого человека. Подобно разлитой по чашкам воде, рассказы сохранятся для будущих поколений.
Закончив рассказывать про историю страны, дедушка принялся за собственную историю. Восемь столетий назад его далекие предки впервые пришли на эти земли. Они брели по дорогам иссушенной провинции Хэнань и добрались до дельты реки Янцзы, где земля под их ногами была черная и влажная. В те времена люди протаптывали собственные дороги и в мире хватало неизведанных мест. Предки все шли и шли, пока вместо зарослей папоротника вокруг не загорелись цветы беламканды. И тогда торопливо, поднимая пыль, они спустились с холма в долину, и к вечеру, когда отовсюду начал наползать туман, они сложили на землю пожитки и решили остаться. Дело было весной, и им казалось, будто здесь их ждет удача — так чудесно цвели вокруг платочные деревья, и голуби, размахивая, словно платочками, крыльями, порхали у них над головами, и журчала в притоке большой реки тихая вода, пробившая себе путь через эту плодородную землю. Двадцать три поколения станут возделывать ее и кормиться ею — землей, порой плодородной, как в день их появления здесь, а порой — иногда в течение нескольких лет — сухой и бесплодной. И все же это их земля. Продлись их путь еще на несколько месяцев, и они достигли бы побережья, где намного позже возникнут самые процветающие в стране города. Но случай привел их сюда.
Это событие считалось самым значительным в истории их рода, выбитой на могильных плитах и запечатленной в семейных храмах. Столетиями камни хранили прошлое, пока в стране не развернулись кампании, целью которых было уничтожить старую историю и сотворить новую, выгодную нынешним правителям.
Итянь слушал дедушкины предостережения о том, какой опасности подвергаются книги, и ему хотелось тотчас же броситься их спасать. Его тянуло спрыгнуть с кровати и построить крепость, где книги будут в безопасности. По мере того как он рос, отношение его к рассказам деда становилось все более практичным: он ловил каждое дедушкино слово, стараясь запомнить все до единого. По дороге в школу или работая в одиночестве в поле, Итянь вполголоса пересказывал дедовы истории. Ему хотелось сберечь их, не позволить деду исчезнуть. У него была неплохая возможность прочно запечатлеть их в памяти — к тому моменту, когда дедушка заболел, они совершили четыре полных и четыре пятых круга по дедушкиным рассказам.
Деревенские жители часто говорили, что его дедушка совсем не похож на крестьянина. Тощий, ходил он необычно — скрестив руки на груди, совсем не так, как другие, те размахивали руками, шагали широко, одновременно решительно и неуверенно. Как-то раз одна женщина нашла в закромах подбитое ватой одеяние, в каких ходят грамотеи, и в шутку отдала его дедушке. Тот облачился в него, и вид у него сделался настолько внушительный, что ни у кого не хватило духу засмеяться. Лишь Итянь шепнул деду:
— Ты как будто только что из Пекинского университета!
Но он был рад, что дедушка живет здесь, в их маленькой деревне, пускай даже он остался тут ценой несбывшихся желаний юности, когда дед мечтал уехать в столицу учиться. К тому же сам Итянь вовсе не считал, что дедушка не похож на крестьянина. По ночам, разглядывая дедушкино тело, он замечал, как оно сложено, видел проступающие мышцы, натянутые сухожилия. Но за месяцы болезни и мышцы, и жилы истончились, ушли в небытие.
Когда Итянь положил ладонь на костлявую грудь деда и обнаружил, что грудь не поднимается, он первым делом попытался вспомнить, сколько времени прошло с последнего дедушкиного вздоха. Для Итяня этот вздох остался незамеченным — словно листок, опустившийся на ворох собранной в кучу октябрьской листвы. Он дотронулся до дедушкиной руки, уже заледеневшей. “Я сидел тут все это время, — подумал он, — но где свидетельство моей заботы?”
Он не стал звать ни мать, ни брата. Вместо этого он приподнял одеяла и улегся рядом с дедом, головой к дедушкиным ногам, как они спали всегда. Так их и обнаружили мать с братом, когда пришли проведать. Самое верхнее одеяло много лет назад подарили на свадьбу его родителям. И там, где на ткани алел вышитый символ богатства, слезы Итяня оставили мокрое пятно.
Мать пощупала дедушку, а Ишоу помог Итяню подняться.
— Пойдем, — сказал брат.
Итянь чувствовал, как брат осторожно потянул его одной рукой за запястье, а другой обхватил за спину, и позволил довести себя до скамьи в доме. Словно в оцепенении, Итянь наблюдал, как брат набрал воды из бочки и вскипятил ее. Он и не замечал холода, пока пар от воды, вылитой на раскаленные кирпичи очага, не пополз по комнате, наполняя ее теплом. Но вряд ли же он дрожит от холода, ведь все это время он пролежал под одеялами? Потрясенный, он чувствовал на лице горячее полотенце и пальцы Ишоу, растирающие сквозь ткань его глаза и нос с засохшими под ним соплями.
Протерев брату лицо, Ишоу тихо вышел из комнаты. Итяня переполняла признательность — и за нежность брата, и за то, что он оставил его одного. Итянь хотел отгоревать в одиночку. Ишоу не оплакивал дедушку и не понял бы глубину скорби Итяня — нет, единственным человеком в семье, кто по-настоящему понимал его, был именно дед, это его истории открыли Итяню мир за пределами их собственного, крохотного. Итянь вспоминал дедушкины рассказы с небывалым прежде упорством. Сберечь их — его долг перед дедушкой, потому что больше Итяню от него ничего не осталось.
глава 4
Весь вечер Итянь прождал на набережной, на самом высоком месте тропинки, в надежде высматривая вдали Ханьвэнь. Обычно они встречались здесь в пятницу по вечерам, но на прошлой неделе умер дедушка. Целую неделю Итянь тосковал по Ханьвэнь, и сейчас больше всего на свете ему хотелось поговорить с ней, но в некоторые вечера, когда работы было особенно много, Ханьвэнь не могла уйти.
Он посмотрел на два мешка с арахисом, которые принес с собой. На вопрос матери, что он такое творит, Итянь ответил, что закончит перебирать орехи на улице. Он надеялся, что недавняя смерть дедушки станет в глазах матери оправданием странным поступкам сына. Они оплакивали покойного столько, сколько полагается, после чего мать вручила Итяню джутовый мешок, набитый только что собранным арахисом, и заявила, что пора приступать к работе.
День уже клонился к закату, и Итянь осознал, как мало он успел сделать. Он ускорил работу, поспешно набирая пригоршни неровных орехов, не останавливаясь даже для того, чтобы вычистить грязь из-под ногтей или стряхнуть налипшие на скорлупу кусочки глины. Будь здесь мать, она непременно отругала бы его за такую работу. Пока не было отца, работать Итяня учили мать и брат. Мать проверяла, достаточно ли он собрал навоза и далеко ли ходил за ним, она же наблюдала, как он таскает из колодца ведра с водой — ровно ли шагает и не
