Грициан Андреев
Утроба войны
Том 1
Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»
© Грициан Андреев, 2026
Война здесь — не фон и не хроника. Она смотрит, дышит и пожирает. Окопы превращаются в пасти, туман скрывает не только врага, а земля требует платы за каждый шаг. В этом сборнике нет героев — только люди, загнанные в живую утробу кошмара, где смерть не самое страшное.
«Утроба войны» уже раскрыта. Назад пути нет.
ISBN 978-5-0069-1069-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Оглавление
Война — это не только грохот артиллерии, лязг гусениц и сухие сводки потерь. Это живой, дышащий организм. Древний и вечно голодный.
Мы привыкли думать о поле битвы как о территории, которую нужно захватить или удержать. Но что, если земля под ногами солдат — это не просто глина и камни? Что, если окопы — это не шрамы на теле планеты, а раскрытая пасть, жаждущая свежей крови?
В этом сборнике нет места подвигам в сияющих доспехах. Здесь герои — обычные люди, брошенные в жернова истории, где грань между реальностью и кошмаром стирается быстрее, чем затихает эхо выстрела. Здесь, в густом тумане и сырых блиндажах, обитает то, что страшнее вражеской пули.
Добро пожаловать в «Утробу войны». Она уже открылась. И она ждет тебя.
Книга содержит сцены экстремального насилия и не рекомендуется впечатлительным людям
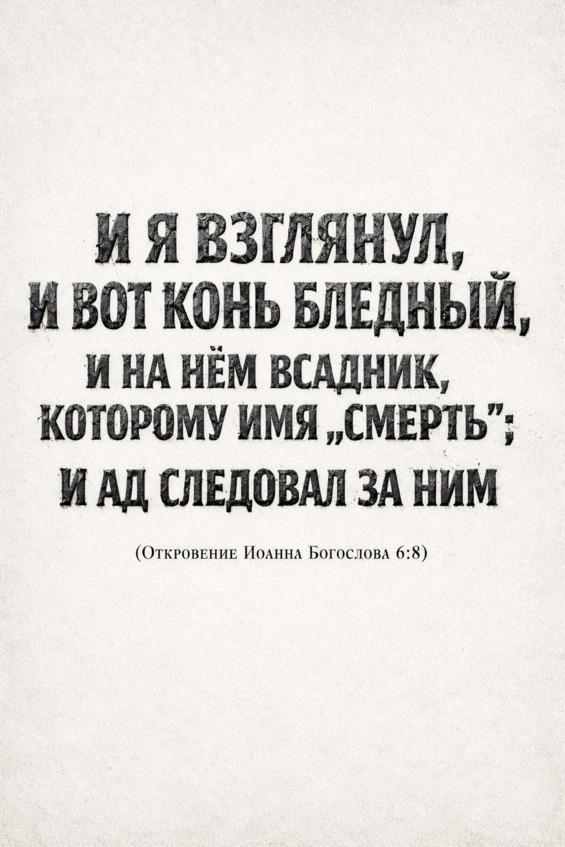


МЯСОРУБКА ГОСПОДНЯ
Глава I: О Затмении Солнца и Плаче Земли
— И было утро, но света не стало. Ибо восстали дымы от края и до края земли, и свились они в саван черный, и закрыли очи Господа, дабы не видели они срама творения Его. И воздух стал густ от пепла, словно прах сожженных городов осел в легких живых.
— И увидел я горизонт, опоясанный огнем, словно пасть геенны разверзлась, чтобы пожрать мир. И не было там ни тишины, ни гласа человеческого, а лишь единый, непрерывный рев, от которого лопались перепонки и вытекала душа через уши.
— И содрогнулась твердь земная, ибо били по ней молоты невидимые. И там, где стояли горы, стали ямы, а там, где были реки, вскипела вода и обратилась в пар, оставив русла сухими и полными мертвой рыбы.
Глава II: О Железных Легионах и Огне Небесном
— И вышли из мглы звери железные, числом как песок морской. И была чешуя их из брони каленой, и хоботы их извергали гром. И шли они стеной, перемалывая леса в щепки, а города — в щебень. И не было спасения от поступи их, ибо тяжесть их вдавливала мертвых в грязь, делая их частью дороги.
— И взглянул я на небеса, и увидел там не ангелов, но хищных птиц из металла и пламени. И крылья их резали облака, и чрева их разверзались, исторгая дождь огненный. И падал тот дождь на плоть, и плоть текла, как воск от свечи, и крик тысяч глоток сливался в единый псалом безумия.
— И горела земля, и горел камень, и горел сам воздух. И те, кто прятался в норах бетонных, запекались заживо, как хлеба в печи дьявольской, и кости их становились белее снега в черном жару.
Глава III: О Великой Жатве Плоти
— И погнали пастухи стада свои на убой. И шли полки на полки, лицом к ли
цу, штык к штыку. И столкнулись они с силой великой, и брызнула кровь до самых звезд, оскверняя небосвод.
— И видел я, как отрывались руки, держащие оружие, и как головы, лишенные тел, катились по склонам, продолжая беззвучно кричать. И нутро человеческое, сокрытое прежде, стало явным, и кишки путались под ногами, как корни деревьев ядовитых.
— Ибо работала Мясорубка без устали. И перемалывала она юных и старых, грешных и праведных. И не разбирал осколок, где сердце героя, а где печень труса — всё рвал он в клочья багровые.
— И стал окоп долиной смертной тени. И живые строили брустверы из тел павших братьев своих, и прятались за трупами, и стреляли из-за мертвых плеч. И пили они воду из луж, что были красны от соков жизни, и ели хлеб, посыпанный порохом и землей могильной.
Глава IV: О Триумфе Смерти
— И настал час, когда стерлись грани. И не стало больше армий, и не стало знамен, ибо все они почернели от копоти и крови. Было лишь месиво, кишащее червями людскими, что грызли друг друга во мраке.
— И ударил залп такой силы, что показалось, будто небо упало на землю. И поднялся гриб дымный, выше гор, и свет его был ярче тысячи солнц, но свет тот был мертвый и холодный. И те, кто смотрел, ослепли, а те, кто был рядом, обратились в тени на стенах.
— И наступила тишина. Но не та тишина, что дарует покой, а та, что звенит пустотой в ушах мертвеца.
— И прошел я по полю тому. И видел я горы тел, сложенные в зиккураты, восходящие к престолу Сатаны. И текли реки багряные, сливаясь в моря, и не могла земля больше впитывать дар этот страшный.
— И понял я: здесь, на поле сем, умер не только Человек. Здесь умер Бог, не вынеся зрелища сего. И осталась только Мясорубка, вечная и бесконечная, вращающая жернова свои во тьме внешней, где скрежет зубовный есть единственная музыка бытия.

ПЕТЛЯ МОРРИГАН
Карл Фогель проснулся от того, что обморожение грызло его пальцы на ногах. Снова. Та же тупая боль в левом плече, где врезался ремень винтовки. Тот же запах сосновой смолы. Тот же проклятый рассвет. Он сплюнул в грязь у края окопа, наблюдая, как слюна замерзает, не долетев до земли.
Четыре часа до того, как голова Шмидта взорвётся. Пять минут спустя Баур подставит ногу под ту мину, чуткую к малейшему весу, у рощицы берёз. Пальцы Фогеля пробежались по затвору Маузера 98k, в девятый раз (или десятый?) запоминая каждую царапину. Туман полз между деревьями, словно живой дым, пожирая расстояния целиком. Он моргнул, и на миг увидел горло рядового Йегера, разорванное осколками, которые ещё не вылетели из снаряда. Видение исчезло с дрожью.
Внезапный хлопок разнёсся эхом, но слишком рано. Фогель дёрнулся, ожидая предсмертного хрипа Шмидта. Вместо этого из тумана вывалился капрал Дрешнер, прижимая руку к кровоточащему бедру. Что-то новое. Такого ранения не было. Никогда. Ни в одном из циклов. Прицел Фогеля взлетел вверх, обшаривая опушку леса. Тени плясали там, где их быть не должно. Дрешнер рухнул рядом, хрипя о «призраках в тумане», прежде чем захлебнуться кровью. Фогель стёр алые брызги с щеки. Холодная. Слишком холодная для свежей крови.
Наверху вороны кружили молчаливыми стражами. Их чёрные крылья рассекали дымку, а тени скользили по снегу, оставляя за собой чернильные узоры. Фогель следил за ними: один, два, три. Всегда три. Сегодня появился четвёртый, издав хриплый, надрывный крик, что вспорол нервы, обнажив до трепещущей, кровоточащей плоти. Внизу завопил Бауэр. Мина сдетонировала. Чётко по расписанию. Но Фогель замер. Сквозь редеющие клочья тумана он мельком увидел англичанина у берёз. Не лежащего мёртвым. На коленях. Губы шевелились в безмолвных заклинаниях, пальцы выводили символы на инее. Воздух задрожал, точно натянутая струна.
Фогель нажал на спуск. Рефлекс. Пуля сорвала кору березы там, где мужчина должен был быть. Теперь — лишь пустая земля. Вокруг лишь окопы, и сапог Бауэра, дымящийся рядом с воронкой. Дрожа, Фогель перезарядил винтовку. Его дыхание клубилось клочьями призрачного пара, пропитанного едкой горечью паники. Тот шёпот… он змеёй вполз в череп.
Слова, будто осколки стекла:
Bris an lùb…
Разорви петлю…
Он знал гэльский? Нет. Услышал несколько циклов назад, когда пуля разорвала лёгкие Хартмана. Воспоминание ударило свежей раной.
Рядом захрипел Дрешнер. Фогель прижал грязную перчатку к ране на бедре, теплая кровь просочилась на замёрзшую грязь.
— Призраки? Говори яснее!
Глаза Дрешнера закатились.
— В-в воздухе… что-то царапнуло… укусило меня, — вырвалось из него судорожным хрипом, — как пауки… ползут… по жилам… — Зубы застучали в лихорадочном припадке, эхом отзываясь в стылой пустоте. Голова запрокинулась, точно сломанная ветвь под бурей, и замерла.
Мёртв. Раньше обычного.
Фогель вздрогнул. На горле Дрешнера зияли два проколотых отверстия с почерневшими краями. Не осколки. Не пули. Что-то… Укусило? В ноздри ударила кислая вонь гниения.
Четвёртый ворон сел на голую ветку сосны над головой. Его крик разорвал туман — резкий, скрежещущий.
Морриган.
Кровь Фогеля обратилась в ледяные иглы, что впились в вены. Он понял. Ворон склонил голову набок, и в его чёрных глазах, бездонных провалах, закружили галактики: спирали звёздного пламени, поглощаемые вечной тьмой, где рождались и умирали целые эпохи, шепча проклятия на языке забытых богов.
Внизу у замёрзшего ручья лейтенант Шмидт отдавал приказы. Фогель рванулся вверх.
— Шмидт! Ложись!
Слишком поздно. Раздался выстрел. Но Шмидт не упал. Вместо него с диким вращением повалился Майр, стоявший рядом. На его виске расцвёл багровый цветок. Шмидт закричал. Не тот, кто должен был умереть. Не в то время.
Прицел Фогеля метнулся к берёзовой роще. Истощённый англичанин теперь стоял неподвижно, закутанный в слишком просторную шинель, что свисала с его тощих плеч тяжёлым бременем. Туман вился вокруг его ног, точно верные псы. Губы снова зашевелились. Фогель напрягся: впился взглядом в эти потрескавшиеся, шепчущие губы. Иней кристаллизовался на щетине мужчины, пока он беззвучно складывал слова. Между слогами Фогель увидел: тень англичанина вытянулась противоестественно. Её пальцы превратились в когти. Они царапали не землю, а воздух, сдирая реальность, словно прогнившую ткань. На миг вспыхнула щель кричащей пустоты. Затем… исчезла. Тень резко сжалась обратно в человеческий облик.
Англичанин повернулся. Его глаза встретились с глазами Фогеля сквозь восемьсот метров дымки. Не человеческие глаза. Зрачки, как раздавленный янтарь. Фогель почувствовал на языке медный привкус. Отчаяние. И петлю, затягивающуюся на шее.
Крик Шмидта хлестнул по воздуху. Фогель вздрогнул. Лейтенант пошатнулся, хватаясь за грудь. Но крови не было. Ни входного отверстия. Только тень, та невозможная, жидкая тень, что отделилась от англичанина и поползла по снегу, словно пролитые чернила. Она текла в гору, вопреки гравитации, и поглотила Шмидта. Посреди крика. Посреди проклятия. Тело Шмидта растворилось. Растаяло? Нет, понял Фогель. Оно сложилось. Торс ввалился в позвоночник. Конечности перекрутились и съёжились. Перья проросли сквозь кожу. Мокрый, рвущийся звук, словно велькро, сдирающее мясо — эхом отозвался, когда кости хрустнули и перестроились.
Затем тишина.
Большой ворон вырвался из рассеивающегося дыма теней, издав тот же скрежещущий крик. Он взмахнул крыльями вверх, присоединившись к четвёртому. Теперь их пять. Всегда пять.
Сердце Фогеля колотилось в рёбрах, словно пойманная птица. Воздух дрожал от низкочастотного давления, и гул отдавался в коренных зубах. Шмидт исчез. Растворился в стае над головой. Но ужас был не в превращении. Ужас — в осознании.
Разум Фогеля трещал по швам. Он видел, как Майр умер неверно, Дрешнер умер слишком рано, а Шмидт умер… вовсе не умер? Петли распутывались. Капкан бога войны начинал смыкаться. Ловушка сжимала челюсти. Он уловил запах озона и тления. Услышал шёпот англичанина-друида, вплетённый в ветер.
Bris an lùb… Thoir naomh-chàin…
Разорви петлю… Принеси жертву…
Слово повисло в воздухе, колючее, как шип розы, впившийся в ладонь. Фогель замер, впиваясь взглядом в эту бездну: принести в жертву ли замёрзшую человечность свою, истерзанную циклами, или их — тех, чьи лица мелькали в тенях, как призраки, не угодные даже самой смерти?
Его прицел снова нашёл англичанина. Он стоял недвижимо, склонив голову к кружащим воронам. Одна рука вытянута, пальцы — когти. Иней вихрился вокруг ладони в замысловатых, невозможных фракталах. Ритуал. Незавершённый.
Суставы Фогеля побелели на прикладе Маузера. Он вдохнул: сосна, кровь, озон, воронья вонь. На этот раз он не выстрелит. Он будет смотреть. Он увидит узор в рунах друида из инея, дрожь в его проклятых пальцах. Вороны снижались, их тени ложились на снег, будто разлитая нефть. Пять теперь. Пять судей. Пять палачей.
Дыхание Фогеля сбилось. Он будет считать взмахи их крыльев. Он запомнит движения губ друида. От этого зависел следующий цикл.
Мокрый хрип отвлёк Фогеля. Рядовой Кляйст полз к окопу, волоча кишки по замёрзшим корням. Слишком рано. Кляйст всегда погибал, раздавленный пылающим чудовищем, танком Mark I, машиной-монстром, рождённой для богоубийства. Глаза Кляйста впились в Фогеля, вылезая из орбит от ужаса.
— Это не туман! — вырвалось из него хриплым, рвущимся на части клокотом, где слова тонули в алом пузыре, вздувавшемся на разбитых губах. — Он кусает! Он…
Слова растворились в крике, когда туман обвился вокруг его запястья. Не туман. Твёрдая тень. Тонкая и ядовито-чёрная нить. Она потянула. Рука Кляйста исчезла — чисто отсечённая, а потом возникла в воздухе, изуродованная в нечто дёргающееся и оперённое. Фогель зажмурился. Слишком быстро. Слишком неправильно. Когда он открыл глаза, Кляйста не было. Только россыпь чёрного пуха среди алого месива. Наверху пятый ворон издал насмешливый крик.
Морриган.
Воздух снова задрожал, глубже, зловеще. Фогель почувствовал тошноту. Он резко развернул винтовку к берёзовой роще. Пусто. Пульс стучал в висках. Где?
Тут — шёпот у самого уха. Холодное дыхание. Слова на гэльском, скрежещущие, словно камни в жерновах:
An-diugh chì thu…
Сегодня ты узришь…
Фогель крутанулся, приклад ударил в пустоту. Англичанин-друид стоял рядом, немыслимо близко. Уже не в форме. Плащ из сплетённых теней облепил его тощую фигуру, края расплывались в тумане. Эти разбито-янтарные глаза буравили душу Фогеля. От него пахло древней землёй и обожжённой костью.
— Ты истекаешь часами, — пробормотал друид, голос слоился эхом бесчисленных смертей. Палец Фогеля замер на спусковом крючке. Тогда он увидел главное. Истинную аномалию. В груди друида пульсировала полоска невозможной черноты, не камень и не металл, а пустота. Реальность расползалась по краям. Жертва. Слово закричало в черепе Фогеля.
Не человечность. Это. Ядро пустоты. Разбей его.
Друид улыбнулся, тонко и жестоко. Позади него снова закричал Бауэр, не от мины, а от тумана, что распускал его внутренности в визжащих воронов. Петля раскалывалась. Время вопило. Фогель бросился вперёд, не к винтовке, а к тёмному осколку в груди друида. Пальцы вытянулись. Холод, превосходящий всякое понимание, впился в плоть. Друид зашипел, звуком, будто трескающиеся ледники. Пять воронов одновременно ринулись вниз.
Рука Фогеля сомкнулась на пустоте. Боль вспыхнула в нём внезапным взрывом — раскалённая кузница, что безжалостно плавила кости и выжигала нервы дотла, оставляя лишь пепел агонии в венах. Зрение раскололось на зазубренные осколки, острые, как битое стекло: голова Шмидта взрывается в багровом вихре и… вот она снова цела, плоть срастается без шва; Дрешнер захлёбывается собственной кровью, густой и солёной и… вот он дышит, живой, с румянцем на щеках; роща берёз полыхает адским костром и… тут же нетронутый снег блестит под ней, девственно чистый.
Сквозь калейдоскоп умирающих времён Фогель увидел правду. То был не капкан. Это была мольба. Бог войны голоден, да. Но этот друид был его цепью, привязывавшей ужас к этому замороженному аду. Жертва означала разбить якорь.
Янтарные глаза друида встретились с глазами Фогеля. В них читался не триумф. Облегчение.
Древние шёпоты хлынули в его сознание:
Bris an lùb…
Разорви петлю…
С рёвом, вырванным из самых бездн души, первобытным, звериным, что эхом отзывался в трещинах разума, Фогель крутанул, вонзая пальцы в эту бездонную пустоту, словно клинок в сердце ночи. Ядро разлетелось в вихре осколков, как чёрный лёд под ударом молота богов. Треск его разорвал ткань реальности, сея паутину трещин в самом воздухе, где тени корчились и угасали в безмолвной агонии.
А затем…
Тишина…
Полная, поглощающая.
Обморожение исчезло. Туман замер. Вороны застыли в воздухе. Фогель уставился на руку. Не обожжённую. Не окровавленную. Перед ним осел друид, плащ теней распался в дрейфующий пепел. Там, где пульсировало ядро, остался лишь бледный шрам в воздухе, гудящий угасшей силой. Единственное воронье перо опустилось, легло на неподвижную грудь друида.
Петли разорваны.
Фогель втянул воздух, пахнущий лишь сосной и сырой землёй. Война продолжалась. Он слышал далёкую канонаду, но петля ослабла. Он поднялся. Внизу Шмидт выкрикивал приказы. Баур стоял целым и невредимым. Дрешнер поправлял каску. Без единой царапины.
Живые.
Фогель простёр пальцы к шраму в воздухе, трещине в ткани мира, где реальность истончилась до призрачной паутины, и коснулся его кончиками, дрожащими от эха былых бурь. Холодно, как дыхание забытой бездны, что лизнуло кожу. Пусто — бездонная пропасть, где эхом отдавались шаги тысяч неслучившихся смертей. Он знал цену этой тишины: она была вырвана из глубин его естества, цена — осколки души, что теперь звенели внутри, как разбитый колокол. И эта тишина внутри оглушала, тяжёлая, как саван, накрывающий разум. В ней не было покоя, лишь гул отсутствия, что пожирал эхо сердца.
Он спотыкаясь двинулся к роще берёз. Тело друида растворялось, сливалось с инеем. Только янтарные глаза остались, прикованные к Фогелю. Не обвиняющие. Примирившиеся.
Фогель опустился на колени. Кровь стучала в ушах, но шёпоты ушли. Ужас кончился. Странная пустота расцвела там, где раньше жил страх. Он взглянул на руки — руки, что убивали, что спасали. Они казались чужими. Свет преломлялся сквозь деревья, яркий и болезненно обыденный. Внизу Бауэр смеялся над шуткой Шмидта. Фогель вздрогнул. Звук был слишком громким. Слишком человеческим.
Он вспомнил проколотое горло Дрешнера, отсечённую руку Кляйста. Их жизни возвращены, но Фогель знал. Он нёс гниль каждой смерти. Его жертвой была не жизнь. Его жертвой была невинность. Тяжесть сдавила рёбра. Он склонился к снегу, изрыгая желчь в его девственную белизну: судорожно, рвано, словно выворачивая наизнанку саму пустоту внутри, где желудок сжался в комок льда, а глотка корчилась в бесплодной агонии. Ничего не вышло. Мир казался тонким. Хрупким. Он мог бы пробить его кулаком.
Позади послышался хруст сапогов по замерзшему снегу.
Капрал Дрешнер, живой.
— Фогель? Ты в порядке? Выглядишь… бледнее тумана.
Фогель уставился на него. Два прокола на шее Дрешнера исчезли. Лишь гладкая кожа. Но Фогель всё ещё улавливал призрачный запах крови. Видел мерцающий отсвет тех почерневших ран.
— Всё нормально, — хрипло ответил он. Голос скреб по горлу, как гравий. — Просто… холодно.
Дрешнер нахмурился и протянул руку. Фогель не взял её. Его взгляд поднялся в небо. Оно было пустым. Ни одного ворона. Лишь неумолимая серость. Глаза друида потухли, утонули в земле. Последний шёпот коснулся разума Фогеля, не на гэльском. Немецкий. Чёткий.
Бог питается теперь в другом месте.
Фогель содрогнулся. Шрам в воздухе пульсировал. Он знал. Он стал якорем. Тишина была ценой. Он чувствовал, как бог войны грызёт края его сознания. Низкий, постоянный гул за ушами. Мир покрылся ядовитым газом.
Дрешнер хлопнул его по плечу.
— Пошли. Разведка. Двигаемся.
Фогель послушно последовал за ним. Тяжело шагая, он миновал место, где погиб Баур. Где исчез Кляйст. Снег был чист. Без единого следа. Фогель остановился. Набрал горсть снега, прижал ко лбу. Холод ужалил — реальный, острый. Он оглянулся. Единое, идеальное перо лежало там, где пал друид. Он оставил его.
Впереди Шмидт выкрикивал приказы. Баур шутил. Ритм войны возобновился. Фогель поднял Маузер, затвор сработал плавно и точно. Он заглянул в прицел. Вражеская позиция мерцала вдали. Рутина войны.
Палец лег на спусковой крючок. Привычный вес. И всё же перекрестие ощущалось иным. Чужим.
Он снова увидел, как лицо Шмидта взрывается. Снова. И снова. Видения были беззвучны. Крики теперь жили внутри, эхо, запертое в полости, где когда-то жила человечность.
Он выдохнул.
Успокоился.
Снег пропитал штаны насквозь. Холод — единственное, что казалось реальным. Всё остальное — просто… шум. Петля разорвана. Но Фогель? Он разбит.
И тишина кричала.

ДРАККАР ИЗ ПЛОТИ
Топор расколол череп Эйвинду. С хрустом, с каким лопается сырое полено. Кровь брызнула горячей дугой на лицо Ньялла, и тело рухнуло на палубу, ещё подёргиваясь в предсмертных судорогах. Вокруг ревели люди. Сталь вгрызалась в плоть. Одному из воинов копьё пронзило горло и вышло с обратной стороны шеи, таща за собой струю почти чёрной крови. Вражеский драккар лежал борт о борт; его волчья пасть на носу скалилась, палуба кишела раскрашенными рожами, алчущими смерти.
Ньялл вырвал топор из рёбер мертвеца и обернулся как раз в тот миг, когда вражеский меч царапнул его бок. Боль пришла глухо, притупленная яростью. Во рту стоял вкус соли и железа. Палуба скользила под ногами, залитая вывалившимися кишками и морской водой. Чья-то отсечённая кисть шлёпнулась о сапог. Он отшвырнул её и бросился вперёд, вонзив топор в живот врагу. Тот закричал, когда Ньялл провернул лезвие вверх, чувствуя скрежет металла о кости, а потом выдернул, выпуская наружу дымящиеся внутренности.
Копьё просвистело у самого лица, так близко, что Ньялл ощутил ветер, и вонзилось в грудь стоявшего рядом. Тот рухнул навзничь, раскинув руки, и выдохнул последний раз: мокро, с кровавым хрипом. Ньялл не остановился. Схватил щит убитого и обрушил его на челюсть нападавшему. Кость хрустнула, зубы разлетелись по доскам. Враг рухнул, хватаясь за разбитое лицо, и Ньялл наступил ему на горло — хрящи лопнули под сапогом сухими ветками.
Мир сузился до биения крови в ушах и смрада распоротых животов, парящего в холодном воздухе. Вождь врагов, широкоплечий детина с окровавленной бородой, поймал взгляд Ньялла сквозь хаос. Он что-то проревел и засмеялся — слова утонули в гуле боя — и занёс молот, с которого свисали клочья мозга и волос. Ньялл сплюнул, обтёр лезвие о бедро и пошёл навстречу.
Молот обрушился вниз. Ньялл увернулся, удар расколол доски палубы там, где только что была его нога. Он рубанул низко, по сухожилиям за коленом. Топор вошёл глубоко. Вождь взревел, подогнулся, но успел ухватить Ньялла за руку и притянуть к себе. Изо рта врага пахнуло гнилым мясом и кислым элем. Ньялл ударил его лбом. Один раз, другой. Хрящ носа подался, кровь залила разбитые губы. Вождь отшатнулся, но всё ещё смеялся.
Копьё вошло ему в бок. Ньялл не видел, кто метнул. Вождь посмотрел на древко, торчащее из рёбер, потрогал его почти с любопытством, потом выдернул с влажным чваканьем. Смех перешёл в хрип. Ещё копья — в бедро, в плечо, но он всё шагал, поднимая молот. Ньялл попятился, поскальзываясь на внутренностях. Ещё шаг, и вождь рухнул лицом вниз. Пальцы дёрнулись, пытаясь ухватить ускользающую жизнь, и окаменели в кровавой луже.
Наступила тишина, лишь волны шлёпали о борт да стонали умирающие. Ньялл стоял, тяжело дыша, с топора стекала густая жижа. Вокруг — одиннадцать выживших: кто опирался на копьё, кто стоял на коленях в луже собственной крови. Вражеский корабль уходил в туман, тонущий и побеждённый. Волчий нос его был расколот: оторванная нижняя челюсть висела на обрывках снастей и медленно погружалась в серое молоко, словно морда дохлого пса, которого тащат за шкирку в могилу. Последними исчезли пустые глазницы, ещё полные злобы.
Их драккар выглядел не лучше: мачта расколота, вёсла перебиты, корпус стонал раненым зверем. Море вокруг воняло мочой, желчью и смрадом потрохов.
Ньялл вытер лицо рукавом, вдыхая сладковато-медный дух засохшей крови, уже пропитавший шерсть насквозь. Рёбра жгло там, где прошёлся меч. Он потрогал рану — неглубокая, но края уже посинели.
— Перевяжи, — пробормотал он молодому воину, отрывая полосу от рубахи мертвеца.
Ткань липла к пальцам, клейкая от крови. Рядом молодой Харальд блевал меж тел, плечи ходили ходуном. Никто не смеялся.
***
Ветер переменился.
Густой туман накатил внезапно и проглотил драконий нос корабля, будто пасть Хель захлопнулась перед самым лицом. Ньялл прищурился на запад: ни земли, ни звёзд, лишь бесконечная серая пелена. Море было плоским, как вытекший зрачок трупа, подёрнутый тонкой плёнкой соли и мёртвой пены.
— Где мы? — прохрипел Эйнар, прижимая обрубок руки.
Из культи сочилась сукровица. Ньялл не ответил. Солнце не показывалось третий день.
От ленивой качки трупы шевелились под сапогами, когда выжившие собрались посреди палубы. Мёртвые лица смотрели в небо, рты разинуты, глаза помутнели, став похожими на скисшее молоко. Некоторые — свои, череп Эйвинда ухмылялся небесам, но большинство — с вражьей раскраской.
Трупы оставили на палубе по самой простой и жестокой причине: сил не было их перетаскивать.
Битва выжала из людей всё: кровь, ярость, последние крохи еды. Одиннадцать человек, почти все тяжело раненые, еле стояли на ногах. Сбросить мёртвых за борт значило поднимать тела, перекидывать через планшир — часы работы, а каждый лишний шаг отнимал то немногое, что ещё держало их в живых. К тому же, в глубине души каждый понимал: скоро эти трупы станут едой. Выбрасывать будущую пищу казалось глупостью даже в обычном походе, а здесь — и вовсе безумием.
Так они и лежали: свои вперемешку с чужими, брат рядом с врагом, рука об руку в одной луже крови и дерьма. Хозяин Вальгаллы уже выбрал, кому жить, а кому служить мёртвым. Палуба стала одной большой раной, и покойники были её струпьями.
Три дня драккар умирал вместе с ними.
Мачта торчала сломанной шеей, и при каждом медленном вздохе моря выдавала долгий, костный стон — звук выходящей из сустава кости, когда хрящ рвётся вместе с мясом. Паруса сгорели дотла ещё в бою, клочья обугленной шерсти трепыхались на реях, как кожа с ободранных рук. Борта разошлись по швам; через щели хлестала вода, чёрная и тёплая, будто море само начало гнить. Вёсла были переломаны, рулевое весло держалось на одной жиле.
Голод пришёл на пятый день. Сначала как пустота под рёбрами, потом как зверь, грызущий изнутри. На шестой день люди уже не вставали. Они лежали среди трупов, не различая своих и чужих, и смотрели в низкое небо, где солнце так и не показалось. Губы потрескались до крови, языки распухли и почернели. Кто-то падал лицом в солёную лужу на палубе и жадно тянул гнилую жижу, но желудок отвергал морскую воду, выворачиваясь кровавой пеной с кусками слизистой.
— Помрём с голоду, не дойдём до берега, — буркнул Грим, пихая носком сапога вздувшийся живот мертвеца.
Ньялл тяжело поднялся. Лицо его ввалилось, глаза налились красным. Он обвёл взглядом лежащих — одиннадцать живых теней среди мёртвого мяса — и сказал тихо, но так, что услышали все:
— Великий Один не даст нам умереть. Не оставит нас гнить в этих безымянных водах. Он не позволит нам сдохнуть просто так, павшим без песен и без доброго имени.
Он подошёл к ближайшему трупу — вражескому, с размозжённой щекой — и вырезал ножом длинную полосу мяса с бедра. Кровь уже свернулась, но плоть была ещё мягкой. Ньялл поднял кусок над головой, чтобы все видели.
— Ешьте. Это плоть воинов. В ней сила. Мёртвые — это дар Одина. Их плоть — наш последний парус. Их кости — наша последняя мачта. Их кровь — масло для киля. Вставайте. Сегодня мы берём то, что Один уже отдал нам. Мёртвые довезут нас домой.
Тишина была такой, что слышно было, как капает гной из чьей-то раны. Кровь, упавшая с куска мяса на палубу, впиталась в доски неестественно быстро, словно вода в сухой песок. Потом Грим встал на четвереньки, подполз и впился зубами в протянутое мясо. Остальные последовали за ним.
Ньялл опустился на колено рядом с телом вражеского вождя, отогнул окрашенную в кровь бороду, обнажив горло. Секира заскрипела, перерезая хрящи. Голова отделилась, волоча за собой чёрные жилы. Он швырнул её Харальду; тот поймал и тут же подавился тёплой склизкостью.
— Раздевайте. Всех.
Люди работали молча, ножи поблёскивали в тусклом свете. Кожа отходила рваными пластами, липла к костям там, где жир успел застыть. Эйнар, серый от боли, зубами рвал сухожилия с чьего-то бедра, сплёвывая волокна в растущую кучу. Воздух густел от сладковатого смрада распоротых кишок, лип к гортани, как забродивший мёд.
Харальд снова зашёлся рвотой, когда нож Харальда поддел край кожи на виске покойника и потянул. Личина отстала с чавкающим звуком — будто отдирали присосавшуюся пиявку — обнажив сырое мясо, сочащееся сукровицей, и белесые плёнки подкожного жира. Из глазниц ещё тянулись тонкие жилки, рвущиеся одна за другой с тихим треском.
Ньялл прижал содранное лицо к треснувшему носу корабля, втирая в щепки, пока дерево не впитало кровь. Палуба дрогнула под ними, глубокий стон прокатился по килю, будто что-то огромное шевельнулось во сне.
К ночи драккар обрёл новую шкуру: лица натянуты на борта, губы зашиты жильной нитью, веки трепещут на солёном ветру. Грим вырезал позвоночник у одного из воинов, ломая рёбра, как сухие сучья. Кости легли в раскол мачты идеально, стянутые полосами пищевода, которые, высыхая, сжимали дерево с влажным хрустом.
Ньялл провёл ладонью по новой оснастке: волосы, грубо свитые в канат, ещё тёплые, пропитанные маслом скальпа и кровью. Пальцы скользили, как по живой змее, но канат не поддавался — держал мёртвой хваткой. Паруса из спинной и бедренной кожи надувались сами собой, хоть воздух был мёртв. Под сапогами палуба пульсировала медленно, тяжко, в такт боли в его ране.
Харальд шептал, сматывая кишку вокруг рулевого весла и завязывая узел чьим-то растянутым нёбным язычком. Розовая плоть дёрнулась в ладони, прежде чем затянуться.
— Они смотрят, — прошептал Харальд, вытирая губы тыльной стороной ладони; на коже осталась серая корка мозга, похожая на пепел.
Ньялл поднял взгляд. Впадины глаз на натянутых лицах действительно блестели — не отражением света, которого не было, а влагой изнутри: из-под зашитых век сочилась прозрачная жидкость, стекая по щекам мертвецов тонкими дорожками.
Слёзы.
И тогда драккар шевельнулся.
Сначала едва заметно: киль под ногами вздрогнул, точно огромная грудная клетка сделала первый вдох после долгой смерти. Потом громче. Доски заскрипели, но не от качки, а от чего-то, что двигалось внутри них. Новые паруса из человеческой кожи надулись, ловя несуществующий ветер; швы на них разошлись и снова сомкнулись ртами, пробующими воздух. Лица на бортах зашевелили губами, зашитыми жильной нитью: нитки натянулись, лопнули, и из прорех вырвалось тяжёлое, влажное дыхание — запах открытого нутра, смешанный с солью.
Корабль поплыл.
Не по воде — сквозь неё. Чёрная гладь расступалась перед носом, боясь прикоснуться. Палуба потеплела под сапогами: дерево стало мягким, податливым — живая плоть под тонкой коркой. Из щелей между досками полезли тонкие красные нити — капилляры, наливающиеся кровью. Они тянулись к лодыжкам живых, ощупывали, пробовали.
Эйнар первым почувствовал это у мачты. Культю его обхватила тёплая петля, не верёвка, а живая жила, выросшая из трещины в дереве. Он дёрнулся, и жила втянула глубже. Кость обрубка заскрипела, врастая в древесину.
— Оно… дышит, — выдохнул кто-то.
Драккар ответил вздохом, долгим, сытым, из всех сучков и швов сразу. Паруса вздулись ещё сильнее, натягивая лица на бортах до предела: кожа затрещала, обнажая зубы в безмолвных улыбках. Носовая фигура — лицо врага, чьи глаза ещё вчера были пустыми, — моргнула. Один раз. Медленно.
И в этот миг люди поняли: корабль не просто ожил. Он проголодался. Снова.
Эйнар застонал у мачты: культя приросла к костяному бандажу, плоть обмякла вокруг дерева расплавленным жиром, жилы пустили корни в волокна. Он скрёб одной рукой, хныкая, когда щепка забиралась глубже под кожу.
— Оно ест, — выдохнул он, дыхание его было кислым от лихорадки.
Капля крови набухла на стыке мачты и руки, потом скатилась не вниз, а вбок, по изгибу дерева, и исчезла в сучке.
Ньялл ковырял свою рану ржавым гвоздём, глядя, как гной сочится между стежками. Кожа вокруг посерела, как выброшенные водоросли, и слабо пульсировала. Он прижал ладонь к палубе и почувствовал: медленный, осознанный толчок. Сердце выброшенного на берег кита. Дерево было тёплым. Слишком тёплым для ледяного воздуха.
Харальд закричал первым. Его нашли скорчившимся под носом корабля: кожа на животе лопнула переспелым плодом. Кишки не вывалились наружу, а потянулись вниз — тонкие щупальца вгрызались в палубу. Дерево принимало их жадно, раскрываясь влажными глотками. Воин рыдал, когда Ньялл схватил его за плечи, но корни держали крепко. Когда он дёрнул, спина Харальда выгнулась дугой, рот растянулся в безмолвном вопле. Корабль вздохнул в унисон.
К рассвету от него осталось только лицо, натянутое рядом с прочими, губы зашиты его же волосами. Веки дрогнули, когда ветер переменился. Грим судорожно осенил себя молотом Тора, ладонью по лбу и груди, и тут же его вывернуло за борт густой струёй желчи с нитями крови и тёмными волокнами мышц, которые он отгрыз час назад. Рвота шипела, ударяясь о воду, поднимая пар от чёрной глубины. Море было горячим.
Ньялл опустил руку за борт и отдёрнул: вода липла к пальцам, тянулась клейкими нитями. На вкус — медь и гнилой костный мозг. Над головой паруса надувались без ветра, швы на кожах расходились, обнажая пульсирующее нутро. Между стежками что-то билось. Эйнар засмеялся — высоко, надломленно — когда мачта проглотила его локоть.
— Оно голодно, — прохрипел Эйнар, единственный глаз его закатился белком, как у рыбы на прилавке. — Голодно до самых костей наших… и жаждет узнать, какой вкус у живого имени.
Грим вцепился в руку Ньялла лихорадочными пальцами. Суставы у него уже трескались, обнажая жёлтую кость.
— Слушай… — прохрипел он. — Оно дышит под килем, слышишь? Там, внизу… дышит. Тяжело. Как зверь, которого мы разбудили.
Ньялл припал ухом к палубе. Под скрипом дерева слышалось нечто живое: влажные хлопки растягивающихся сухожилий, чавканье жира, явственное шлепанье языка о зубы.
Корабль жевал.
Беззвучная волна прошла по груде трупов посреди палубы. Кожа сползала с костей, как мясо с пережаренного вертела, скапливаясь вокруг лодыжек живых.
Обнажённые мышцы дёргались — не судорогой, а слаженно, подражая гребле. Эйнар завизжал, когда мачта засосала его глубже; рёбра трещали одно за другим, врастая в дерево. Крик превратился в пузыри, рот заполнился густой, как смола, кровью.
— Это проклятье! — крикнул Эйнар, голос его сорвался на визг, когда мачта втянула его с влажным хлюпаньем. — Один проклял нас! Мы взяли то, что принадлежало ему! Мёртвые были его добычей, а мы… мы украли их у Всеотца!
Ньялл попятился. Палуба вздулась под ногами. Доски лопались с хрустом суставов, открывая блестящие канаты сухожилий, сплетающиеся в новый узор. Отрубленная нога вражеского воина дёрнулась и заскользила вбок на гнущихся пальцах, исчезнув в раззявленном сучке. Отверстие захлопнулось с довольным вздохом. Над головой паруса разверзлись по швам, превратившись в огромные жилистые крылья, поймавшие смрад гниющего мяса и с новой силой понёсшие корабль на запад.
Ноги Грима подкосились. Голени тут же приросли к палубе, дерево ползло по бёдрам голодными отростками. Он цеплялся за сапоги Ньялла, ногти отставали, обнажая белую кость.
— Отруби, — хрипел он, глаза вылезали из орбит. — Отруби мне ноги… пока оно не узнало имени моего!
Доски разверзлись, проглотив его по пояс. Крик утонул в собственном горле.
Ньялл занёс топор, древко извивалось в руке, дерево стало мягким, губчатым. Из волокон полезли отростки, оплетая пальцы. Лезвие плакало ржавыми слезами. Где-то под ногами крики Эйнара превратились в песню; мачта вибрировала мелодией, которую напевала мать Ньялла, когда зимняя лихорадка забрала его сестру.
Палуба раскололась под ним. Он провалился в тепло. Не море, не дерево — что-то склизкое, живое, бьющееся в такт его сердцу. Стенки сжались. Пальцы мокрого дерева разжали ему рот. Он вкусил собственную гниль, когда корабль начал кормить его собой, глотка работала медленно, блаженно. Ноги сломались первыми, колени хрустнули разваренными суставами, врастая в киль. Боль должна была ослепить, но она выжгла его изнутри, оставив пустую, ещё горячую скорлупу человека. И в эту пустоту хлынуло всё остальное: дерево, мясо, имена, голод. Он стал дверью, которую корабль наконец открыл для него.
Руки зарылись под его кожу корабельными червями. Он видел, как они шевелятся внутри: пальцы Эйнара плетут его кишки в снасти, большие пальцы Грима разминают лёгкие в парусину, зубы Харальда зашивают ему губы на носу корабля. Их голоса гудели в костях. Он попытался крикнуть, но звук распустился сотней шёпотов, вытекающих из сучков корпуса. Челюсть отвисла с влажным, хрящевым треском — не просто кость, а вся нижняя часть лица начала опадать вниз, как кожа с варёного мяса. Суставы вывернулись, связки порвались одна за другой с тихим, мокрым звуком. Нос корабля проглотил его лицо целиком.
Позвоночник сросся с килем серией хлопков, от которых задрожала чёрная вода. Каждый позвонок пустил новые рёбра — одни из дерева, другие из костей братьев и врагов — стянутые жилами, изгибаясь к бортам, где натянулась его собственная содранная кожа. Руки, распятые в стороны, пульсировали в ритме корабля, пальцы растворялись в пакле, сочащейся между досок. Под ногтями что-то шевелилось. Черви, быть может. Или мысли корабля.
Ноги давно раскололись в кормовой брус, бедренные кости треснули вдоль, освобождая место рулю. Боль была безмерна. Она была молитвой. Коленные чашечки теперь служили кнехтами — его же кишки, всё ещё подёргивающиеся при перемене ветра. Паруса над головой надувались украденным дыханием, зашитые лица вздыхали сквозь сросшиеся рты. Их глазницы плакали густой жёлтой жидкостью, шипящей на палубе.
Дерево впивало жадно, пастью голодного пса, которому наконец сунули кость с мясом.
***
Устье фьорда раскрылось перед ним, чёрная вода расступалась, как бёдра любовницы. Зрение — если это ещё было зрением — стало всеобъемлющим. Каждая щель плакала его слезами. Каждая щепка пробовала соль. Ньялл чувствовал ракушки на боках не щекоткой, а тысячей крошечных зубов, вгрызающихся в мясо. Скрежет подводных камней по килю отдавался в позвоночнике, будто кто-то огромный водил когтями по его обнажённым рёбрам.
Носовая фигура — то, что осталось от его лица — выдавалась вперёд костью из открытой раны. Нижняя челюсть отвалилась совсем и висела на лоскутьях кожи и сухожилий, обнажая позвоночник, ставший драконьей шеей. Из пустых глазниц текло: густое, жёлтое, как гной из старого нарыва. Язык, высохший и одеревеневший, вывалился наружу: толстый, чёрный, растрескавшийся. Когда корабль кренился, этот язык качался тяжело, как маятник, роняя в воду вязкие сгустки с запахом открытого нутра.
Это была самая честная носовая фигура, какую когда-либо несли викинги. Потому что она всё ещё пыталась кричать.
И кричала: каждый раз, когда корабль врезался в волну, из разодранной глотки вырывалось влажное, хрипящее дыхание сотни мёртвых ртов сразу. Внутри черепа копошились черви, пульсируя в такт мыслям корабля. Ветер, свистящий в носовой полости, был его смехом. Шлепанье собственной печени о мачту — аплодисментами.
Дом. Слово гнило на остатке языка. Вода фьорда сгустилась, превратившись в тёмно-красный холодец, в котором плавали клочья плоти. Она липла к бортам, тянулась длинными соплями и не хотела отпускать, как суп, который слишком долго томился на огне.
Но прежде, чем туман рассеялся, драккар возвестил о себе.
Воздух со свистом втянулся в пустые глазницы и вырвался из глотки звуком, похожим на зов боевого рога. Это был низкий, вибрирующий, утробный гул, от которого закладывало уши. Звук ударил в берег тяжёлой волной. В ещё спящих домах на столах подпрыгнула посуда. Молоко в глиняных чашах пошло мелкой рябью, вода в вёдрах заплескалась, выливаясь через край, будто земля сама вздрагивала от отвращения.
Деревня проступила из тумана. Дым из домов поднимался, маня пальцем. Эйнар попытался моргнуть, но черви в глазницах лишь судорожно сжались.
Его красавица жена, Ингвильд, стояла на берегу.
Даже теперь, когда живот её был тяжёлым от ребёнка, когда волосы поседели от тревоги, а глаза ввалились от бессонных ночей, она оставалась той самой, за кого Ньялл когда-то отдал три корабля серебра и пол-уха в придачу. Высокая, прямоспинная, с шеей, созданной для золотого ожерелья, а не для шерстяного платка вдовы.
Свет зари вырезал её силуэт острее клинка. Она держала за руку младшую дочь Сигрид. Девочка показывала пальцем. Он почувствовал это в дрожи снастей — его собственных кишок, стянувшихся туже. Ветер переменился, принеся их голоса не звуком, а вкусом: её пот, молочное дыхание ребёнка, железный привкус страха.
Причалы застонали, когда вес корабля вытеснил воду. Ньялл чувствовал, как каждое бревно дрожит и ломается, когда киль — его переплетённый заново позвоночник — скрёб по отмели. При виде корабля-из-плоти, выползающего на песок, деревня взорвалась криком.
Женский визг, пронзительный, как нож по стеклу, смешался с животным воем детей. Люди бежали, падая в грязь, превращаясь в скот, бегущий от пожара. Снасти корабля — высохшие жилы, пронизанные червями, — поползли на берег. Доски причала лопались, пронзая спины отстающих, пригвождая их к песку, как насекомых. Вонь лопнувших животов смешалась с запахом гниющего дерева.
Но Ингвильд не бежала.
Она стояла босая на чёрном песке, потому что сапоги давно износила, встречая каждый рассвет у воды. Ветер трепал её волосы. Корабль замер в одном шаге от неё, подобно огромному зверю, который наконец учуял знакомый запах.
То, что когда-то было лицом Ньялла, нависло над ней. Разодранная пасть раскрылась шире человеческого роста; из неё тянуло тёплым смрадом. Драккар дышал — тяжко, влажно, всем корпусом сразу, и каждый выдох шевелил ткань её платья. Чёрная жижа с его языка-реи капнула ей на лоб. Медленно стекла по носу, губам, горлу.
Ребёнок вцепился в материну юбку. Сигрид подняла взгляд: ресницы дрожали иглами ели под первым снегом. Всё её тело билось в крупной дрожи от мокрого дыхания, обдающего их жаром гниения.
Он помнил лёгкую тяжесть её запястья в своей ладони той ночью, когда учил её держать нож. Память растворилась — корабль переварил её, исторгая новые влажные доски из разорванных задов.
И тогда он сказал — всеми порами, всеми трещинами, всеми зашитыми ртами братьев и врагов, всеми лопнувшими пузырями лёгких:
— Ингвильд…
Она не отшатнулась, даже когда гниль коснулась её лица.
— Ньялл, — ответила она тихо, и имя это прозвучало приговором. — Ты всё-таки привёз смерть домой.
Она отпустила руку дочери, шагнула вперёд и встретила корабль из плоти первой.
Как и подобает жене викинга.

ВАЛЬС ПРИЗРАКОВ
НОЯБРЬ 1942 ГОДА.
СТАЛИНГРАД.
РАЙОН ЗАВОДА «БАРРИКАДЫ».
АКТ ПЕРВЫЙ: ПРЕЛЮДИЯ В РУИНАХ
Стены здесь не держали тепло. Стены здесь вообще мало что держали — ни крышу, половина которой рухнула в пролет еще неделю назад, ни человеческую психику.
— Не топай ты так, Васька, — прохрипел сержант Нечаев, поправляя лямку ППШ. — Немцу, может, и не слышно, а дом чихнешь — и сложится.
Группа из трех человек вползла в дверной проем, как серые тени. Под сапогами хрустело: битое стекло, штукатурка и, кажется, промороженные кости. В комнате пахло затхлостью, мокрой гарью и тем специфическим сладковатым душком, который ни с чем не спутаешь. Запахом старой смерти.
— Чисто, — выдохнул идущий первым Васька Дуб. Он был коренастым, с лицом, словно вырубленным из дубового полена тупым топором. Васька скинул вещмешок в угол, где ветра было поменьше. — Ну и хоромы, товарищ сержант. Люкс. Вид на Волгу, если шею вытянуть, и на тот свет — если не пригибаться.
Нечаев устало опустился на пол, прислонившись спиной к уцелевшему куску стены.
— Размещаемся. Окна завесить плащ-палатками. Огонь не разводить, пока не затемнимся. Алеша, сменишь Дуба через два часа.
Алеша — самый молодой из них, с тонкой, почти девичьей шеей, торчащей из воротника великоватой шинели, — кивнул. Он стоял посреди комнаты и смотрел в дальний угол. Там, в густой тени, укрытой слоем кирпичной крошки, стояло нечто массивное.
— Гляди-ка, — присвистнул Васька, подходя ближе и чиркая трофейной зажигалкой. — Батя, да тут дрова! Элитные!
Огонек выхватил из тьмы лакированный бок. Это было пианино. Черное, огромное, на резных ножках, оно казалось пришельцем из другой вселенной. На крышке, под слоем пыли, золотом тускло блеснула надпись: «C. M. Schröder».
Васька оскалился, постучал костяшками пальцев по крышке. Звук вышел глухой, деревянный.
— Сухое! Гореть будет — как порох. Сейчас я его, — он потянулся к поясу за саперной лопаткой.
— Не смей! — крик Алеши был таким резким, что Нечаев вздрогнул.
Студент подскочил к инструменту, закрывая его собой, раскинув руки, как птица перед ястребом.
— Не трогай, Вася. Нельзя. Это же «Шрёдер». Это… это преступление.
— Преступление — это жопу морозить, когда топить есть чем! — огрызнулся Васька. — Отойди, интеллигенция, а то я тебя вместе с этой балалайкой на щепки пущу.
— Отставить, — голос Нечаева прозвучал тихо, но весомо. Сержант поднялся, кряхтя, подошел к инструменту. Провел грубой ладонью по лаку, оставляя борозды в пыли.
— Красивая вещь. В мирное время, поди, денег стоила, как трактор.
— Батя, так холодно же! — заныл Васька.
— А ты попрыгай, согреешься. Алеша, — Нечаев посмотрел на солдатика. Тот дрожал, но не от холода, а от какого-то нервного возбуждения. — Ты ж у нас из консерватории? Ну, покажи, что за зверь. Если играет — оставим. Если нет — Васька прав, дрова нам нужнее искусства.
Алеша судорожно сглотнул. Он медленно, словно боясь обжечься, поднял крышку клавиш. Зубы белели в полумраке, как оскал черепа. Некоторые клавиши были выбиты, другие запали, но большинство смотрели на него с немым упреком.
Он сел на шаткий круглый табурет, который чудом уцелел рядом.
— Давай, Моцарт, — хмыкнул Васька, садясь на пол и доставая кисет. — Сбацай нам «Мурку».
Алеша поднял руки. Его пальцы были грязными, с обломанными ногтями, покрытые цыпками и трещинами от мороза. Они тряслись. Он смотрел на свои руки так, будто они были чужими. В консерватории ему говорили беречь их. А теперь эти руки умели только набивать магазины и рыть мерзлую землю.
Он опустил пальцы на аккорд.
Должно было прозвучать начало прелюдии Рахманинова. Торжественно и мощно.
Блям… Дзынь… Хрр…
Звук был ужасен. Инструмент расстроился, внутри что-то дребезжало, словно в струнах застряли осколки. Но хуже было другое. Пальцы не слушались. Они одеревенели и не гнулись. Вместо аккорда вышла жалкая, фальшивая какофония, режущая уши.
Алеша замер. Он нажал еще раз. Одинокая нота «ля» прозвучала сипло, как кашель умирающего.
— М-да, — протянул Васька, затягиваясь самокрут
