автордың кітабын онлайн тегін оқу Береги косу, Варварушка
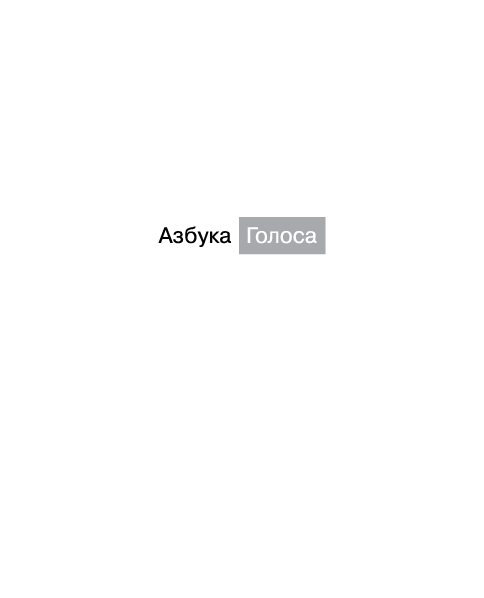
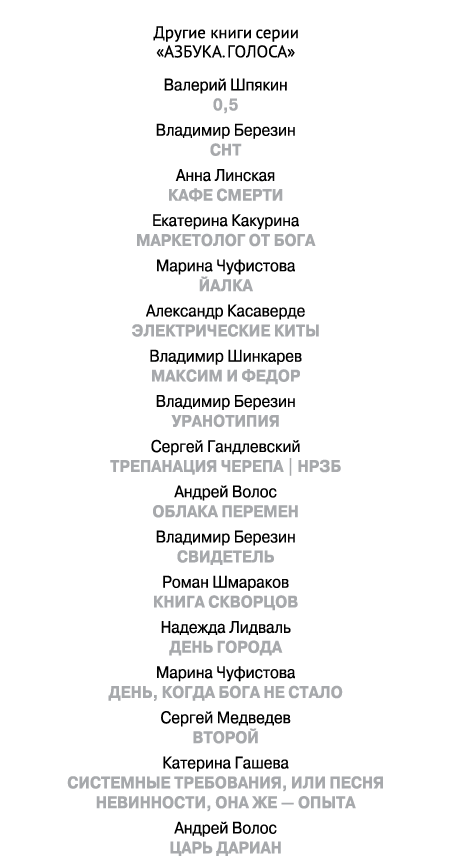
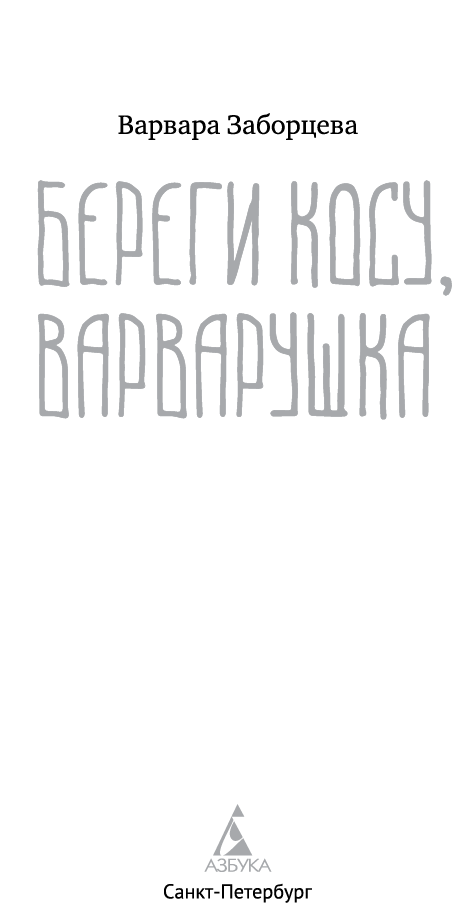
Оформление обложки Татьяны Павловой
Иллюстрация на обложке Гали Поповой
Заборцева В.
Береги косу, Варварушка : повести, рассказы / Варвара Заборцева. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2025. — (Азбука. Голоса).
ISBN 978-5-389-30122-1
16+
«Под нашим угором течет река. Длинная такая, почти как моя коса».
«Береги косу, Варварушка» — цикл повестей и рассказов, события которых происходят в поселке у реки Пинега. Снег, огромная река, спящая подо льдом, высокое небо. Рассказчица, как бы ее ни звали — Варварушка, Марфа или Любушка, — связана с этим местом, даже если физически находится где-то далеко. Здесь все познается героиней впервые — история семьи, собственное предназначение, дружба, любовь, утрата. Эта книга об отношениях с местом, которое тебя сформировало, о том, что эти отношения не всегда просты. Русский Север у Заборцевой имеет мифологическое измерение, жизнь здесь вписана в календарный цикл. Варварушка отправляется на поиски дедушки и домового, Марфа собирается строить дом, а безымянная героиня «Пинеги» провожает отца в последний путь. Автор соединяет сказовость с современным материалом, и так рождается ритмически выверенный текст, одновременно напоминающий о традиции деревенской прозы и сочинениях Саши Соколова.
«Это не просто география. Это определенный образ жизни, это характер, это определенная этика и мировоззрение. И поэтика, кстати, тоже. В ритмах Варвары Заборцевой заметны следы северного фольклора, его плачей и заговоров» (Сергей Баталов).
© В. И. Заборцева, 2025
© Оформление.
ООО «Издательская Группа
«Азбука-Аттикус», 2025
Издательство Азбука®
Береги косу, Варварушка
Под нашим угором течет река.
Длинная такая, почти как моя коса.
Только теперь нет у меня косы, а река на месте, все бежит и бежит, не устанет. Я, глупа голова, все оглядываюсь, ищу косу по привычке. Раньше спущусь с угора и дожидаюсь, когда же моя копуша скатится.
Ой, как же косу наш Домовенок любил. Я еще маленькая была, и коса мала — с меня ростом.
Помню, проснусь, а на подушке бантик меня дожидается. То белый, то розовый, даже в мелкий горошек. Каждый праздник я с новым бантиком. Вот какой у нас добрый Домовенок. Мне всегда хотелось тоже его порадовать и хоть разочек увидеть бы. Интересно же, как улыбаются Домовенки.
Дедушка сказал, они больно стеснительные, но я всегда могу зажмурить глаза и представить, как улыбается Домовенок. Главное, говорит, чтобы волосы прибраны были, а то спутает меня с вредными Чердачихами, которые на пыльных чердаках живут, — у них вечно волосы растрепанные.
А в один день дедушка уплыл вниз по нашей реке. И Домовенок куда-то пропал. И бантиков больше не было.
Я этот день хорошо помню.
Мы с дедушкой на реке блинчики пускали. Он у меня мастер — до соседнего берега блинчики выстроятся, будто зверек какой реку перешел. Смотрю, дедушка лодку тащит, а я рада-радехонька, люблю на лодочке с дедушкой кататься. Берет меня на руки, думаю, на лодку посадит, а он как закинет меня на угор — прямо к нашему дому. Стою высоко на угоре. Ветер свищет, коса во все стороны лягается. Внизу стоит маленький дедушка. В лодку садится и говорит:
— Береги косу, Варварушка. Она ото всех бед тебя сбережет. А если коса не справится, дедушка всегда рядом. Беги в дом.
Мы с косой ох как выросли за это время. Бывает, заскучаю по рыбалке с дедушкой, как брошу косу в реку прямо с угора и жду-дожидаюсь. А чем моя коса не удочка. Все как дедушка делает: брошу и, деловая такая, сижу-дожидаюсь рыбу. Только она что-то не клюет, видно, не глупая. Чует, что не дедушкина удочка.
И вот сижу я, рыбачу потихоньку. Дедушку вспоминаю, Домовенка.
Вдруг я все-все поняла. Глупа голова, чего же раньше не догадалась.
Дедушка за Семгой уплыл. Той самой — большашшей-пребольшашшей Семгой. О ней все на Севере знают. Говорят, живет она там, где наша река с Белым морем встречаются. Конечно, дедушка туда поплыл. Разве меня бабушка отпустит до самого Белого моря, вот он один и отправился.
И с пропажей Домовенка все сразу ясно. Они давнишние друзья, а если друга давно нет дома, разве усидишь на месте.
Вот и я второй день места себе не нахожу. Все думаю, как мне дедушку с Домовенком выручать. Думала, думала — ничего не придумала. Поняла только, что бабушке строго-настрого говорить нельзя. Если замешкаемся на обратном пути — все-таки против течения грести нелегко, — она всяко поймет, что к чему. Догадается, куда и зачем мы отправились.
Только где лодку взять?
Думала, думала и придумала — сама смастерила. У сарая дровяного много досок ненужных. Еще крепкие, хороший плот выйдет. Только перевязать нечем, но и тут я быстро догадалась. Отрезала от косы малюсенький кусочек. Ничего, дедушка даже не заметит, зато обрадуется, когда плот мой увидит. Он и правда ничего такой вышел, палку понадежней взяла — и в путь.
По течению чего не плыть — сиди да чуток направляй.
Наша река и правда длиннюшша. А по берегам домики деревянные — лепота какая. Плыву да любуюсь, глупа голова, нет бы дедушку высматривать.
Вдруг вижу впереди — черняшша-пречерняшша туча.
Ливень зарядит, вся вымокну, заболею, а дедушку с Домовенком спасать кто будет. Нет, мокнуть никак нельзя. Думала, думала и придумала — косу расплету. Волосы у меня густяшши — дедушкины. Целый дом получился, никакой дождь в него не попал.
Потом я весь день волосы сушила, а еще день косу заплетала. Три дня плыву — дедушку так и не нашла.
Вдалеке вижу — что-то синее-синее, огромное, моими глазенками никак не охватить. Но если бы я была большашшей-пребольшашшей Семгой, поселилась бы именно там.
Откуда ни возьмись — ветер поднялся. Да так разошелся, спасу нет.
Кидает река мой плот туда-сюда. Моргнуть не успела — палку утащила.
Вот тогда я крепко испугалась. Никогда не видела нашу реку в таком плохом настроении. Я тоже, бывает, дравничаю, но не до такой же степени.
Еще плакать придумала — снова дождь зарядил.
Изо всех сил пытаюсь казаться невозмутимой. Тут главное — виду не показывать, а быстрее отвлечь. А то повадится дравничать да плакать — куда мы потом с такой капризной рекой.
Смотрю — нет, вроде не мерещится — что-то плывет ко мне.
Анделы, это дедушка на Семге сидит. А с ним еще один дедушка, поменьше только. Тянут ко мне руки, тянут — никак не дотянутся. Ветер как дунет — мой плот, бедолага, еле-еле держится.
Думала, думала и придумала — отрезала косу. Из одной доски торчал большашший гвоздь, остряшший конец у него — им и отрезала.
Закинула косу к дедушке — и все.
Уснула, видно, от страха. Может, не дедушка был это и не Семга, а лесорубы на катере возвращались да меня на катер подхватили.
Может, и так, правда, косы моей не было. Ничего, отрастет, это беда разве.
Проснулась я дома. Смотрю — под подушкой бантик синенький.
А ночью дедушка снился. Плывет по Белому морю на большашшей-пребольшашшей Семге, а рядом Домовенок. Тут-то я его и разглядела.
Плывут себе, плывут. И оба улыбаются.
На границе степного солнца
I
— Где мы?
— В степях Оренбуржья. Спи, Любушка, солнце еще далеко.
Ночь и правда была густая. На разрезанной земле проступала дорога. Машина шла наугад. Ей тоже хотелось спать, но дядя Женя крепко взялся за руль — иначе не умел. «Терпи, — говорит. — Это Любушке можно дремать, а ты давай не подведи старика».
На заднем сиденье заскрипел женский голос:
О-о-о баю-баюшки-люлю,
Любу в люлю повалю,
Спи-ко, Любушка, усни,
Угомон себе возьми.
О-о-о спи-ко, Люба, Бог с тобой,
Аньгел Божий над тобой.
Крылышком помахиват,
Любушку укладыват.
Слышала ли раньше степь северные колыбельные? Может, они встретились впервые, как машина дяди Жени и южная распахнутая дорога. Эти колеса крепли в лесах, на болотах. Из какой грязи выбирались, какие повороты брали! Закалка будь здоров! А здесь до того прямая дорога, аж в сон клонит. Еще чуть-чуть — и взлетит, оторвется машина. Ни одну сосну не зацепит. Пугающий простор.
Женский голос продолжал скрипеть. Он вспоминал, что такое музыка. С каждым словом получалось все лучше. Любушка вскоре уснула.
II
Машина будто везла настоящий дом.
Две подушки, два одеяла. Четыре кружки, оладьи на четверых. Двое мужчин и две женщины.
«Разве дому положено двигаться? — думалось Любушке перед сном. — Почему оторвался он от земли и понесся от Белого моря на границу степного солнца?»
До степи еще далеко. Мчалась машина от Севера к Югу. Будто не оборачиваясь.
Хорошо, что Север большой.
От Архангельска до Вологодчины тянутся вечные сосны. Лес, и не видно конца. От озер и до самого неба. Долго-долго все было родным и знакомым. Будто за грибами поехали.
Больше всех лес любила Любушка. С детства на беломошнике. Не боялась ни волка, ни медведя. Так и выросла на клюкве — краснощекая. И глаза — брусничный лист.
Дядя Женя тоже лес уважал. Чистокровный помор, такого еще поискать. Рыбачить любил не меньше отца и деда. И рыба шла на него — пол-Архангельска накормил. Да и не принято на Севере жадничать. Сегодня у тебя клюет, завтра у соседа. Так и перезимуешь.
Рядом с дядей Женей сидел парень помоложе. Глаза чистейшие — будто северными реками налиты. Имя какое — Иван! Мама так назвала.
Мама была рядом. Сидела за дядей Женей и пела колыбельную для Любушки — Ваниной невесты. Семья Вани родом из Соломбалы, «болотистого острова» в переводе. Места корабельные — первые суда сам Петр Великий принимал. Ваня всегда гордился, что его прадеды на верфи трудились, по морю ходили, с иностранцами были дружны.
Ване и его маме море было роднее леса. Любушка часто звала их за ягодами-грибами, да так и не собрались.
В этот раз не черника и не грузди созвали их в дорогу.
III
По Вологодчине бродят лоси.
Любушку разбудил рев — лосиный рев, не иначе. Из тумана вышла лосиха — что ее так напугало, чего она так бежит? Верно, лосенка потеряла. Как же тут не реветь, лес на уши не поднять. «Помоги ей, Господи, помоги», — молится сонная Любушка.
Будто в бреду мерещатся сборы в дорогу, Рождество Богородицы, голос Вани:
— Люба, война. Собирайся.
Война не была новостью, она тянулась от самой зимы. Ждала перелетных птиц, распахивала поля, собирала на редкость щедрый урожай. Рядышком с людьми.
Тем временем ехали по местам преподобного Дмитрия Прилуцкого. Когда-то и его завела дорога в леса Вологодчины, где он основал Спасский собор. Преобразилась тогда Вологодчина. Монастырь вырос вокруг собора. Любушка дважды молилась в нем о Ване.
И сейчас помолилась — издалека. Монастырь мелькнул в стороне. Только Любушка и заметила.
«Люба, война. Собирайся», — мерещилось снова и снова.
Письма летели повсюду — по лесам, по горам, по степям. Мужчинам писала война.
Ваня больше не мог ждать. Война сводила его с ума. А значит, с пути.
Природа подарила Ване кристальный разум. Вот и стал он не просто ученым, а кристаллографом. Говоря по-простому, изучал твердые тела. Любушка своей деревне объясняла так: «Есть на свете вода, есть воздух, а есть твердь — ее-то и любит Ваня всей душой».
Любушка выросла на заповедях Христа. Ваня — на заповедях Лихачева. Оба знали одно: война не бывает светлой. Светлым бывает снег, особенно северный. Светлым бывает слово, особенно северное. Светлым бывает дом — деревянный и с белой печкой.
Люба, бери самое дорогое. Завтра мы уезжаем на границу степного солнца.
Любушка бросилась к письмам, открыткам, билетам из музеев, театров, поездок. Хранила в коробочке — называла «шкатулкой для светлых дней». Знала, что пригодятся.
Подорожники надо испечь. Лучше всего получались оладьи — за них и взялась. Только летели — одна за другой. Пышные как никогда. Будто всю юность готовилась к этой дороге.
«А как же наши зеленые стены? — думалось Любушке. — Мы красили их вместе. Стол мастерили сами. Я вышивала скатерть. Ваня выращивал фикусы. Боже, как они подросли!»
Та ночь была нестерпимо длинной. Ваня до рассвета целовал грудь Любушки. Жадно, будто ребенок, впервые увидевший свет.
IV
— La sérénité! [1] — на выдохе шептала мама.
Черные купола уходили в прозрачное небо. Солнце — нелепая радость! — еще согревает. Как же найти слово, чтобы назвать разом спокойствие, ясность и чистоту? Тишину благостную, когда внутри и вокруг — свет?
— La sérénité! — на выдохе вырывалось.
Бывает, слово найдется — и нарадоваться не можешь. Думаешь: как раньше жил без него? Порой из далекого языка придет, но так на душу ляжет, будто родное.
— Quel jour serein le ciel presagе! [2]
В ярославское утро ворвался Шиллер. Мама сама удивилась. Еще девчонкой читала «Вильгельма Телля». Книгу под мышку — и на реку. В лодке любила читать. Папа всегда разрешал. А мама приносила перчатки: «Руки береги, Светланка».
В доме напротив жила тетушка Лена. По рожденью Селин, корнями француженка. «Имя береги, Светланка. Только кажется, что его нельзя потерять. Легче перчаток, мой ангелок. А порой и самой оставлять приходится», — повторяла тетушка Лена.
Светланка бегала к ней за книгами — так и выучила французский. Ни на одном корабле, что приходят в Архангельск, не найдешь столько заморского, сколько в шкафу тети Лены.
Ох уж этот Вильгельм Телль! Первая любовь Светланки. Смелый, духом свободный — легендарный герой далекой страны. Но будто родной молодой северянке.
«Какой безмятежный день предвещает небо», — повторяла мама и будто не верила.
И правда — ехали в колокольном звоне. Мелькали Илья Пророк, Параскева Пятница, Архангел Михаил. И дома — в свежей листве.
— Вот она — la sérénité du monde [3].
На секунду маме хотелось выхватить руль и поселиться прямо здесь. Где солнце не знает границ.
Но увидела Ваню и Любушку.
— Какое благостное слово — un esprit [4]. Разум и дух — воедино, в одном слове. Сохранить, только бы сохранить. Вот спасение — un esprit serein! [5] Только бы перевести.
Выдох мамы врезался в окно. Безглавая деревня. Звучит «Прощание славянки». Провожают пятерых.
V
Над Ивановской областью было истинно левитановское небо. Насыщенно-синее. Звенящая лазурь. А под ней горящая осень — тоже левитановская.
Любушка опустила стекло и протянула руку. Казалось, она касается каждого дерева.
— Ваня, помнишь в Третьяковке? «Над вечным покоем» и «Золотая осень» — только наяву и неразделимо вместе! Разве не чудо, Ваня?
— Люба, мы были в Новой Третьяковке. Смотрели Малевича, не Левитана. Путаешь.
Любушка ничего не путала. Прошлая осень. Под зонтом в Лаврушинский переулок. Ваня мечтал увидеть Рублева. Потом наверх, к Левитану. «Гляди, это не живопись — поэзия». Скамейка посреди зала. Крепкое плечо Вани. Так и сидела бы всю жизнь.
А Ваня забыл. Любушка не обиделась, только вздрогнула: «А что еще сотрется из его памяти там, за границей степного солнца?» Любушке стало зябко. Подумала: «Ветер» — и закрыла окно.
Одна Любушка приметила поворот на Плёс, который мигом остался позади. Два лета подряд она проводила Яблочный Спас у подруги в левитановском Плёсе. Какие яблони над Волгой! На Севере таких не найти. Любушке так хотелось показать их Ване. Она писала ему стихи, посылала в конверте с веточкой:
Над вечернею Волгою алою
Запах яблочный плыл дотемна.
Как умела, его собирала я —
Для тебя, для тебя.
Тем временем небо чернело. Собирался дождь.
Урчало в животе у дяди Жени. Пора обедать.
VI
Дядя Женя был другом семьи.
По молодости чего не дружить — весело, шумно. А как заболел папа у Вани, ходить занемог, один друг и остался. Забежит дядя Женя в гости, закурит, байку затянет — хорошо сразу.
А с виду такой суровый. Брови — на все переднее зеркало. Спросонья Любушка даже вздрагивала
