автордың кітабын онлайн тегін оқу Олений колодец
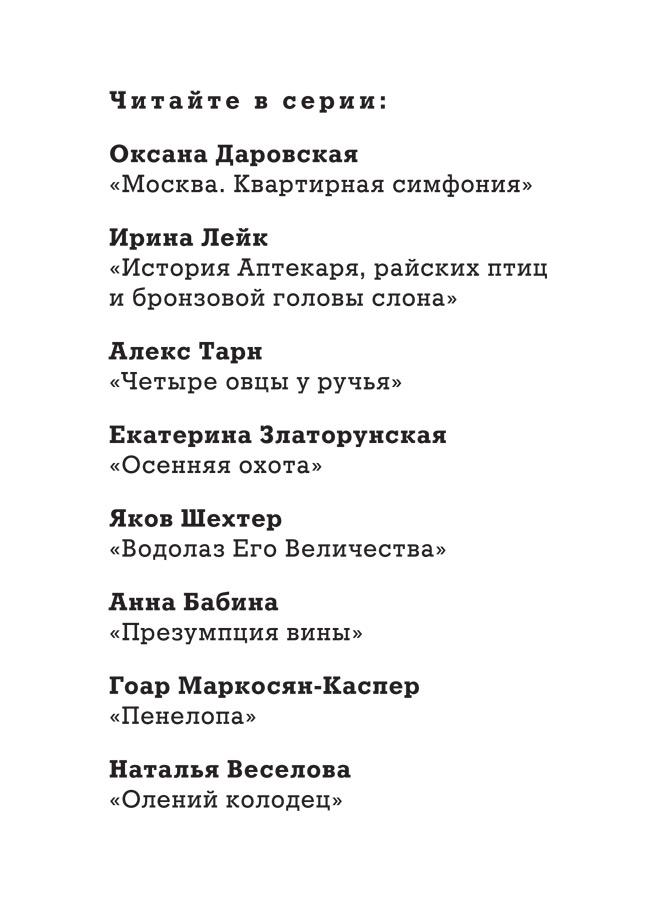

16+
Дизайн обложки
Виктории Лебедевой
Веселова, Наталья.
Олений колодец : роман / Веселова Наталья. — Москва : Азбука : Азбука-Аттикус, 2024. — (Имена. Российская проза).
ISBN 978-5-389-27555-3
Верите ли вы, что судьбы людей, не просто незнакомых — разделенных целым веком, могут переплестись? И не только переплестись — отразиться друг в друге, словно в зеркале?
1918-й. Голодный, разоренный Петроград. Ольга и Савва — молодая пара, они видели смерть, знают цену жизни. Савва серьезен не по годам, без памяти влюблен в свою Оленьку, трогательную и нежную, и уверен, что впереди долгая, счастливая жизнь. Надо лишь пережить трудные времена.
Наши дни, Санкт-Петербург. Савва — коренной петербуржец, страстный коллекционер. Карьера, интересные знакомства, колоритные женщины — все это в прошлом. Сегодня остались только любимое дело и воспоминания.
Оля, по прозвищу Олененок, уже не юна, но жить, по сути, еще не начинала: тотальный контроль со стороны мамы, отсутствие личной жизни, тайная страсть к мужчине, который об этом и не подозревает.
Они встретятся, когда одним жарким летним днем Олененок окажется запертой в глухом питерском доме-колодце, застряв между жизнью и смертью. И вот тогда-то Савва наконец узнает мрачную тайну своего прадедушки, поймет, почему ему дали такое редкое имя, и еще поймет, что судьба иногда подкидывает сюжеты, которых не найдешь в самых интересных книгах и фильмах.
© Веселова Н., 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024
Издательство АЗБУКА®
Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю,
Оттого, что иной не видал.
О. Мандельштам
ПРОЛОГ
Сегодня она ела только вечером, остатки крупы — замечательной желтой крупы, состоявшей из крошечных блестящих шариков. Маленькой женщине, которой удивительно шли остриженные темно-рыжие волнистые волосы, делавшие ее умненькую головку на длинной трогательной шейке с голубыми жилками похожей на растрепанный осенний цветок, — этой вчерашней девочке утром не удалось не только сварить постылую кашу, но даже довести воду с крупой и солью до кипения. Последние два полена (как быстро растаяла нарядная горка березовых дровишек у низкой кухонной плиты!) превратились в золу совершенно напрасно, не дав ни настоящего жара железному листу, на котором стояла небольшая кастрюлька, ни даже сколько-нибудь значимого тепла убогому чужому жилищу, — только слегка нагрелась вода, в которой до заката осталась набухать яркая горстка пшена.
Чего только не ела за последний невероятный год эта женщина! Она и печенье пекла из картофельной шелухи и кофейной гущи, и брюнетное мясо научилась сдабривать перекисшей квашеной капустой, чтобы ослабить неперебиваемый вороний дух, и даже жесткую маханину1 привыкла считать деликатесом… А вот сырой крупы еще не пробовала — как-то всегда удавалось достать либо дров, либо керосину. Ничего, когда та размокла и увеличилась в объеме раза в три, оказалось, что есть вполне можно, если очень голодно, и даже сытость какая-то пришла — влажная тяжесть, если точнее.
Зато теперь еды не осталось вообще — ни крошки съестного во всей квартирке. И если она, уже сейчас отчаянно слабая от давнего и постоянного голода, в ближайшее время отсюда каким-либо способом не выберется, то к вечеру следующего дня и подавно не сможет предпринять никакой попытки. Просто останется, обессиленная, лежать на этой коварно мягкой кровати, медленно окутываемая сладкой роковой дремотой, и постепенно заснет навсегда… Ой ли? Так, говорят, замерзают насмерть, но такова ли смерть от голода? Не разбудит ли он свою жертву нестерпимыми спазмами и раздирающей болью, не заставит ли срывать обои и слизывать изнутри сухой крахмалистый клейстер (раз такая мысль уже приходила, то придет и еще!), грызть в помрачении ума деревянную мебель?! А потом не лишит ли остатков разума, не заставит ли броситься в бездну с высоты двадцати с лишним аршин2?!
Женщина в тысячный раз метнулась к узкому кухонному окошку, стыдливо прилепившемуся к боковой стене, рванула на себя раму, и в лицо ей ударил странно морозный воздух ясного майского вечера. «Май — коню сена дай, а сам на печку полезай», — так, кажется, любила приговаривать ее старенькая няня, юной девушкой привезенная в Петербург откуда-то с северных морей. «Сиверко…»3 — задумчиво тянула она, бывало, кутаясь на их лужской даче в самом конце весны в выцветшую шерстяную шаль и глядя с веранды, как насильник-ветер жестоко срывает бело-розовый девичий наряд с хрупких юных яблонь… Ее маленькой воспитаннице всегда казалось, что Сиверкой должны звать седого в яблоках коня, — и даже сейчас, взрослой и уже неделю как замужней («Вдове», — глухо отдалось в сердце), ей при быстром ветреном ожоге почему-то привиделся добрый конь сероватой масти…
Широко расставленные, чуть удлиненные темно-карие глаза девочки-женщины отчаянно глянули вниз. Все то же: захватывающая дух безнадежностью бурая кирпичная шахта двора без единого стеклянного ока-окна. Двор-циклоп, чей единственный глаз под крышей — именно то окошко, из которого она сейчас с тоской смотрит то вниз, на покрытый слоем накиданного непогодой мусора пятачок земли, то вверх, на неровный ломоть льдисто-перламутрового неба над ржавыми крышами и трубами этой жуткой весны. Весны, подобной которой еще от века не было и в которую ее угораздило жить, любить, стать женой — и вдовой. Она уже не могла сомневаться в этом последнем: бесполезно громоздить в пылающей фантазии Анды и Кордильеры причин, помешавших ее мужу вернуться с подмогой. Будь он жив — примчался бы в то же утро. Будь ранен — прислал бы друзей не позже следующего дня, а прошла уже целая неделя!
Его нет. Она вдова.
Перед ней — только немые, уходящие в пропасть стены, на одной из которых — тонкая железная лестница, куда ее молодой муж по-обезьяньи ловко перекинул свое стройное длинноногое юношеское тело и, на прощанье крикнув: «Я скоро-а!» — откуда-то совсем из-под крыши, уже невидимый, исчез из ее жизни навсегда.
Прикрыв окно, женщина прикоснулась к голове кончиками пальцев, тотчас ощутив бешеную пульсацию в висках. «Я должна решиться сейчас… Именно сейчас. Побороть страх! Дышать глубоко и размеренно. Вот так… Потом будет поздно. Если не ради себя самой, то ради…» — узенькая ладошка с тонким обручальным колечком опустилась к животу, где если бы вдруг оказалась вторая, родная жизнь, то очень нескоро бы стала явной. Она стремительно прошла к убогой вешалке у входной двери, сняла куцое темное пальтишко, торопливо напялила его, привычно музыкально пробежавшись пальцами по мелким пуговичкам, схватила черную девичью шляпку и, не глядя на себя в зеркало в смутном страхе встретиться с зеркальной обитательницей взглядом и передумать, наугад нахлобучила себе на голову. Прочную кухонную обшарпанно-голубую табуретку она подтащила к окну, легко взошла на нее, как на сцену, потянула раму за ручку, решительно переступила на подоконник.
«Только не смотреть вниз! Там все равно нет ничего, кроме веток и тополиного пуха за… Сколько лет стоит этот дом? Лет двадцать?.. Ветки и пух за двадцать лет — и ничего больше. Ну, может, парочка дохлых кошек или ворон… Нет, не смотри! Только на лестницу! Сначала нужно дотянуться до нее и крепко ухватиться за край левой рукой, потом перенести тяжесть тела влево, а правой держаться за раму… Одновременно занести на лестницу левую ногу, найти перекладину и встать на нее… И тогда уже оторваться от рамы и… Ну, сколько тут? Полтора аршина? Меньше, меньше! Конечно, меньше! Не страшно, не страшно… Вот сейчас… Зато как хорошо будет, когда я окажусь на ступеньках, — только лезть вверх!»
Но ее тонкие изящные ножки, обутые в высоко зашнурованные остроносые мамины ботики, не были так длинны и ловки, как у мужа, довольно легко, с прибаутками, перемахнувшего на лестницу неделю назад. И худенькие пальчики не привыкли долго и цепко держаться за мерзлый металл. Кончик левого ботинка царапнул чугун и, не нащупав спасительной перекладины, скользнул раз, другой — все тело уже доверилось левой тянущейся ноге! — но та никак не находила опоры… Настал миг острой, насквозь пронзившей мысли: «Все! Назад уже не вернуться! Либо — туда, либо…» И в эту секунду, распятая на углу из двух стен, как святой апостол Андрей на косом кресте, она вспомнила, что не взяла со стола рамку с их свадебной — и единственной! — фотографией, та осталась на столе у изголовья кровати, и ее никогда, никогда теперь не вернуть! Быстрая страшная мысль мгновенно лишила женщину сил и воли к борьбе — она словно осталась без магического талисмана, священного тотема, утратила путеводную звезду… Правая одеревеневшая рука оторвалась от рамы, взметнулась… Хрупкое тело рывком дернуло влево, на волю бесчувственных от железного холода слабых пальцев — и они беспомощно разжались; стало стремительно удаляться запрокинутое небо.
Наконец оно резко остановилось, зависло высоко над беззвучно упавшей на спину маленькой женщиной, приняло свою единственно возможную здесь форму — квадратную — и жемчужная голубизна померкла. Сотрясение медленно проходило. Боли не было вовсе, словно тонкое тело приняла в себя какая-то давняя детская перинка… Точно, перинка, и мама — или не мама, вернее, не совсем мама, но это неважно теперь — неспешно качает теплую колыбель.
— Видишь, я попыталась, но у меня не получилось… — виновато пожаловалась кому-то юная женщина, не размыкая губ. — У меня же крыльев-то нету…
— Скоро будут, — ответили ей. — Ну вот, уже есть… Что ты лежишь? Полетели.
1. Конина (простореч.). (Здесь и далее, за исключением специально оговоренных случаев, примечания автора.)
2. В одном аршине 71 см.
3. Холодная, ветреная погода (архангельский диал.).
Часть 1
Глава 1
ПУСТАЯ ШОКОЛАДИНА
О, слава, слава русскому народу!
Свершилось ныне чудо из чудес:
Народ себе завоевал свободу,
Народ воскрес — воистину воскрес!
Т. Щепкина-Куперник
Февральский, без пяти минут весенний Петроград выглядел в том году как большая черно-белая фотокарточка, попавшая в руки беспечному художнику: взял он беличью кисть, щедро обмакнул ее в неразбавленную алую краску — да и стряхнул над унылой картонкой. И вспыхнул невзрачный мир красными гвоздиками, розами и маками, и сами собой расцветали вокруг искренние улыбки… Городовые с их грозными бляхами враз исчезли с праздничных улиц, сметены были возбужденной толпой с яркими отметинами на одежде: выйти в те дни на улицу без пышно пламенеющего банта значило не больше не меньше предать саму гордую деву Революцию.
Чуть посинел в сумерках воздух — и тотчас загорелись повсюду высокие костры, озарявшие тысячи вдохновенных лиц, и был братом человек человеку: застегнутый на все пуговицы учитель в котелке и пенсне ломал пополам свою зачерствевшую осьмушку ржаного хлеба, от души угощая усатого солдата в перечеркнутой багряной полосой лихо сидевшей шапке, утонченная барышня в вуалетке, как с подругой, щебетала с чужой волоокой горничной…
В ночь на последний зимний день 1917 года из Таврического дворца весело летел небольшой «бьюик» с откинутым верхом — и в нем тоже горели словно четыре маленьких костерка — трепетали на ветру яркие ленты бантов на двух студенческих шинелях, одном тощеньком девичьем и одном солидном мужском пальто. Трое из бантоносцев знакомы были уже достаточно давно, оттого и зачислились в одну революционную санитарную бригаду, и дежурство в Таврическом дворце всегда несли одновременно. Два студента выпускного курса физмата — Володя Хлебцевич и Савва Муромской — трогательно дружили со студенткой Женского медицинского института Леной Шупп, третьим важным участником их бригады (причем Савва небезосновательно подозревал, что просто и честно дружит с «Лелей» только он сам, а товарищ его Володя испытывает чувства куда более романтические). Молодой жизнерадостный доктор, недавно выпустившийся из академии, был сегодня принудительно добавлен к ним в нагрузку, потому что, не имея лекарского диплома, Лена пока могла только исполнять обязанности сестры милосердия, и к ее распахнутым льдистым глазам очень шел скромный белый повойничек с красным крестом, ниспадавший на суконное с седой полоской каракуля пальтишко.
По ночному революционному городу к местам перестрелок ездили они втроем уже не первый раз, бесстрашно неся человеколюбивую службу: оказывали первую помощь раненым, при необходимости подбирали их и доставляли в ближайшие госпитали. Когда втроем дежурили, двоих недужных вполне можно было втиснуть на заднее сиденье, а сейчас, с доктором, сзади помещался только один раненый, второго же пришлось бы класть поперек, на колени сидящим, что вызывало у всех легкое недоумение. Шоффэром в бригаде бессменно трудился Савва — высокий худой молодой человек, в котором тем не менее чувствовалась немалая физическая сила: ловкий, поджарый, быстрый и точный в движениях, он, при всей чисто русской неброскости внешнего вида, невольно заставлял любоваться собой. Выучиться управлять автомобилем ему посчастливилось двумя годами раньше, летом на даче, когда богатый владелец соседнего имения приобрел себе техническую новинку и нанял к ней шоффэра-профессионала — добродушного основательного дядьку, который охотно подружился с пытливым студентом, желавшим во всем добраться до сути, и, убедившись в неподдельном интересе юного друга и отсутствии от него какой-нибудь угрозы для своего подопечного новенького «доджа», вскоре допустил его до сверкающего авто, тайком разрешая садиться за руль на полевой дороге и разгоняться даже до тридцати верст. Теперь в революционном Петрограде, где извозчики попрятались, а трамваи встали, Савва быстро наловчился лихо рулить в потемках в свете солдатских костров, пронзительно гудя в клаксон и безмолвно гордясь изяществом своей шоффэрской повадки.
Володя Хлебцевич, приятель его по университету, казался увальнем — крупный, русоволосый, с типичным мягким хорошим лицом и большим благородным сердцем. Он писал и с удовольствием декламировал стихи, увлекался экономикой и даже недавно разразился каким-то трактатом в подражание Марксу — Савва хорошо помнил его название: «Золото как посредник обмена» — в прошлом году на еще не революционном студенческом собрании Володя делал доклад и краснел, как институтка, от дружеской похвалы. И новаторству был совсем не чужд милый Володя: про его проект летательного велосипеда слышал на физмате, наверное, даже швейцар. А что? Это при косном царском режиме, душившем все живое в науке, таким романтикам ходу не было, а теперь, когда свободная мысль вот-вот восторжествует навсегда, — возьмут да и полетят Володины велосипеды в синем небе! В патруле Володя участвовал, конечно же, ради Лены, к которой относился очень трепетно, — ну, и медвежья мощь его, когда несчастных надо было практически нести в авто, не раз за последние тревожные дни пригождалась.
Пригодиться могла и сегодня, когда мчались они из Таврического на Васильевский остров, где, как телефонировали, все не мог угомониться лейб-гвардейский Финляндский полк, затеявший уже бессмысленную перестрелку с восставшими солдатами и рабочими. Доктор, отпускавший вполне приличные в присутствии барышни шутки, и взволнованный Володя сидели позади, Лена — рядом с Саввой, и все смеялись даже глупым анекдотам: радостное возбуждение в ожидании чего-то невыразимо прекрасного, готового вот-вот наступить, охватило в те дни буквально всех, общая приподнятость над землей ощущалась любым восприимчивым сердцем. Даже вошедший последнее время в привычку легкий голод не становился поводом для особого огорчения — потому что Революция же! — значит, скоро будет много всего и для всех.
— Все-таки жаль, что так сразу выехали, даже супу тепленького не успели поесть… — с беззаботной грустью произнесла вдруг Лена.
— Лелечка, мы сейчас только посмотрим, что там, и сразу обратно, — немедленно ласково наклонился к ней Володя. — Слышишь, там, кажется, стихает уже. Наши порции нас дождутся, можешь быть уверена…
— Да, а сейчас поешь вот, — неосознанно и без всякого желания соперничая с Володей, Савва залез на ходу в свой карман, доставая аккуратный сверток, полученный утром от мамы. — Из дома.
Лена неуверенно взяла угощение и, взглянув на тонкий кусок мяса между двух лепесточков хлеба, обрадовалась:
— Сэндвич! Ой, Савка, у тебя был, можно сказать, целый обед в кармане, а ты молчал, жадина-говядина, пустая шоколадина… — и она принялась энергично жевать.
— Только это не говядина, а конина, — потянул носом Володя, немножко расстроенный тем, что не он стал мимолетным избавителем красавицы.
— …сосисками набитая, чтоб не была сердитая, — упрямо закончила дразнилку Леночка. — Но все равно спасибо, очень-очень вкусно!
— Хотел бы я, чтобы меня сейчас набили сосисками, да поплотнее, — хохотнул Савва.
— Господа, внимание, — посерьезнел в этот момент доктор. — Кажется, подъезжаем!
— Все мы теперь граждане, — проглотив последний кусок, наставительно заметила Лена.
Съехав с Тучкова моста, они сразу услышали, как вдруг отчетливо стрекотнуло из пулемета впереди, у Среднего проспекта, где давно уж в неразберихе костров, мечущихся человеческих силуэтов и лошадиного ржанья, то и дело трещали, приближаясь, выстрелы. Лена рывком привстала на сиденье и звонко крикнула:
— Смотрите, там кто-то упал!
— С ума сошли!!! Пригнитесь!!! — громовым голосом рявкнул врач, но было поздно: пулеметная очередь откуда-то сверху, из-под крыш, прицельно прошлась по машине, зазвенело, разлетаясь, стекло.
Протяжно ахнув, Лена кулем завалилась на растерявшегося Савву, машину швырнуло в сторону, но Хлебцевич с воплем перегнулся вперед:
— Надо Лелю вниз стянуть! — И это оказались его последние слова: уже не очередь, а просто одиночный выстрел щелкнул в темноте, как извозчичий кнут, и Володя без звука сполз за спинки передних сидений.
Вынужденный оттолкнуть Лену локтем, Савва изо всех сил вывернул руль, и автомобиль на секунду нырнул во тьму, ткнулся носом в черный сугроб, с визгом сдал назад, но сумел тяжело развернуться — и помчался в обратную сторону… У набережной Невы, когда выстрелы отдалились и спрятались за дома, Савва дал по тормозам и уронил руки на колени. Его трясло так же, как и подбитый «бьюик», посмотреть вокруг не было сил, но сквозь отходящую оглушенность он чувствовал, как вылезает откуда-то снизу и копошится над двумя телами неуклюжий доктор, как грубо трясет его за плечо… Он знал, что непременно должен отозваться, но все откладывал и откладывал этот невозможный момент. Наконец, решился волевым усилием включить непослушный слух.
— …наповал, говорю, — донеслось до Саввы. — Студент — наповал, в голову. А барышня жива еще, но кровью истечет, если вы не поторопитесь. Так что обморок ваш заканчивайте и гоните на Суворовский в госпиталь, там операционных больше и хлороформ есть.
Савва опомнился и машинально завел усталый мотор.
* * *
Над широкими, наполовину остекленными дверями, на которые Савве указал пробегавший солдат-санитар, выделялся крупный буквенный барельеф: «Любострастное отделение». Молодому человеку потребовалась долгая минута, чтобы постичь потаенный смысл прочитанного и догадаться, что речь шла о венерических болезнях. Это отделение с началом войны переехало куда-то в другое место, освободив пространство для размещения раненых, бесперебойно поступавших с фронтов, и недели три как добавившихся к ним подстреленных жертв Великой Русской революции. Николай II еще в начале марта отрекся от престола, так что революцию можно было считать свершившейся — только вот уличных столкновений от этого не убавилось, и менее ожесточенными они не стали…
Если бы Савва зашел с утра в родной дом к семье, то вполне мог бы принести раненой Леночке Шупп передачку посытнее: мама всплеснула бы руками и расстаралась, достав для несчастной героической сестры милосердия наипоследнейшие лакомства, припрятанные на гипотетический еще более черный день, чем сегодняшний, — какую-нибудь вареную картофелину с каплей постного масла, жилистый кусочек конины и ноздреватый осколок рафинада. Но тогда пришлось бы рассказать маме, глядя в ее проницательные глаза, и о гибели вхожего в родительский дом Володи Хлебцевича, а дальше она и сама догадалась бы, что сын ее под пулями оказался рядом с теми, кого эти пули настигли, а значит, сам чудом избежал той же участи… А что такая догадка сделала бы с ее и без того изорванным за последнее время сердцем, Савва и представлять себе боялся, потому и шел теперь навещать прооперированную, но уже выздоравливавшую Лену с двумя взятыми в долг у однокашников под честное слово пайками хлеба, жидко присыпанного толченым сахаром…
На вопрос о раненой девице Шупп усталая сиделка мотнула головой из-под зеленой лампы в сторону высокой двери со стеклянными квадратами, за которой слышалось басовитое гудение мужских голосов. Он шагнул туда, слегка удивленный, и замер на пороге, оказавшись в просторной хирургической палате, специфически пахучей и густо уставленной железными койками с увечными мужичками в одном белье. Несколько усатых рож повернулось к нему — и из-под разнообразных усов немедленно выскочили одинаковые у всех ухмылки: по студенческой тужурке, на которую был небрежно накинут белый маленький халатик, мужички немедленно определили, куда лежит путь ее обладателя.
— Туда тебе, студент. Там твоя барышня, у стенки спрятана. — И замахали забинтованными конечностями в сторону дальнего угла, наглухо отгороженного от общей палаты казенными коричневыми одеялами, свисавшими с протянутых бинтов на манер плотных гардин.
Савва постучал по стенке рядом с одеялом, деликатно окликнул Лену и, настроенный на ее радость, поразился тому, как растерянно, почти с ужасом прозвучал ее ответ:
— Савва?! Нет! То есть конечно… Только я… Нет, невозможно… — И голос перешел почти в рыдание: — Ах, боже мой, зачем, зачем…
Ничего толком не понимая, молодой человек все-таки деликатно отодвинул одеяло и скользнул в импровизированную «отдельную палату».
Приглушенный матовым колпаком свет скупо лился от стенной лампочки в изголовье белой кровати, явный запах человеческой нечистоты и выделений сразу вызвал легкую тошноту, а на подушке, как показалось в первый момент, лежала не златокудрая головка славной веселой Леночки, а обтянутый темной кожей с прилипшими жидкими волосами череп старухи, раздавленной горем и недугами. «Вот что такое — отпечаток страданий, — быстро пришла из ниоткуда сразу принятая сердцем мысль. — Теперь я знаю. Теперь я всегда буду его узнавать».
Леночка быстро отвернула лицо, прикрывая его приподнятым уголком одеяла.
— Не смотри, — донеслось до Саввы еле слышно. — Я не хочу, чтобы меня такой видели. Ты напрасно пришел, уходи… Мне ничего не нужно, спасибо…
Но он каким-то образом совершенно точно понял, что если повернется и уйдет сейчас, положив на столик пакет с хлебом, то Лена его не простит, хотя, вроде бы, ее просьба будет выполнена в точности. Он мало знал женскую душу, больше опираясь на расхожий образ «порядочной барышни», но сейчас не сомневался, что его мужской и дружеский долг — именно остаться и терпеливо убедить девушку в том, что она так же мила и привлекательна, как и раньше, а если и есть какие-то мелкие недоразумения — то они преходящи и вообще никому не заметны. Савва сделал широкий шаг к кровати и произнес единственно верные слова, бог весть как вдохновенно выловленные из хаоса мыслей:
— Лена, ты не должна так думать и говорить: Володя бы никогда этого не одобрил.
И — диво! — в ответ из-под одеяла робко выглянули совершенно прежние, Лелины глаза, как-то сразу ожило и прояснилось осунувшееся от физической и душевной боли лицо.
— Да, да, Володя, Володечка… — И Лена заплакала, но не отчаянно и убийственно, как рыдала, должно быть, все последние дни до его прихода, а обычными и светлыми девичьими слезами.
Савва осторожно присел на хлипкий стул у кровати.
— Университет на днях отправил его… — Он запнулся. — В смысле, в гробу… гроб… В Сызрань, к родителям… Он оттуда родом… был… Говорили тебе?
Лена горестно кивнула, глянула немного отстраненно и внезапно быстро-быстро громким шепотом заговорила о другом:
— Савва, если б ты знал… Что я тут слышу из-за этого одеяла… Эти… мужчины… прекрасно ведь знают, что я тут, в этом проклятом закутке, и тем не менее… Я такого никогда… Господи, о чем они говорят!.. И каким словами!.. Я даже не подозревала, что может быть такое… скотство… Да, скотство… Нет, хуже скотства, потому что животные ведь не понимают… И… И они подсматривают, Савва! И даже не трудятся это скрывать! Щелку узенькую делают и одним глазом заглядывают по очереди… Я жаловалась сиделкам и доктору жаловалась, но им всем не до этого сейчас… Все, как пьяные, — революция, революция, свобода… Не обращайте, говорят, внимания — насилие не пытаются учинить — и ладно, женских палат у нас в госпитале нет, а отдельные революция упразднила, теперь все равны… — По лицу ее бежали странные тени вперемешку со слезами. — Нет, ты даже представить себе не можешь!..
Но Савва мог. Его товарищи-студенты во время дружеских попоек не то что не стеснялись в выражениях, а считали хорошим тоном бравировать откровенностями, называя вещи своими именами, уж точно не пропечатанными в естественнонаучных книгах. И хотя то были вполне приличные, вхожие в общество юноши из «хороших семей», Савва, быстро научившись не заливаться краской до ушей, когда в них влетала очередная изящная сальность, все равно каждый раз краснел не лицом, а всею душой целиком — и был даже в какой-то степени рад этому обстоятельству. Оно означало, что некий внутренний камертон не сломался еще и понятие о высоте души не утратил… Но сейчас, пытаясь представить, как о тех же самых «природных» вещах рассуждают в долгие часы досуга двадцать мужиков, по рождению низких, молодой человек испытал настоящую физическую боль — за несчастную большеглазую девушку, простреленную в четырех местах, закованную в гипс, пригвожденную к скрипучей неудобной койке с вульгарным судном под ней, не имеющую возможности даже воззвать к чужой нравственности, — потому что здесь просто не понимают, что это такое.
— Лена, — как мог твердо сказал Савва, — со скотством тебе придется смириться. Они — вот такие. Их не касалось ни образование, ни даже сколько-нибудь приличное воспитание. Они — как дети, большие испорченные дети. Так к ним и относись. Будь выше и радуйся за них — ведь они могли вырасти такими только в прежней, косной России. Но очень скоро все наладится — ты и сама понимаешь. Образование и воспитание будут доступны всем, бесплатно, лучшие педагоги ими займутся… А сейчас… Ну, думаю, революционный переходный период нам нужно просто перетерпеть, вот и все. Так что в этом смысле просто возьми себя в руки. Постарайся, пожалуйста…
— Да я уже взяла себя в руки во всех смыслах! — Ладонью здоровой руки — вторая была загипсована до плеча — Лена размашисто вытирала слезы, но те сразу же набегали вновь. — И смирилась — тоже во всех. Взяла себя в руки и не плачу, а просто зажмуриваюсь, когда из-под меня посторонний человек вынимает судно, а потом меня же и… вытирает, прости… Я сама другим это делала, я ведь до того, как получила право работать сестрой милосердия, и сиделкой была — а как же, жить-то надо, за квартиру платить, за учебу! Я-то, дура, думала, что это ужасно для меня — вынимать это — из-под больных… вонючих… И думала, ну ладно, надо смиряться, я будущий врач… Я ведь дворянка, Савва, бывшая… Ты, конечно, тоже… А оказывается, это гораздо ужасней для того, кто лежит, Савва! Не в пример ужасней! Унизительней! И это он смиряется, а не тот, кто над ним наклонился — с брезгливостью… Знаешь, иногда мне кажется, что лучше бы, как Володечка, — даже не вскрикнул… Интересно, как бы ему здесь пришлось — его-то одеялами не отгородили бы…
— Вот это он уж точно как-нибудь пережил бы, — искренне сказал Савва. — Я уверен, что он с радостью лежал бы здесь вместо тебя.
— А где все его бумаги? — спросила вдруг, очнувшись от слез, Лена. — Он ведь стихи писал, ты их видел? Теперь они что — все погибнут? Помню, одно называлось — «Мертвая петля», про авиаторов… — И вдруг она схватила своего друга за руку: — Савва! А тебе не кажется, что мы… Все мы, русские… Вся Россия… словно делаем мертвую петлю? И совершенно неизвестно — выправимся ли, полетим ли дальше, как Нестеров4?! Или в штопор — и насмерть, как Хоксей5?!
— Ну что ты! — авторитетно заверил Савва. — Самое главное дело мы сделали: царь низложен, он в Царском сейчас, под арестом — ну, ты слышала, конечно… Основные трудности позади, впереди — только здоровое созидание. А все это… — Он пренебрежительно очертил в воздухе полукруг. — Трудности роста… Наша Революция — еще младенец, вот она и агукает в колыбели. Да, пока не особенно благозвучное агуканье, — нарочно пошутил и сам своей шутке усмехнулся, чтобы поднять девушке настроение. — Но, поверь, уже через год ты не узнаешь нашу малышку — такой умницей и красавицей вырастет… Ну а Володины стихи мы вместе со всеми вещами… и готовальней… к его семье отправили… Я не догадался что-то для тебя оставить, не был уверен, что вы… — он бросил на Лену испытующий взгляд.
Она поняла и скорбно прикрыла глаза:
— Нет, не мы, а только он. Так трогательно, почти по-детски… Ему и было-то всего двадцать два года, а я ведь старше. Но, возможно, потом бы… И даже наверное. Потому что не оценить его я не смогла бы — такой он… — она запнулась, подбирая слово, — трепетный… был. Это теперь редкость, теперь — вот… — грустно кивнула в сторону висящего одеяла, за которым гудели низкие голоса и временами вскипал нехороший регот.
Савва поднялся, собираясь уйти и убеждая больную отдыхать. Он твердо пообещал прийти еще не раз, Лена вдруг задержала его взглядом.
— Можно попросить тебя о чем-то не совсем обычном? — очень тихо спросила она. — Таком, что доверить можно только проверенному другу и благородному человеку?
Польщенный неожиданной высокой оценкой, Савва со спокойной готовностью улыбнулся ее тревожным, почти прозрачным светло-голубым глазам и мягко, но с достоинством произнес одно веское слово:
— Приказывай, — и самому понравилось, настолько правильно было это сказано.
— Понимаешь, — шепотом заговорила девушка, — я живу одна, маленькую квартирку снимаю, совсем под крышей, почти темную, с одним только окошком… И без прислуги — потому что это мое убеждение: нельзя, чтобы другие люди тебя обслуживали, нужно самой привыкать… Зато мне и попросить некого теперь, — она жалко улыбнулась. — Там спрятаны некоторые вещи, которые непременно должны быть со мной везде, но подруги по институту и кузина… В общем, я никому настолько не доверяю, кроме тебя. На дне платяного шкафа, в углу, есть большая шляпная картонка, в ней две шляпы, а под ними вуалетки, перчатки там всякие, воротнички, платочки — это все я специально туда напихала, потому что внизу — мой дневник, связка писем и фотокарточка — для меня сокровище. Сердцу дорогое… Но я не думаю, что кузина или наши барышни не… Наоборот, я уверена, что, если попрошу их мне это все принести, они обязательно сунут туда свой нос. Обязательно! И будут потом судить-рядить за моей спиной. Гадость, но это так. А ты — благородный человек, дворянин. Ты никогда не посягнешь на мои тайны… Сходи туда, пожалуйста, и принеси — это на 12-й Роте, у Измайловского, вход со двора, ты легко найдешь. Больше ничего не нужно — за моим бельем и прочим кузина уже сбегала, а про картонку я ей ничего не сказала. В столике здесь мой ключ, возьми — да, и там у меня дома в письменном столе, в верхнем ящике, есть второй — его тоже захвати на всякий случай, не забудь… Я сама-то теперь нескоро смогу туда подняться по той лестнице… Ну что — сходишь?
Савва активно закивал, заулыбался и напомнил:
— Я уже пару недель как не дворянин, к счастью… Но все принесу в целости и сохранности — и письма, и дневник — и никуда, разумеется, заглядывать не стану. Слово чести.
— И карточку! — почти крикнула Лена. — Она в рамке толстой, ты ее вынь, вложи в тетрадку дневника, а рамку на столе оставь… Спасибо тебе, Савва, Володя всегда в тебя верил, и я за ним! Пиши адрес…
* * *
Квартирка Лены Шупп на вкус Саввы была несколько жутковата. Вероятно, хозяин доходного дома в свое время нарезал квартиры на дорогие и дешевые, установив перегородки и оставив каждому жилищу по одному входу: квартирам подороже — только парадный, а для нищих студентов и курсисток сгодилась и черная лестница с высоченными ступенями. Подбираясь к последнему пятому этажу едва ли не в полной темноте, даже Савва, числивший себя почти что в спортсмэнах, слегка запыхался. Бедная Леночка! Он открыл медным ключом массивную квартирную дверь и оказался в междверном пространстве, где с одной стороны располагались глубокие прохладные полки с кастрюлями — в такие же «норы» и его квартирная хозяйка задвигала посуду с готовыми кушаньями, чтобы, по крайней мере, семь месяцев в году о доставке льда можно было не беспокоиться. За второй дверью с мощным внутренним засовом оказалась сумрачная прихожая, где и двоим было бы трудно разминуться (а рассеянно-догадливая рука тайком от хозяина механически стянула с его головы фуражку и нацепила ее на одинокий крючок вешалки). Шагнув в раскрытую дверь, Савва оказался в узкой, желто-бордовой плиткой выложенной кухне. Слишком тусклый для ясного мартовского утра свет едва протискивался в чистое, нежно прильнувшее к боковой стене высокое вертикальное окошко в форме срезанной внизу апельсиновой дольки, слева от которого, у другой стены, растопырилась на гнутых чугунных ножках глубокая сероватая чаша ванны. Он повернул стенной выключатель — и сразу ожила трехрогая лампа с голубыми плафонами-колокольцами. Низкая дровяная плита была чисто побелена, но на столе в беспорядке стояли и валялись фаянсовые баночки со сброшенными крышками; надписи «мука», «крупа», «чай» на этих опустошенных емкостях ясно подтверждали Ленину правоту насчет морали ее кузины — та бесцеремонно провела на кухне небольшой родственный обыск, беззастенчиво унеся с собой съестное…
Савва полюбопытствовал видом из окна — и поежился: взгляд его упал в каменный колодец без единого окошка. Он даже не поленился отвернуть шпингалеты на раме и высунуться: так и есть — кроме этого странного полуоконца, ни одного стеклянного просвета в отвесно падающих стенах! А близкое беловатое небо струит слабый свет по рыжеватым крышам, ни капли его не роняя в эту мрачную шахту… Как только Лена такое выносила? Все дело в цене, конечно…
Молодой человек переместился в смежную комнатку — слепую, вообще без окон — и снова включил свет: тот оказался не колокольчиково-голубым, как в кухне, а ярким, золотисто-розовым, словно окно все-таки пряталось где-то в комнате, а за ним высилось вольное рассветное небо. Аскетичная обстановка жилища и обилие медицинских книг на этажерках и письменном столе с низкой плоской лампой и зеленым сукном бросились в глаза, и стало в очередной раз ясно, что хозяйка — трудолюбивая и серьезная девушка с принципами. Пара-тройка скромных безделушек, изящная фарфоровая чернильница, перламутровое пресс-папье; несколько рамок с фотографиями шелковых дам и сюртучных господ — на стене перед столом и над высокой, лишенной белья металлической кроватью, да еще серебрянкой выкрашенная круглая гофрированная печь — вот и все сомнительные украшения, замеченные в комнате прилежной студентки. Внезапно вспомнив полученные указания, Савва шагнул к столу, выдвинул ящик, без труда нашел среди какого-то хлама тяжелый позеленевший ключ, сличил его с полученным накануне от Лены, убедился в их полном соответствии и отправил во тьму, к братцу, позвякивать медью в кармане бутылочного цвета шинели.
Желтый трехстворчатый шкаф с забавными цветными витражными окошками давно утратил свои ключики и не был заперт, но плотно пригнанные дверцы все же с неохотой допустили студента до сокровищницы. Только никаких драгоценностей в шкафу не оказалось — три-четыре скромных платья на деревянных плечиках, да и то одно из них — сизое форменное, в комплекте с которым прилагался белый передник с красным крестом, одна шерстяная накидка да невысокая горка поношенных туфелек и ботиков на полу… Шляпная картонка, однако, нашлась, где и предполагалось, и Савва принялся осторожно ворошить благоухавшие почему-то сандалом разноцветные тряпочки («Ах, вот и понятно, откуда такой запах, — этот резной веер с японской росписью сделан из настоящего сандала, какая милая вещица, только Лене совсем не подходит».) Связка писем, накрест перевязанная простой бечевкой, потертая коленкоровая тетрадка (он все-таки пролистнул — исписана бисерным почерком с обилием вопросительных и восклицательных знаков — устыдился, захлопнул) и в толстой серебряной рамке, под стеклом, — фотокарточка юноши лет восемнадцати в черной шинели и фуражке реалиста6. Савва отнес все это на стол, где лампа при ближайшем рассмотрении оказалась керосиновой, потрещал коробком спичек, зажег, подкрутил фитиль и, освободив изображение из-под стекла, поднес его к дрожащему свету, вгляделся в еще почти мальчишеские черты… Ничего особенного. Вообще ничего. Никаких сильных чувств оно не отражало, как и особенно глубоких мыслей… Самовлюбленный мальчишка, уже пару раз тайком посетивший публичный дом, ночами штудирующий Фореля7… Ему до Володи, например, как до Луны! Нет, положительно, черт их поймет, этих женщин!
С досады он потянулся было почитать клеенчатую тетрадочку, внутренне оправдываясь тем, что хочет разобраться в мотивах и побуждениях этой умной и утонченной девушки, которая, решив посвятить себя благородному служению русскому народу, вместе с тем сумела когда-то влюбиться в совершеннейшее ничтожество, — и несколько минут приземленное любопытство боролось в его душе с дворянской честью, которая как будто была теперь отменена революцией. Просто заглянуть бы одним глазком, не обязательно читать в подробностях… И тут его резануло: те, в госпитале, тоже заглядывают к ней, именно одним глазом, — и ведь он согласился же, что это скотство! А сейчас, выходит, что он ничем не лучше, а сам такое же грязное животное! И, кроме того, Савве вдруг припомнилось, как его собственная мать безошибочно узнавала, если он в чем-то солгал или вообще провинился: мальчишкой ему казалось, что он ведет себя, говорит и смотрит ну совершенно как всегда, — и тем не менее мама неизменно определяла его виновность, улавливая какие-то одни ей ведомые ядовитые флюиды лжи, — и жестко обличала, обдавая глухой волной презрения… С годами он уяснил, что такая способность зачем-то дана Всевышним всем женщинам без исключения, без классовых различий и вне возраста, и если они не уличают обманщика в глаза, то делают это исключительно по каким-то собственным соображениям, — но правду знают всегда. Может быть оттого, что, тысячелетиями пребывая у мужчин в вынужденном подчинении, сами обучились виртуозно лгать им и притворяться во всех областях жизни, просто ради спасения от никогда не исключенного грубого посягательства, — но вечная эта женская игра, кажется, необходима человечеству, чтобы выжить… Вот и Лена Шупп — раненая, жалкая, почти обездвиженная, сгорающая от унижения, — а и она сразу поймет, что грош цена его пылкому слову чести, еще до того, как он отодвинет суровое одеяло, которым она занавешена, — по шагам определит, по дыханию, по пульсу…
Савва быстро вложил фотографию гадкого реалиста в тетрадку, сложил ее трубкой и затолкал в карман шинели, сунул туда же пачку писем, выключил свет, рванул, пролетая через прихожую, фуражку с вешалки, повернул в замке один из братьев-ключей — и посыпался по скользким серым ступеням.
На Измайловском, в маленьком скверике между 4-й и 5-й Ротами, тоже шел какой-то митинг, по-прежнему алели мазки бантов и флагов; некто в бушлате, с зажатой в кулаке бескозыркой, стоя ногами на скамейке, что-то жарко растолковывая гражданам освобожденной России о недавно созданном Совете рабочих и солдатских депутатов; прямо в центр митинга въехал с корзинкой на полозьях бойкий торговец и принялся за бесценок продавать еще недавно нелегальную литературу — и заваль его шла нарасхват. А тут как раз тормознул проезжавший мимо грузовик, ощетинившийся солдатскими штыками, как испуганный еж, — и с него швырнули в толпу несколько пачек немедленно разлетевшихся листов бумаги. Свободные граждане, покинув озадаченного оратора и давя друг друга, кинулись подбирать рассыпавшиеся листы, будто это были серебряные монеты, брошенные средневековым царем в качестве милостыни своим подданным. «Известия! Известия Совета депутатов!» — возбужденно кричали счастливцы, ухватившие затоптанный клочок… Мальчишка-газетчик ошалело метался, голося, среди народа и верещал так, что закладывало уши.
Савва пытался торопливым шагом миновать это место — на ум почему-то приходило слово «побоище» — но среди мальчишечьего визга вдруг отчетливо послышалась фамилия его погибшего друга: «…на гроб борца за свободу Хлебцевича…» — так, кажется, кричал газетчик. Волнуясь, Савва подозвал его: «Дай, где про Хлебцевича», — оказалось, это «Огонек», и он стал жадно листать его на ходу, наткнулся на небольшой портрет внизу страницы — серая шинель, спокойный взгляд, высокий чистый лоб… Тот же самый Володя, который едва ли не вчера поднялся в открытой машине под разрывными пулями и крикнул: «Надо Лелю вниз стянуть!» — какие дурацкие, если вдуматься, последние слова оказались у человека… Савва сложил тонкий журнал и убрал за пазуху.
Заметку эту они читали уже вместе с Леной, через два часа, в госпитале на Суворовском проспекте. Вернее, Савва читал вслух, а Лена слушала и комкала губы, стараясь не плакать: «…Бабушка русской революции Е. К. Брешко-Брешковская8, возвращаясь из ссылки, встретила в Сызрани похоронную процессию с прахом Хлебцевича и положила живые цветы на гроб борца, сказав при этом: “Так расправлялся Дом Романовых с лучшими людьми. Клянемся перед гробом этого чистого невинного юноши, что не будет между нами раздоров и не допустим больше необходимости таких жертв”. Студент В. И. Хлебцевич похоронен в городе Сызрани в общественном молодом садике на Кузнецкой площади…» Лена упоминалась в статейке под своим именем, а Савва обозначен был просто как «еще один студент», что его немного задело: в конце концов, это именно он вывез всех, живых и мертвого, из-под прицельного огня! Посмотрели и на овальный портрет самой «революционной бабушки» — пожилой полноватой женщины, чем-то неуловимо напоминавшей Екатерину Великую… Лена погладила кончиками пальцев вдохновенное лицо Володи на фотографии.
— Борец… — задумчиво прошептала она и, как показалось Савве, слегка усмехнулась.
Они помолчали несколько секунд, и Савва, решив уже прощаться, спохватился:
— Лена, я чуть не унес твои ключи… Вот и второй, ты просила… — но, как и вчера, девушка снова остановила его:
— Один пусть пока полежит у тебя… Ты, если можешь, приглядывай за квартирой, пока меня не будет. Ну хоть раз в месяц проверяй ее. Хорошо? Я хочу знать, что мне есть куда вернуться, — ведь мы живем в такое время, когда все меняется каждый день! Хоть в чем-то хочу быть уверенной, а на тебя, — она проницательно улыбнулась, глядя ему в глаза, — можно положиться.
Савва мгновенно прочувствовал, что произошло бы в душе в этот миг, если б он поддался искушению и прочитал тетрадь, но сейчас его охватила почти физически ощутимая радость оттого, что можно не отводить глаз.
— Пожалуйста, не беспокойся ни о чем, — сказал он, имея честное намерение сдержать слово. — Я буду проверять ее, конечно. Она ведь вперед оплачена?
Лена смутилась.
— Савва, я должна тебе признаться… Ведь мы друзья, да? А между друзьями не должно быть тайн… В общем, я не только своим трудом все эти годы зарабатывала… Мне всю учебу тетя моя оплатила, мамина сестра. У нее состояние хорошее от мужа осталось, она всю жизнь мечтала его на добрые дела тратить. Сама еще тридцать лет назад боролась за права женщин, за высшее образование — но семья была богатая, ее не пустили учиться за границу, как Суслову9, — мол, зачем тебе зарабатывать, когда все есть? Выдали замуж… Дети пошли, да умерли, вот только кузина моя осталась — но у той в голове никогда ничего не было, кроме балов и кавалеров, даже в Смольный учиться не захотела идти, гимназию кое-как окончила — и завертелась… Не оправдала надежд матери, а я — я была такая, какой она хотела видеть дочь. Когда мама умерла, тетя приняла во мне участие, сама уговорила на Женский медицинский, оплачивает учебу, хотела, чтоб я в их доме жила, — ну тут уж я ни в какую… Пошла работать — ты знаешь… Как-то раз, представь себе, один купчина, которому я впрыскивания делала, взял и подарил мне империал10. А я его потеряла! Где, как — ума не приложу. Кто-то плечами пожмет, а для меня такая утрата была! Всю квартиру обшарила, кухню, ватерклозет, платья перетрясла, даже эту шляпную картонку — как в воду канул! До сих пор обидно… А на это Рождество тетя вдруг приехала и принесла денег: «Сшей новое нарядное пальто», — говорит. Господи, на что мне пальто?! И в хорошие-то дни иногда на масло и сахар не хватало! Но главным камнем преткновения всегда была квартирная плата… Ну, я и отдала все те деньги вперед за квартиру — вышло как раз на полтора года, до июля восемнадцатого хватит. Обратно их теперь не заберешь — хозяин наш за копейку удавится. Значит, она остается за мной, а я даже не знаю, когда смогу туда подняться — своими простреленными ногами! Такая вот ирония… Теперь пришлось сдаться — поеду к тете в имение, она уже несколько раз приходила сюда и звала. Там и молоко, и яйца у них пока бывают, и мясо, говорят, можно достать, и рыбу ловят… А мне ведь поправляться надо! Я же не могу теперь остаться хромой и всю жизнь сидеть на чужой шее! В общем, решила поступиться на время — ну, принципами… Ведь там, у них, за чужой счет придется жить и прислугой пользоваться, как какая-нибудь… Как ты думаешь, Савва, — только правду говори, слышишь?! — это очень бесчестно с моей стороны?
Он поразился:
— Ты что, Лена?! Как может быть бесчестным принять помощь от родных людей?! А прислуга… Но ведь любой человек, если болен, ранен, нуждается в уходе, и нет в этом ничего плохого, причем тут «какая-нибудь»?
Лена схватила его за руку.
— Спасибо тебе, ты мой настоящий друг… Бесценный друг! Но ты не думай — когда я выздоровею, — я отслужу. Имею в виду — искуплю свое барство бескорыстным служением народу, так и знай! — она вдруг притянула его за руку ближе к себе и щекотно зашептала на ухо: — На всякий случай: моя квартирка не простая, а очень для революционера удобная, если вдруг за ним охранка придет (она теперь не придет, но все-таки, мало ли что)… Там есть один секрет, я случайно его открыла…
— Елена! — одеяло-занавес широко распахнулось, и в «отдельную палату» эффектно ворвалось меховое боа, над которым задорно торчало иссиня-зеленое перо на низкой округлой шляпке. — Бедняжка моя! Зато революция, кажется, наконец научила тебя целоваться со студентами!
Лена легонько оттолкнула Савву.
— Потом… В следующий раз… Мой друг Савва Муромский, студент университета, — моя подруга по Павловскому институту11 Мэри Зуева… — и он уже выпрямлялся, кланялся, шаркал, щелкал, бочком-бочком выскальзывал за колючее одеяло в смрадную мужскую палату…
Как выяснилось позже, в те минуты он запросто уходил навечно.
Следующего раза не случилось никогда, потому что через две недели, когда он добрался, наконец, до далекого Суворовского, родственники уже увезли Лену из госпиталя — даже одеяловый закуток был уничтожен, а на его месте стояли спинками к стене сразу две койки с забинтованными, то ругающимися от боли по матери, то ее же зовущими мужичками…
4. Петр Николаевич Нестеров (1887–1914) — русский военный летчик, штабс-капитан. Основоположник высшего пилотажа. «Мертвая петля», «петля Нестерова» была впервые совершена им 9 сентября 1913 г. Погиб в воздушном бою, впервые в практике боевой авиации применив таран.
5. Арчибальд Хоксей (1884–1910) — американский летчик, впервые попытавшийся сделать «мертвую петлю» на аэроплане Wright Model, который вследствие малой мощности мотора при выполнении фигуры потерял скорость, перешел в штопор на высоте 200 м и рухнул вместе с летчиком на землю. При этом сам Хоксей погиб.
6. Имеется в виду учащийся реального училища. (Прим. ред.)
7. Огюст Анри Форель (1848–1931) — швейцарский врач-психиатр, автор известной в России начала ХХ века книги «Половой вопрос. Любовь как извращение», произведшей своего рода революцию в половом просвещении.
8. Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская (1844–1934) — деятель русского революционного движения, народница, одна из основателей и лидеров партии социалистов-революционеров, а также ее боевого крыла — Боевой организации. Ее действительно называли «Бабушкой русской революции». (Прим. ред.)
9. Надежда Прокофьевна Суслова (1843–1918) — физиолог, хирург, гинеколог, первая из русских женщин, ставшая доктором медицины.
10. Золотая монета Российской империи; в начале ХХ в. так назывались в основном 10-рублевые монеты с содержанием 7,74 г чистого золота.
11. Павловский институт — среднее учебное заведение для девочек в Петербурге (до 1917 г.).
Глава 2
СОЛЕНЫЙ ОГУРЕЦ
Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе
Насторожусь — прельщусь —
смущусь — рванусь.
М. Цветаева
Оля Тараканова в своем возрасте «ягоды опять» летела самолетом впервые — да еще сразу наискосок из конца в конец страны, непринужденно пересекая один за другим десять меридианов. Только когда воздушный красавец-лайнер, каким ей с непривычки казался дешевый грязный лоукостер, встал в небе ровно, дав ей возможность оторвать от подлокотников липкие от ужаса, судорожно вцепившиеся в них пальцы, Оля вдруг поняла, что все это не шутки, и она действительно летит в чужой и страшный Петербург из родного Владика. Крикнуть: «Остановите, я выйду!» — уже не получится. Вернее, крикнуть-то можно, но не будет ли ее после этого ожидать в Пулково психиатрическая скорая? Оля перевела дух и робко глянула в иллюминатор (эту маленькую жизненную лотерею она неожиданно выиграла: при регистрации в Кневичах ее жребий пал на заветное детское «у окошка»), но ничего, кроме унылой простокваши облаков внизу и ровной глубокой лазури сверху, не увидела — собственно, что-то вроде этого она и ожидала, поэтому не испытала никаких особенных чувств. Ей и других хватало: была, например, поистине кошмарна мысль о том, что она впервые по-настоящему, цинично обманула маму, тайком пустившись в немыслимую авантюру, потому что ее позвал посторонний, в сущности, человек. Если бы мама знала, то, наверное, сейчас уже умерла бы от переживаний. А вдруг вещее материнское сердце подсказало ей невероятную правду, и мама в этот миг набирает дрожащим пальцем «112» — или нет, лежит на полу, хрипя и задыхаясь, без помощи?! А если этот самолет… не долетит? Тогда, услышав в новостях заученно-взволнованный голос корреспондента, описывающего очередную авиакатастрофу, и ужаснувшись чужой трагедии, мама даже не будет знать, что там погибла ее единственная дочь, ее Олененок, ее маленький Бэмби12! Нет, это совершенно немыслимо — то, что она делает. Ничего, она все исправит. Через двенадцать — уже, наверно, одиннадцать — часов они, даст бог, приземлятся, Оля встретится с Юрием и скажет ему, что передумала, что изменились обстоятельства, и она должна сейчас же, вот прямо сейчас, вылететь обратно во Владивосток. Потому что там старенькая больная мама, которая может умереть в одиночестве. Купит билет на первый же рейс, дождется его там же, в аэропорту, и уже завтра утром вбежит в родной дом, а маме скажет, что в таежном коттедже ей не понравилось, она соскучилось и вернулась, вот и все. Сразу наступит их маленький, но бурям неподвластный семейный мир, вернется легкомысленно изгнанный душевный покой. Да как с ней такое случилось, в конце концов? Какой морок напал? Что еще за любовь в ее годы? Поиграла в любовницу — и хватит. Лучше и не начинать. Да, решено, так она и поступит. А по окончании отпуска пойдет и уволится — после подобного демарша Юрий точно удерживать не станет и сразу подпишет заявление. Вопрос только — оплатит ли он ей сегодня при таких условиях обратный путь? Ведь он звал — и она согласилась! — пробыть с ним в Петербурге не меньше недели и только потом заказать билет. А вот если она с ходу решит сбежать? Что он ответит? Оскорбится, повернется и уйдет. Правильно, кстати, сделает… А у нее тысяча семьсот на карточке и две пятисотки в кошельке… О, господи
...