автордың кітабын онлайн тегін оқу Крестные матери

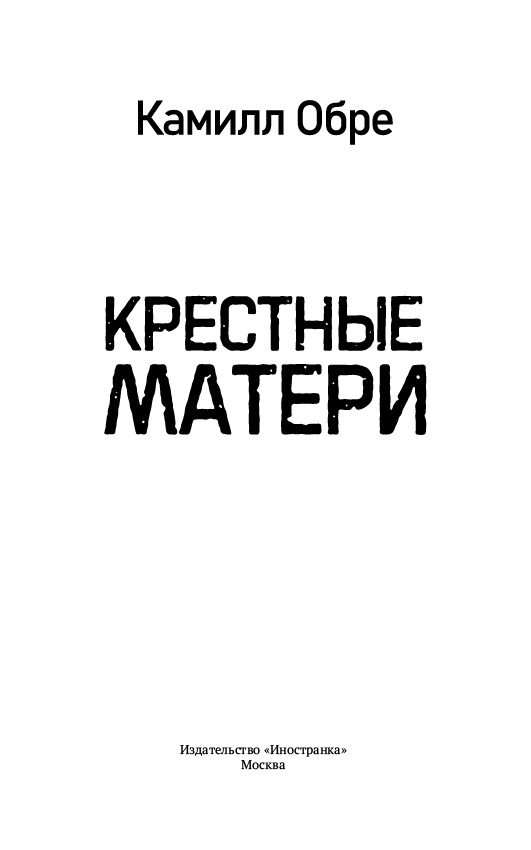
Camille Aubray
THE GODMOTHERS
Copyright © 2021 by Camille Aubray LLC
All rights reserved
Печатается с разрешения William Morrow (импринт HarperCollins Publishers).
Издательство выражает благодарность литературному агентству
Andrew Nurnberg Literary Agency за содействие в приобретении прав.
Перевод с английского Анастасии Лазаревой
Серийное оформление Татьяны Гамзиной-Бахтий
Оформление обложки Михаила Корнилова
Обре К.
Крестные матери : роман / Камилл Обре ; пер. с англ. А. Лазаревой. — М. : Иностранка, Издательство АЗБУКА, 2025. — (Иностранка. Роман с историей).
ISBN 978-5-389-30687-5
16+
У каждого свой «скелет в шкафу» — в этом убедилась 35-летняя Николь, когда с помощью крестной матери попыталась разобраться в истории своей семьи.
Роман Камилл Обре переносит нас в центр Манхэттена середины XX века — настоящую «Адскую кухню», населенную толпой кровожадных гангстеров и нелегальных букмекеров, «акул» черного рынка и завсегдатаев подпольных игорных домов… Как противостоять жестокому миру мужчин? Четырем женщинам — Эми, Люси, Филомене и Петрине — предстоит стать невольными союзницами и подругами. Крестные матери детей друг друга, они готовы отдать жизнь, защищая свои семьи. Каждая несет свою боль и бережно хранит свои тайны, но дружба и взаимная забота помогают им пережить даже самые невыносимые моменты. Они учатся доверять друг другу, находить силы в простых радостях и верить, что в жизни всегда найдется место для тепла и любви.
Полная драматического напряжения история о том, что настоящую семью составляют люди, готовые в трудную минуту согреть душу и подарить надежду.
© А. А. Лазарева, перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Иностранка®
Посвящается Розе
Пролог
НИКОЛЬ
Нью-Йорк, апрель 1980 года
До того дня, когда моему мужу предложили работу в Белом доме, мне еще никогда не приходилось просить свою крестную об одолжении. На дворе стоял апрель 1980 года, и к тому времени мы с Джеймсом прожили в Нью-Йорке всего несколько лет. Мы познакомились в Париже, там же и поженились, но, как урожденные американцы, всегда считали Штаты своим домом, поэтому были очень рады вернуться, и я думала, что мы уже довольно прочно осели здесь, на Манхэттене. Я работала новостным обозревателем в «Тайм инкорпорейтед», а Джеймс занимался юридической практикой.
Но в один из ясных весенних дней Джеймс объявил:
— Только что у меня состоялся очень интересный разговор с Сайрусом Вэнсом. Он хочет, чтобы я работал вместе с ним в Государственном департаменте.
— Госсекретарю нужен именно ты? — поразилась я.
Этот вопрос, как и все остальные жизненно важные вопросы, мы обсуждали за ужином при свечах в нашем любимом ресторане.
— Нелегкая предстоит работа, ведь у президента Картера сейчас в самом разгаре кризис с заложниками в Иране, — признал Джеймс. — Мистер Вэнс хороший дипломат, однако сейчас в Белом доме идет ожесточенная подковерная борьба. А у бедняги Вэнса разыгрался жестокий приступ подагры, из-за чего он отправился на лечение во Флориду. Он предложил мне вернуться домой и обсудить назначение с «дражайшей супругой».
Я закатила глаза, а потом проворчала:
— Полагаю, мне повезло, что меня не назвали «милой женушкой».
Джеймс усмехнулся.
— Вэнс ожидает, что я приму решение до его возвращения, — сказал он. — Если мы согласны, тогда нас должно будет проверить ФБР. Это просто формальность, но они наведут справки обо всем, что касается тебя и меня, — о наших друзьях, семьях, работе и всех, кто нас хорошо знает. Вэнс предупредил, что нам лучше заранее рассказать ему все, что может заинтересовать спецслужбы, чтобы потом не было сюрпризов.
— Что ты имеешь в виду? — спросила я, поначалу не сообразив, о чем вообще речь.
— Ну, понимаешь, им нужно проверить, нет ли в нашем прошлом — или в прошлом наших близких — чего-то такого, чем меня смогут шантажировать, так называемых слабых мест. Я сказал ему, что моя семья скромная и порядочная, а твои родные — вообще самые достойные люди, которых я когда-либо встречал в своей жизни! — В мерцании свечей он нежно и благодарно поцеловал меня, и я, как всегда, почувствовала, как горячо он меня любит.
— Так что не волнуйся, все должно пройти гладко, — подытожил Джеймс и с удовольствием принялся доедать говядину по-бургундски, а я согласно кивнула.
Но весь этот разговор о проверке меня взволновал, хоть я и не могла понять почему. Смутная, необъяснимая тревога охватила меня, будто мелькающие по краю зрения призрачные тени, — но, когда я поворачивалась, чтобы встретиться с ними лицом к лицу, они мгновенно исчезали в темных, укромных уголках. Сделав быстрый глоток вина, я попыталась привести мысли в порядок.
Некоторое время спустя мы поехали проведать мою маму, живущую в округе Уэстчестер. Когда в один из дней Джеймс с утра отправился поиграть в теннис с другом, я решила разобраться с вопросом, до сих пор меня мучившим. Я рассказала матери о работе, которую предложили мужу.
— У нашей семьи есть скелеты в шкафу? — прямо спросила я и осеклась, скорее прочитав ответ по лицу матери, чем его услышав.
Она покраснела и с немного виноватым видом быстро отвела взгляд, но затем взяла себя в руки:
— Не сказала бы. Точно не в твои времена. Но почему Джеймс хочет отправиться в Вашингтон? Твои братья говорят, что президент Картер крепко влип с этими заложниками в Иране.
Старшие братья любили делать подобные громкие заявления за ужином в День благодарения. Сегодня я была с ними согласна: времена настали не самые лучшие. Но в эту минуту политика меня не интересовала, важнее была история семьи. Мне не хватало информации, но, хорошо зная мать, я понимала, что никогда не получу от нее подробного ответа.
Более того, что-то в ее быстром, уклончивом взгляде вновь всколыхнуло во мне странное чувство безотчетного страха. Но на этот раз я была полна решимости выяснить, в чем же причина, так что после того, как мама, сославшись на визит к парикмахеру, удалилась, я решила, что единственный человек, способный мне помочь, — это моя крестная мать. Она жила по соседству в уединенном прибрежном анклаве всего из четырех домов на крошечном клочке земли с видом на пролив Лонг-Айленд-Саунд. Наша семья в полном составе переехала сюда после долгих лет, прожитых в Гринвич-Виллидж.
Мне был знаком каждый дюйм этих двориков, где я играла с кузинами, и каждый уголок небольшой бухты, где я училась плавать в соленой морской воде. Но со временем воспоминания стерлись, схлынули, подобно волнам во время отлива, как только я отправилась в Европу, чтобы учиться и взрослеть.
Но теперь, когда я пересекла лужайки и пошла к дому крестной по вымощенной камнем дорожке, этого оказалось достаточно, чтобы воспоминания разом нахлынули на меня — я снова почувствовала себя маленькой девочкой, заглядывающей в эркерные окна гостиной, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на то, как за большим старомодным официальным столом крестная проводила таинственные «собрания» с моей матерью и двумя тетями. Я будто наяву видела, как они негромко общаются с сочувствующим тоном и как замолкают всякий раз, когда в комнату вбегают дети.
Мои двоюродные братья и сестры и я сама всегда называли самых старших женщин нашей семьи «крестные матери». Когда мне было десять, я зачитывалась мифами Древней Греции и Рима и какое-то время воображала, что наши крестные — настоящие богини, которые тайно спустились на землю. Даже их имена звучали для меня как имена мифических богинь: Филомена, Люси, Эми, Петрина.
Четыре могущественные ведьмы, которые строят козни и помешивают зелья в котелках. Даже то, что они, породнившиеся по своим супругам, попросили друг друга стать крестными для своих детей, может вам подсказать, насколько замкнутой была наша семья. Они считали, что чужаки опасны, что к ним всегда нужно относиться с подозрением. Но мы, как и все молодые люди, переросли эти опасения. Мы знали, что нам нужно вырваться из дома и проложить свой путь в большой мир, несмотря на все его опасности.
Сегодня я обнаружила крестную на роскошном крыльце ее викторианского особняка. Она стояла прямо, с гордо поднятой головой. Ей было за пятьдесят, но на светлой гладкой коже сливочного оттенка едва ли можно было найти хоть одну морщинку, а волосы, уложенные на затылке в пучок, оставались такими же темными и блестящими, как в молодости. И хотя она прожила в Америке не одно десятилетие, она сохранила в манере держаться чопорность Старого Света. Ее большие миндалевидные глаза, казалось, видели собеседника насквозь, из-за чего большинство людей ее побаивалось. Но ко мне, своей крестнице, она испытывала слабость.
— Buongiorno, cara Nicole [1], — сказала она, когда я поцеловала ее в щеку.
Из ее дома открывался прекрасный вид на мягкие, приглушенные серо-голубые тона Лонг-Айленд-Саунда. Я с радостью обнаружила, что на крыльце все еще стоит старомодный диван-качалка из металла и плетеной, как у корзины, основы, и места в нем как раз хватит для нас обеих. Там мы и сели, откинувшись на подушки, покачиваясь и болтая о погоде.
— Николь, чем я могу тебе помочь? — наконец тихо спросила крестная, почувствовав неладное своим обостренным чутьем.
Мрачные предчувствия, прежде всколыхнувшиеся во мне, сейчас до костей пробрали меня пронзительной волной ужаса, причину которого я до сих пор не могла установить. Не знаю, возможно, у каждой семьи существуют свои секреты. Беда в том, что ты не можешь полностью забыть о чем-то, чего толком не знаешь, и мне подумалось, что другой такой же спокойной, уединенной встречи, подходящей для борьбы с призраками прошлого, у нас с ней может не состояться.
Так что я рассказала ей о том, что Джеймсу предложили ответственную должность, и о возможности формальной проверки нашего семейного прошлого. И хотя выражение ее лица не изменилось, я услышала, как она тихо ахнула. Этого оказалось достаточно, чтобы утвердиться в мысли, что я не зря решила прийти к ней с расспросами. Я внимательно наблюдала за ней, а она на несколько минут погрузилась в молчание.
— Прошу тебя, крестная, — наконец сказала я, — что бы это ни было, мне нужно знать все.
— Потянешь за одну нить — рискуешь распустить все полотно, — мягко предупредила меня она.
Но вот что странно — мне показалось, будто все это время крестная ждала, когда же я приду к ней с подобными расспросами.
— Хорошо, — кивнула она, — но только потому, что меня просишь об этом ты, Николь. Однако кое-что из нашего разговора должно остаться между нами. По крайней мере, подожди, пока я умру, прежде чем начать разбалтывать мои секреты, — сухо добавила она. — И учти — помирать я не тороплюсь!
Я кивнула, и она спросила:
— Итак, с чего мы должны начать?
Я глубоко вздохнула. Все, что касалось четырех крестных, казалось ужасно таинственным. Кем они были до того, как стали нашими крестными? Они редко говорили о себе, легко, но настойчиво избегали наших расспросов, пока мы наконец не смирились с тем, что их прошлое — будто кирпичная стена, за которую нам нет смысла пытаться заглянуть. Что же за секреты объединяли их все это время и каким-то образом стали причиной моих детских слез? Я предчувствовала, что за этими тенями скрываются и насилие, и другое зло, и поэтому пыталась скрыть свои мысли даже от самой себя.
Должна признать, крестная оказалась права. Достаточно было потянуть за одну нить, задать один вопрос, ведущий к другим вопросам, — и таким образом мне в конце концов удалось узнать всю семейную историю.
[1] Здравствуй, милая Николь (итал.).
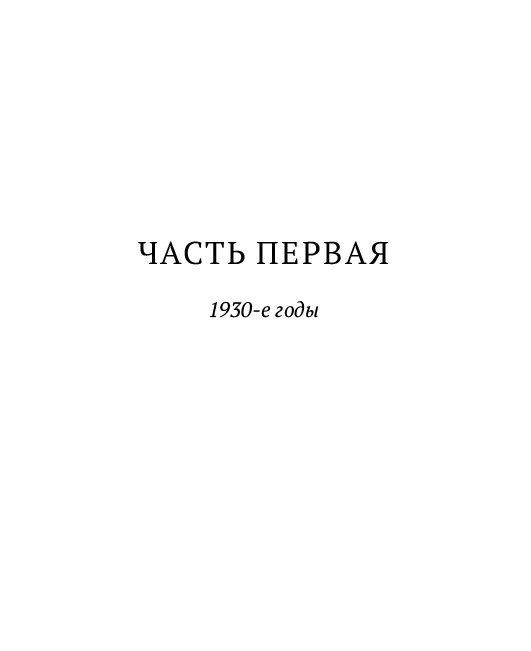
Глава 1
ФИЛОМЕНА
Санта-Маринелла, Италия, 1934 год
Филомена со своей матерью стояли на платформе, наблюдая, как к станции подходит поезд. Мать крепко держала дочку за руку.
— Стой смирно, Филомена, иначе упадешь на пути и ничем хорошим это не кончится! — предупредила мама, резким движением поправив на голове дочери шляпку с плоскими полями.
Филомена пыталась стоять спокойно, но она никогда раньше не была на вокзале, тем более никогда не путешествовала на поезде, и сердце ее готово было выскочить из груди от восторга, как рыбы, которые радостно выпрыгивают из воды весной, когда папа поет им песни и забрасывает сети.
— Как долго мы будем ехать на поезде? — возбужденно спросила она.
— Много часов. Много долгих часов, — вот и все, что ответила мама.
Сегодня она разбудила Филомену так рано, как бывало только в Рождество, заставила нарядиться в самое лучшее платье, шляпку и туфли и пояснила свои действия одной-единственной фразой: «Мы едем навестить очень важного друга нашей семьи». И кроме прочего, к обычному завтраку, состоящему из хлеба и молока, мама добавила вареное яйцо и еще одно положила Филомене в карман пальто.
Филомена раздувалась от гордости, мечтая о том, чтобы ее увидели братья и сестры, но братья умчались из дома рано утром, чтобы помочь папе с лодкой. А сестры Филомены были слишком большими: в два раза ее старше, и все, что их волновало, — как бы найти себе парней и выскочить замуж. Самой Филомене в сентябре должно было исполниться восемь лет.
Поезд замедлил ход и наконец остановился у платформы, напоследок отрыгнув сажу и пар, будто сердитый дракон. Филомена зарылась лицом в мамины юбки, чтобы сажа не попала в глаза, а мать дернула ее за руку и напряженно произнесла:
— Идем. Мы поднимемся по ступенькам в вагон. Давай посчитаем их: раз, два, три… вверх! Вверх! Вверх!
Металлическая лесенка, по которой они поднимались, громко лязгала. Другие люди тоже внезапно устремились в вагон, но мама успела зайти в него одной из первых и занять места для себя и дочери, удивленно таращившей глаза.
Оттого, что вокруг было столько незнакомцев, у Филомены закружилась голова, но она заметила, что некоторые из них внимательно разглядывают ее мать. Наверное, потому, что мама надела темные очки. Мама тоже это почувствовала, но, гордо вздернув подбородок, отвернулась к окну.
— Поспи, figlia mia [2], — сказала она. — У нас впереди долгая дорога.
В другое время Филомена обязательно вырвалась бы из рук матери и начала бегать по вагону, с присущим ей энтузиазмом бесстрашно задавая попутчикам любые вопросы, которые могли прийти в голову. Но сегодня она уже слишком устала: плохо спала прошлой ночью. Кровать ее стояла в крошечной комнатке, которая когда-то была чуланом, прямо за стеной спальни родителей, и ей было слышно все, что у них происходит. В бóльшую часть ночей родители были так измотаны, что сразу засыпали. Но иногда они издавали пугающие звуки, напоминавшие Филомене о ночных животных, которые шныряли под окнами, дрались между собой или делали детей — зачастую сложно было отличить одно от другого.
А иногда родители кричали друг на друга — именно этим они и занимались прошлой ночью. Филомена прижала подушку к ушам, но все равно слышала, что перепалка вышла жесткой. Родители непрерывно пререкались, пока наконец, словно буря, их спор не перешел в крещендо чистой ярости. Она не слышала слов, но отец орал, мама что-то вызывающе верещала, затем раздались глухие, ужасающие удары о стену, бедная мама закричала от боли, а затем наступила тишина.
Утром хмурый отец ушел на работу, не сказав ни слова. В такое время Филомене почти не верилось, что это тот же человек, который в лучшие дни брал ее на прогулку до городской площади, покупал мороженое, а на обратном пути всю дорогу распевал для нее песни. Она любила ходить с ним к морю, где небо было бескрайнее и синее, а вода, дополняя синеву неба оттенком лазури, плескалась на мягких песках пляжа, дремлющих под теплыми лучами солнца. На берегу, будто сошедшие со страниц какой-то сказки, жались друг к другу старинные каменные дома, а над ними возвышался большой средневековый замок, построенный, чтобы защищать город от пиратов. Замок окружали прекрасные сосны, пальмы и оливы, а летней порой морской бриз доносил из замковых садов ароматы роз и фиалок. Филомене всегда казалось, что однажды из ворот замка выйдет прекрасный принц и пригласит ее на танец.
Но сегодня Филомена не пошла с отцом на море. Ее мать вышла из ванной комнаты с синяком под глазом и выглядела так, будто потерпела поражение. Именно тогда она объявила Филомене, что они уезжают навестить каких-то друзей семьи. Филомена была рада сбежать от напряжения, поселившегося в доме настолько прочно, что, казалось, оно останется там, даже если все его обитатели исчезнут.
«А папа знает, что мы уехали?» — с любопытством спросила Филомена.
«Конечно, — кивнула мать. — Это была его идея. Идем, оденем тебя в твое лучшее платье. И не забудь шляпку! Поторопись и будь умницей».
Все знали, что она и так умница, даже несмотря на то, что отец запретил Филомене ходить в школу. Он даже не обратил внимания на протесты учителей, особенно одной из них, которая специально пришла к ним домой, чтобы сказать: «Филомена — это сияющая звездочка, которой вы будете гордиться!» Учительница заставила Филомену продемонстрировать, как она в уме может складывать длинные колонки трехзначных чисел, даже не делая расчетов на бумаге. «Эта способность удивительна для ребенка любого возраста, — пыталась объяснить учительница. — А для такой маленькой девочки абсолютно уникальна! Только представьте себе, на что будет способна ваша дочь, если вы оставите ее в школе!»
Это посещение учительницы спровоцировало один из споров между отцом и матерью, но для драки причина оказалась недостаточно весомой. В конце концов родители просто решили, что школа — это всего лишь попытка заставить отца тратить деньги на бесполезное обучение девочки. На этом обсуждение было закрыто.
***
Солнце почти закатилось, когда поезд, дернувшись и остановившись у станции, пробудил Филомену от дремы. Все люди, которые так торопились попасть на поезд, теперь точно так же, пихаясь и толкаясь, спешили с него сойти. Мать терпеливо дождалась, пока выход освободится, и они спустились по лесенке, снова вслух считая ступеньки.
— Мы в Неаполе, — громко произнесла мама, пытаясь перекричать городской шум. — В очень большом и красивом городе. Но мы не можем терять тут время. Нам нужно попасть на автобус. Идем!
В мешанине звуков Филомена услышала что-то знакомое.
— Здесь все говорят как папа, — заметила она.
Ей никогда не казалось странным, что папа разговаривает немного иначе, чем другие жители Санта-Маринеллы. Папа был с юга, и манеры, и речь у него были грубее, чем у элегантной мамы. У Филомены был превосходный слух и способности к подражанию, что порой приводило к неприятностям. Например, когда люди вроде мэра или священника считали, что она над ними издевается.
— Идем. — Мама настойчиво прокладывала им путь через сутолоку толпы, пока они не вышли на открытый автовокзал, где несколько автобусов уже прогревали моторы перед скорой поездкой.
Филомена едва отдышалась, когда наконец забралась в автобус и рухнула на сиденье между матерью и очень толстой дамой, которая уже почти дремала. Девочка зевнула и вскоре тоже погрузилась в сон.
Когда автобус остановился в пункте назначения, все пассажиры с облегчением выбрались на воздух. Многие из них восклицали «уф!», и в возгласах слышалось облегчение с оттенком завершенного дела. Мама нашла пустую скамью и велела Филомене сесть и перекусить яйцом, лежавшим в кармане. Когда Филомена подкрепилась, мать послала ее сходить в туалет, потому что остаток пути им придется идти пешком.
Здесь было намного жарче, чем дома, а над дорогами клубилась пыль. Мать, казалось, не знала усталости: она шла в ровном темпе рабочей лошади, все время сжимая ладонь дочери.
Они оказались в странном месте. Здесь не было моря, только широкие поля по обеим сторонам пыльной дороги, полные чудес, на которые Филомена восторженно показывала пальцем. Восхитительные вьющиеся лозы с листьями пыльно-зеленого оттенка — мама объяснила, что на них растет виноград, — а за ними поля с ровными рядами золотых колосьев. Затем они миновали зеленые пастбища со странными животными. Мама показывала на них и объясняла: это коровы, они дают нам молоко; это овцы, они дают нам сыр; это свиньи, из них делают колбасу, а вон там куры, они несут яйца.
Поначалу путешествие было похоже на посещение окружной ярмарки, где можно посмотреть на замечательные диковинки вроде клоунов и жонглеров. Но спустя некоторое время Филомена ощутила острую и внезапную тоску по морю. У нее даже сердце заболело от разлуки с соленым воздухом ее маленькой деревни.
На небо внезапно, будто в большой спешке, выкатилась луна, осветив им дорогу полосой света, а вокруг сгустились тени. Наконец они дошли до огромного деревенского дома, который, очевидно, специально построили так, чтобы он выглядел внушительно.
— Неподалеку отсюда родился твой папа, — сказала мама. — Не в этом доме, в меньшем, на ферме недалеко отсюда. Здесь не осталось ни его родителей, ни братьев. Но тем людям, к которым мы идем, принадлежат все близлежащие земли, и эти люди знают папу.
— Папа родился на ферме? — растерянно спросила Филомена.
Сколько она себя помнила, отец всегда занимался рыбалкой. Иногда он даже брал ее на свою лодку, заполненную сетями.
— Да, его родные были крестьянами, — подтвердила мама. — Но на ферме не хватало работы, так что он отправился на заработки на север и там познакомился с моим отцом, который научил его рыбалке. А потом папа встретил меня. Он трудился не покладая рук и многого достиг. Но сейчас повсюду настали тяжелые времена.
Филомена слышала рассказ о романтическом этапе жизни родителей, и он казался ей волшебной сказкой о том, как за более высокородной принцессой ухаживал благородный, но бедный юноша, который проделал долгий путь, чтобы ее найти. Но сейчас в голосе матери не было ни капли романтической сентиментальности. Голос был похож на голоса многих женщин, кто, как и она, вышли замуж и родили детей: в нем звучала бесконечная усталость. Филомена, ощутив внезапное сочувствие, крепко сжала мамину ладонь.
Они подошли к главному входу в дом, и мама дернула за веревку, соединенную с дверным колокольчиком. Дверь открыла юная служанка в шапочке и фартуке, как у девочек, работавших в пекарне в родной деревне Филомены. На вид девочка казалась не намного старше Филомены, но смотрела по-взрослому: настороженно и понимающе. Филомена была высокой для своего возраста, даже выше, чем худенькая служанка, так что, выпрямившись, она смело посмотрела на нее.
Девочка открыла дверь пошире и отступила в сторону, чтобы они смогли войти в маленькую темную прихожую, которая привела их в очень большую комнату, куда нужно было спуститься на несколько ступеней вниз. Пол в ней был вымощен терракотовой плиткой, а сама комната — меблирована весьма официально: большой диван и два мягких кресла, несколько небольших столиков с лампами и застекленный шкаф, полки которого украшали большие китайские блюда с изображением пастушек с коровами и козами. Портьеры на окнах защищали комнату от солнца, которое уже давно зашло.
Филомена думала, что матери в такой полутьме стоит снять темные очки, но мать так не поступила: возможно, она стеснялась подбитого глаза. Филомена, решив, что их пригласили на чай или что-то вроде этого, завороженно разглядывала рисунки на китайских чашках и блюдцах.
Затем в комнату с резким, агрессивным шелестом пышных юбок вошла синьора. Будучи невысокого роста, она старалась повыше задрать голову и свой орлиный нос в очевидной попытке напустить на себя величественный вид.
— Твоя дочь слишком тощая, — неожиданно грубо заявила синьора, чересчур грубо для такой важной особы, которой, несомненно, являлась.
Она говорила на том же диалекте, что и папа.
— Она здоровая и умная, — слабо возразила мама.
Синьора пожала плечами.
— Розамария! — крикнула она, потом, сдержанно кивнув, резко развернулась и быстрым шагом вышла из комнаты.
Вернулась служанка. Опускалась ночь, в комнате становилось все темнее, и служанка начала зажигать толстые длинные свечи, расставленные по комнате.
Мать Филомены перенесла все внимание на свою маленькую дочь и разговаривала с ней терпеливо, будто уговаривая сделать работу по дому. Но сейчас она говорила так тихо, что Филомене пришлось почти приложить ухо к ее губам, будто ей сообщали очень важный секрет.
— Когда твой папа уехал отсюда, его семья задолжала синьору, владельцу усадьбы, много денег. Синьор даже оплатил его путешествие на север. Папа очень много работал, чтобы отдать долг, мы все работали: и я, и твои братья и сестры. Но сейчас настали тяжелые времена, и мы сильно запоздали с выплатами. Теперь пришел твой черед помочь нам расплатиться с долгами. Будь послушной девочкой, Филомена, и делай все, что они тебе скажут. Не подведи папу, или нас всех ждет большая беда, — предостерегла она.
Когда мать говорила, а потом поцеловала Филомену, у нее на лице на короткий миг промелькнуло выражение нежности и губы дрогнули. Но когда Филомена обняла ее в ответ, мать неожиданно напряглась, затем выпрямилась и, выпустив дочь из объятий, вызывающе вздернула подбородок — жест, показывающий, что впереди ее ждет трудное и неприятное дело. В неверном свете свечей ее лицо, казалось, обратилось в камень. Филомена никогда раньше не видела мать такой и потеряла дар речи от безотчетной тревоги. И тут вперед выступила служанка.
— Я — Розамария, — спокойно произнесла она. — Пойдем со мной, Филомена.
И хотя разум Филомены еще не успел осознать, что не так, живот, похоже, уже все понимал. Внезапно девочку пронзила холодная, ужасающая боль; ей показалось, что она идет ко дну глубокого колодца и выбраться нет никакой возможности. Она все еще сжимала теплую, успокаивающую ладонь матери, но сейчас та решительно отпустила ее.
— Веди себя хорошо, — проговорила мать тем же холодным голосом, будто пытаясь убедить и себя, и Филомену, что все идет как надо.
Затем, резко расправив плечи, мама повернулась и вышла, пройдя между колоннами. Еще через мгновение хлопнула входная дверь.
— Мама! — крикнула Филомена. — Мама, куда ты уходишь?!
— Возможно, когда-нибудь она вернется. — В голосе Розамарии не было уверенности. — А сейчас ты должна идти за мной.
Мысли Филомены путались. Она была крайне измотана, а пальцы руки, которую все это время сжимала мама, из потных и горячих превратились в маленькие ледяные сосульки.
— Мама! — закричала она, подбегая к окну и раздвигая портьеры.
В лучах лунного света она увидела очертания маминой фигуры, как она торопится выйти из усадьбы по дорожке из главного входа, затем садится в телегу, запряженную лошадьми. Телега сразу тронулась с места и, набирая скорость, подняла за собой тучу пыли. Затем она резко завернула за угол и скрылась из виду.
— Мама! — снова пронзительно выкрикнула Филомена и побежала к двери.
Золотая дверная ручка была слишком большой для маленьких ладоней, но каким-то образом ей удалось ее повернуть и отворить тяжелую деревянную дверь. Девочка сбежала вниз по каменным ступенькам, хватая ртом воздух.
— Мама! Подожди меня! Мама! — кричала она сквозь рыдания, а пыль щипала ее глаза и ослепляла вместе со слезами.
Грузный мужчина в рабочей одежде, вышедший из-за угла, одним ловким движением подхватил Филомену и зажал ее под мышкой. В его прикосновении не было ничего деликатного, он держал ее точно так же, как держат свинью, которая норовит сбежать.
— Basta! [3] Ты хочешь, чтобы сюда приехала полиция и забрала тебя в приют? В этот очень плохой дом, куда отправляют непослушных детей и где тебя будут бить и днем и ночью. Ты хочешь туда? — пророкотал мужчина.
Он обладал недюжинной силой и в несколько шагов отнес Филомену за дом, к черному входу, меньшей, простой двери, которая вела прямо на кухню.
Полная женщина в замасленном фартуке с тесаком для мяса в руках работала за широким деревянным столом. Она нареза́ла что-то большое, темное, окровавленное.
— Вот новая девчонка, — сказал здоровяк, скинув Филомену на голый каменный пол, будто мешок с мукой.
Женщина с кислым видом подняла глаза.
— По крайней мере, она будет повыше, чем Розамария, когда ту сюда привезли. Но они всегда такие тощие! Худенькие девчушки слишком часто болеют, — пожаловалась толстуха.
— Тогда корми ее получше, — хохотнул мужчина и вышел через черный ход.
Женщина вытерла руки о промасленный фартук и, не глядя на Филомену, протянула ей булочку.
— Ешь давай! — приказала она.
Филомена поднесла черствую булочку ко рту. Она жевала и жевала, потому что, несмотря на потрясение, была очень голодна. В глазах у нее все еще стояли соленые слезы, и они каким-то образом нашли путь к ней в рот, подсаливая хлеб. Она с трудом проглотила последний кусок.
— Закончила? Спать можешь там, — женщина кивнула в сторону алькова в дальнем углу кухни.
Сама она была очень занята, выкладывая мясо в миску с маринадом.
Филомена проследила за ее взглядом, затем прошла к крохотному алькову. Там оказался слежавшийся матрац из соломы и драное покрывало. Ни подушки, ни лампы, ни свечи…
Кухарка отнесла чашу с маринующимся мясом в кладовку через дверь, которая открывалась в обе стороны. Вновь появившись в проеме двери, она уже снимала фартук.
— Когда-нибудь, если будешь хорошо работать, ты сможешь спать наверху с остальными слугами, — сказала она кратко. — А теперь тебе лучше побыстрее ложиться. Работать начинаем в четыре утра. — Взяв масляную лампу, освещавшую кухню, кухарка вышла, унося с собой последние лучи света.
Филомена, оставшись в кромешной тьме, легла на матрац. В комнате без окон ночь казалась настолько всеобъемлющей, что девочка натянула на голову одеяло, только чтобы не видеть, насколько бесконечна тьма. Мысли все еще кружились в голове, но усталость взяла верх, и Филомена заснула.
Посреди ночи она неожиданно проснулась и сперва не могла вспомнить, где находится. Казалось, что в пустоте, брошенная всем миром.
— Я умерла? — прошептала она.
«Может, папа и мама тоже умерли? Может, мама погибла при крушении поезда, вот почему она не может за мной вернуться? Может, огромная волна пришла с моря и накрыла папины лодки, убила и его, и братьев. — Филомена тихо лежала, обдумывая эти мысли. — Значит, если я умерла, за мной придет Дева Мария и заберет на небеса, где всегда сияет солнце».
Она закрыла глаза и стала ждать, когда же нежная Мадонна придет и возьмет ее за руку, как мать, которая никогда не отпустит столь горячо любящее ее дитя. Филомена ждала и ждала, и ее правая рука была невыносимо пуста, поэтому она сжала ее левой ладонью так сильно, как только могла, будто хотела удержать себя и не рассыпаться в этой тьме на миллион кусочков.
Поначалу вокруг стояла тишина. Затем девочка услышала скребущие звуки с другой стороны стены, и ее охватил страх при мысли, кто это может быть. Крыса? Змея? Волк за стеной снаружи? Злой бродяга?
Возможно, это звучал хор святых и ангелов, которые шепчутся о ней. Что, если святые спрашивают Филомену, за какие грехи, совершенные ею, родители вышвырнули ее из дома? Наверняка именно об этом спросил бы священник.
Так что Филомена начала вспоминать каждый свой проступок, и мелкий, и крупный. Она усиленно взывала к своей совести, но в итоге осталась еще более озадаченной. Она не нашла ничего, за что мама и папа могли бы ее бросить. Она решила, что, когда Святая Дева придет за ней, она просто попросит прощения за все, что совершила, и будет надеяться на ее защиту в обмен на верную любовь раскаявшегося дитя.
Потом Филомена услышала странный, пугающий плач, воющие рыдания. Она не сразу поняла, что издает эти жалобные звуки сама. Нет, так не пойдет. Мадонна не придет за ней, если она будет плохо себя вести. Филомена быстро подняла руки и плотно зажала рот ладонями, чтобы никто не услышал ее рыданий, чтобы они остались у нее внутри и канули в темные, чернеющие глубины ее собственного сердца.
[2] Дочь моя (итал.).
[3] Хватит! (итал.)
Глава 2
ЛЮСИ
Адская Кухня, Нью-Йорк, 1934 год
Люси Мария чувствовала себя изрядно вымотанной, когда холодной мартовской ночью вышла из больницы Сент-Клэр. В отделении неотложной помощи сегодня было особенно тяжело: грипп, полиомиелит, рахит и коклюш у детей; туберкулез у бездомных; ушибы головы и переломанные конечности у мужчин, получивших травмы на работе или в драке; сифилис у проституток. Вот уж действительно — Адская Кухня!
Все, чего хотелось Люси, — вернуться в меблированные комнаты, где жили незамужние медсестры, и принять теплую ванну, пока еще есть горячая вода. В больнице она выпила только чашку чая, но слишком устала, чтобы есть. Она просто хотела принять ванну и лечь в постель. Завтра у нее выходной. Тогда она поест, вымоет свои рыжие волосы и ополоснет их хной.
Люси завернула за угол, и с Гудзона ударил порыв ледяного ветра. Девушку пробрал озноб. Она подняла воротник пальто и поплотнее его запахнула, но на воротнике отсутствовала пуговица, и Люси пришлось придерживать его рукой. Ей было всего двадцать лет, но, когда холод пробирает до костей, чувствуешь себя старухой.
— В Адской Кухне должно быть жарко, — пробормотала она. — Если только ад не сделан изо льда и ветра.
В лицо ударил очередной порыв ветра, и Люси прищурилась, не заметив, как у тротуара рядом с ней остановился старый черный автомобиль. Выскочившие из него двое мужчин схватили ее под локти, а тот, что повыше, прижал к боку девушки дуло пистолета. Из-за шерстяных шапок и высоко замотанных шарфов на их лицах были видны только глаза.
— Не стоит кричать, медсестричка, — спокойно произнес высокий с резким ирландским акцентом, который напомнил ей о Старом Свете, — тогда все будет в порядке.
От него пахло машинным маслом и несвежим пивом.
— Кто вы? Что вам от меня надо?! — резко спросила Люси.
Она с ранних лет научилась не показывать страх. Люди чувствуют его, и он придает им смелости.
Но они уже запихнули ее на заднее сиденье автомобиля и заблокировали дверцы. Мужчина, который был ниже ростом, сел за руль. Высокий забрался на заднее сиденье рядом с ней и наклонил Люси к полу, чтобы она не выглядывала в окно.
— Если вам нужны деньги, то вы не по адресу, — заявила она более уверенно, чем себя ощущала. — У меня всего пять центов, и это святая правда. Забирайте их и отпустите меня.
— Нам не нужны твои деньги, — буркнул он.
Это ее встревожило. По левой стороне от них была река — это все, что ей удалось мельком увидеть. Они направлялись в сторону Бронкса. Она читала слишком много статей в газетах и слышала уйму жутких историй о покойниках, найденных под мостами или на задворках этих районов, и никто, похоже, ничего не знал об этих трупах. Никто не беспокоился о них.
И если уж на то пошло, о ней тоже некому побеспокоиться. Персонал больницы уведомит полицейского, который приводит людей в неотложку, и кто-нибудь в полиции проверит записи о пропавших людях. На этом все и закончится. Никто из членов семьи не станет искать ее тело, чтобы достойно похоронить. Если эти люди выбросят ее в канаву или реку, кто-нибудь обязательно ее найдет, и она, скорее всего, будет похоронена на том жалком островке, где заключенных заставляют копать могилы для бедняков и безвестных мертвецов. Так что ей остается только молиться.
Она так живо представила себе эти сцены, что очень удивилась, когда машина достигла цели — обветшалого кирпичного здания в Гарлеме, на улице с темными громадами домов, в которых в этот час не виднелось ни одного огонька: лучше не видеть и не слышать, что происходит на этой мрачной улице.
Мужчина ниже ростом остался в машине, а тот, что с пистолетом, открыл дверцу и, вытащив Люси из автомобиля, подтолкнул ее к одному из домов.
Парадная дверь оказалась не заперта. Она вела на лестницу, где пахло плесенью. Мужчина потащил девушку по лестнице на самый верх, где была всего одна квартира, и стукнул в дверь один раз.
— Войдите, — откликнулся мужской голос.
Сопровождающий втолкнул Люси в комнату, а сам отступил назад и закрыл за собой дверь. Она не слышала звука шагов вниз по лестнице: значит, он остался сторожить на площадке.
В комнате находились кровать, умывальник и небольшая лампа, источающая слабый рассеянный свет. Люси прищурилась и различила на кровати женщину. Простыня, вся в пятнах, едва прикрывала ее огромный живот.
— Она не должна была забеременеть. Твоя забота — избавить ее от ребенка. — Мужской голос звучал из кресла, стоящего в темном углу комнаты.
И хотя мужчина обращался к Люси и наблюдал за ней, она не могла разглядеть его лица. Но зато видела силуэт — широкоплечий, коренастый, крепко сложенный.
— Вытащи его и убей, — спокойно продолжил он, будто говорил о мышах.
Люси тяжело сглотнула, но взяла себя в руки.
— Почему я? — спросила она. — Есть и другие, кто этим занимается.
— Прошу вас, мисс, — взмолилась девушка на кровати. — Я видела вас однажды в церковной больнице. Я знаю, что вы хорошая и что вы стараетесь помочь людям в беде.
Люси быстро оценила ситуацию. Кому-то из гангстеров эта девушка явно была нужна живой, иначе ее просто убили бы вместе с младенцем в утробе. Этим проявлением чувств можно было воспользоваться. Беременной девушке было самое большее пятнадцать лет, а волосы, прилипшие к потному лицу, были рыжие, как у Люси.
С потрясающей силой на Люси нахлынули воспоминания о том, как она сама была в том же возрасте в похожих обстоятельствах, когда еще жила в Ирландии. Симпатичный, но слабовольный парнишка сделал Люси ребенка, но затем исчез под давлением своей семьи. В результате отец и брат Люси затащили ее в фургон и отвезли в «дом для беспутных девиц», который больше был похож на тюрьму, а работал как прачечная из прошлого века. Во главе его стояли несколько очень странных монахинь. Первое, что они сделали с Люси, — это обрили ее наголо. «Чтобы вшей не было», — объяснили они. Затем она присоединилась к тридцати другим девушкам, которые в ожидании родов целыми днями стирали белье.
Люси не знала, что за дешевого доктора вызвали монашки в ту ночь, когда пришел «ее черед», но, когда все закончилось, ее новорожденный сын был уже мертв, а она сама едва выжила. Каким-то образом ей удалось выкарабкаться, хотя было уже все равно. А далее, много месяцев спустя, когда у нее наконец появилось желание жить, она ласковыми речами уговорила мужчину, который поставлял мыло для прачечной, помочь ей сбежать в Дублин.
Там она работала в госпитале, пока не заработала на билет до Америки. У нее не было ни личных вещей, ни багажа, а все, что она оставила на родине, — это сердце, которое было похоронено в небольшой могиле вместе с ее новорожденным сыном. Оно покоилось под деревьями, что выросли над ней, на импровизированном кладбище за домом для беспутных девиц.
— Ребенок не выходит, и я ничего не могу сделать. — Девушка на кровати начала всхлипывать, умоляя Люси о помощи взглядом затравленного животного.
Люси подошла к ней, чтобы оценить состояние, и сделала вывод, что помогала женщинам и в худшем положении — с более тяжелой беременностью, с ножевыми ранами, со смертельными заболеваниями. В католическом госпитале ее хорошо обучили; им требовалась любая подмога, которую она могла оказать, и сестры там были добрее и радостнее. Они охотно пользовались помощью Люси, угадав в ней большой потенциал в деле заботы о нуждающихся.
Экстренные ситуации придавали Люси энергии, и сейчас адреналин в ее крови пересилил усталость. Она повернулась и встретилась взглядом с человеком в углу, заговорив нейтральным, «врачебным» тоном с властным оттенком превосходства и резким ирландским акцентом, который в подобных ситуациях каким-то образом придавал дополнительный вес ее словам.
— Итак, об аборте говорить поздно, беременность зашла слишком далеко, — решительно заявила Люси. — Я могу лишь помочь ей родить. Но в любом случае подумайте, какой проблемой будет избавиться от трупа младенца.
— Да никаких проблем, — проворчал мужчина из своего темного угла. — Просто вытащи его, и все.
Люси попыталась убедить его еще раз.
— В северной части штата францисканские монахини содержат приют для брошенных детей. Я хорошо их знаю, так что, если они примут от меня ребенка, они не будут задавать вопросов, — уверенно произнесла она. — Нет преступления — нет проблемы. Это более простое решение, — добавила она многозначительно. — Если вы хотите, чтобы я помогла, — это мое условие. Иначе, как я и сказала, мать может умереть, и у вас на руках останутся два трупа. Три — если считать меня, — усмехнулась Люси и решительно вздернула подбородок, хотя вовсе не чувствовала себя так уверенно.
На самом деле у нее бешено стучало сердце, и она задержала дыхание, ожидая ответа. Она рисковала, предположив, что ему не особо хочется убивать эту девушку; тогда все, что нужно сделать Люси, — снять с их подруги клеймо позора и помеху в виде незаконнорожденного ребенка.
Глаза мужчины блеснули в темноте, когда он оценивающе взглянул на медсестру.
— Где находится приют? И сестры заберут ребенка без вопросов? — уточнил он, будто пытаясь заставить ее в этом поклясться.
— Совершенно верно, — не колеблясь ответила она и объяснила, где приют.
— Ни имен, ни сведений, откуда к тебе попал ребенок. Если ты когда-нибудь кому-нибудь об этом проговоришься, мы тебя убьем, — бесцветным голосом заметил мужчина.
— Понятно, — сухо ответила Люси. — А теперь ты можешь выйти из комнаты, чтобы я помогла этой бедной девочке? — Когда он не двинулся с места, она добавила: — Ну, тогда надеюсь, ты не из брезгливых. Тут сейчас будет немного грязно.
Мужчина поднялся и вышел из комнаты. Она слышала, как он что-то сказал второму громиле, что ждал за дверью. Затем их шаги послышались на лестнице.
— Трусы, — буркнула Люси.
Девушка на кровати корчилась от боли, но Люси видела, что от рождения ребенка ее удерживает лишь страх. Когда мужчина покинул комнату, все пошло как надо, своим чередом. Девушка закусила зубами свернутую салфетку.
— Не волнуйся, — Люси ласково дотронулась до ее плеча, но не удержалась и спросила: — Что же это за человек, который так легко может убить младенца? Он женат?
Она сразу же пожалела о своем вопросе. Девушка, похоже, решила, что скоро умрет, поэтому устроила что-то вроде исповеди, виноватым шепотом поведав о своих бедах: отец ребенка не женат, но очень влиятельный человек, гангстер-ростовщик, который вытрясает деньги из профсоюзов. Она не называла имени и только закусила губу с новым приступом боли, потом скосила глаза, чтобы смотреть на Люси, и продолжила тихо и с отчаянием рассказывать свою историю.
— Я знаю, что могу вам доверять. Вы ведь не убьете моего ребенка?
Люси задержала взгляд на умывальнике, чтобы не выдать охватившие ее чувства. После дневного дежурства она часто добровольно оставалась работать в ночные смены, только чтобы не гулять по улицам и не видеть юных мамочек, толкающих коляски с младенцами. А еще для того, чтобы, вернувшись домой, сразу заснуть и не видеть перед глазами небольшое кладбище, продуваемое всеми ветрами.
Девушка на кровати с тревогой ждала ответа.
— Нет, — твердо ответила Люси, начиная мыть руки. — Ребенок не умрет.
Глава 3
ЭМИ
Город Трой, штат Нью-Йорк, 1934 год
Эми Мария беспокоилась. Прошел целый год со времени ее замужества, а она все еще не забеременела. Ее муж Брунон не хотел это обсуждать, а их соседи в северной части штата Нью-Йорк — в основном немецкие и ирландские рабочие — говорили на языках, которые девочка Эми, приехавшая из Франции, не понимала. Ей было восемнадцать лет, и весь ее жизненный опыт сосредотачивался в принадлежавшей им с Бруноном маленькой таверне.
Раньше это заведение было собственностью дяди Эми. Он и ее папа когда-то работали во Франции на пивоварне, но дядя, приехав сюда первым, понял, что в Америке можно больше зарабатывать, продавая в таверне пиво и еду местным рабочим, и поэтому потом уговорил папу. Так что Эми с отцом покинули родной Бурк-ан-Брес, когда ей было всего четыре года, сразу после смерти матери.
Сначала дела у отца и дяди шли очень хорошо. Они жили на берегу реки Гудзон, в городе с красивыми, богато украшенными зданиями девятнадцатого века, которые построили угольные и стальные магнаты. Старая часть города, где располагалась таверна, выглядела как место из волшебной сказки, особенно зимними снежными вечерами. Эми любила библиотеку с восхитительными мозаичными окнами из цветного стекла от Тиффани; декоративные фасады огромных особняков выдающихся личностей, которые основали этот город; готические арки собора Святого Павла и светильники Прекрасной эпохи напротив старых издательств газет, редакторы которых первыми напечатали стихотворение «Однажды ночью перед Рождеством…». Таверна ее отца тоже была частью этой элегантной, величественной архитектуры.
Но сейчас город, по которому все еще блуждали отголоски страшных историй о индейцах и первых переселенцах, утратил былое величие; даже темные викторианские особняки, казалось, заселены потерянными призраками их исчезнувших обитателей.
Эми Марии удалось с помощью дяди выучить английский, но учеба в американской школе у нее не заладилась. Много лет спустя ее особенность назовут «дислексией», но в те ранние годы девочку просто окрестили тупицей. Кроме того, она была близорука, однако и это выяснилось только после того, как доктор школы решил провести обследование зрения у всех учеников. Но к тому времени уже было решено, что из-за плохих оценок Эми должна покинуть школу.
Ее дядя и отец были добры к ней, но не очень-то разговорчивы. Они просто дали девочке работу, и она начала помогать им в таверне. Когда дядя скоропостижно скончался от сердечного приступа, отец стал все больше полагаться в делах на Эми.
Бледную светловолосую девушку в очках поначалу едва замечали в таверне. Она будто мышка шмыгала по залу, спеша на помощь отцу. «Когда-нибудь, Эми, ты выйдешь замуж, — говорил тот, но не слишком уверенно, — и тогда у тебя все будет в порядке».
Но годы шли, а у Эми ничего не было в порядке, даже когда в поисках работы к ним пришел юноша по имени Брунон. Он был рослый, сильный, надежный, но из-за низкого происхождения соседи называли его дворняжкой: корни у него были отчасти польские, отчасти немецкие, отчасти ирландские. Он сам рассказал обо всем этом папе и еще объяснил, что год назад в Пенсильвании лишился всей семьи: они умерли от испанки. Выжил только Брунон. «Я и правда сильный», — заверил он отца, и тот был рад, что кто-то сможет выполнять тяжелую работу.
Но вскоре после семнадцатилетия Эми ее папа умер от менингита.
С того времени как Брунон появился в таверне, он обеспечил свое постоянное присутствие в ее жизни: молча и прилежно трудился, помогая Эми содержать таверну, пока девушка горевала по отцу; позаботился, чтобы счета были вовремя оплачены; чтобы она, как и прежде, могла обслуживать столики во время обедов и ужинов, будто ее папа все еще незримо присутствовал — натирал барную стойку и отгонял от дочери назойливых мужчин. Чтобы свести концы с концами, Брунон в утреннюю смену работал на фабрике, а вечером помогал Эми с баром. Когда он предложил ей выйти за него замуж, ей казалось самым естественным в мире сказать ему «да».
Ни у кого из них не было денег, чтобы устроить медовый месяц. Эми надела белое платье, Брунон — свой единственный хороший костюм с галстуком. Несколько работников с фабрики добросовестно привели жен и детей на венчание в церкви, где всю церемонию раздавались вопли младенцев. Затем гости поужинали за стойкой таверны, и Эми разрезала свадебный торт. Наконец гости, шатаясь, разошлись по домам, а молодые поднялись наверх, в небольшую квартиру над таверной, где Эми всегда жила с папой.
Готовясь к этому дню, она позволила себе купить новые простыни на кровать, ночную рубашку для себя, а для Брунона — купальный халат. Они легли в постель, а затем Брунон забрался на жену сверху и, задрав ей ночную рубашку, сделал с ней нечто такое, от чего она, глубоко шокированная, не могла издать ни звука. Грубое насилие, животные звуки, которые он издавал и которые на высшей точке слились в одном отчаянном яростном крике, — все это показалось Эми кошмаром. Который к тому же длился целую вечность, гораздо дольше, чем она считала возможным. Когда он закончил и резко вышел из нее, ей показалось, что она прокатилась по каменистому горному склону на ужасающей скорости; на следующий день Эми очнулась разбитой, изнасилованной, окровавленной.
Особенно ее расстроили пятна крови на новых простынях, и утром, когда Брунон собирался на работу, она торопливо начала их отстирывать, тихо всхлипывая. Брунон оставался внизу и дулся на нее за то, что ему пришлось самому готовить себе завтрак. Перед тем как уйти на работу, он поднялся наверх и возмущенно высказал ей, что жена не только должна готовить мужу завтрак, но и собирать ему с собой обед.
Когда он увидел ее заплаканное лицо, то сначала покраснел, а затем грубо заявил:
— Не будь ребенком. Этим занимаются все взрослые. Кровь просто означает, что ты — хорошая девочка.
Эми едва могла передвигать ноги, и ей было так больно ходить в туалет, что она терпела весь день. Выйдя замуж, Эми стала мечтать о ребенке. Ей нестерпимо хотелось, чтобы рядом был кто-то, кого она могла бы любить, а он любил бы ее в ответ. Но ночь за ночью она кусала губы и молила Бога помочь ей понять, для чего нужен этот ужасающий, звериный акт; она мечтала о том, чтобы умереть, лишь бы больше никогда этого не испытывать. Каждая последующая ночь была для нее такой же кошмарной, как и самая первая, после свадьбы.
Когда Эми решилась выйти на улицу, потому что необходимо было сходить за покупками, то не могла отделаться от чувства стыда. Несколько знакомых беззаботно пошутили о том, что она стала замужней леди, но что-то в ее затравленном, смущенном взгляде заставило их тоже смутиться.
Даже если папа и хотел при жизни выдать дочь за парня, который на него работает, Эми и не думала спросить отца о некоторых подробностях семейной жизни. У нее не получилось завести дружбу с другими женщинами из рабочих семей, живших неподалеку. Они держались друг друга, собирались тесными этническими группами на порогах своих домов или на крыльце. Им не нравилась девушка-блондинка, которая неожиданно расцвела и приобрела такие формы, которые с удовольствием обсуждали их мужья.
Она наблюдала за соседскими женщинами и размышляла, как же им удается это выносить. Иногда невольно ей удавалось подслушать их разговоры, когда они развешивали белье на заднем дворе. Они делились непонятными фразами насчет женской «повинности», а вечерами мужчины в таверне обменивались пошлыми шутками. И все они вели себя так, будто «это» было самым замечательным делом. Хотя ее не удивляло, что у нее самой были совершенно другие впечатления. В школе, например, она не могла справиться со множеством вещей, с которыми другие справлялись с легкостью. Но она все же не могла вообразить, как святая церковь могла одобрить подобное деяние.
Время шло, и дни были спокойными и мирными. В отличие от ночей.
— Ради бога, Эми, — говорил муж, когда заставал ее плачущей в ванной. — Тебе больно, потому что ты не можешь расслабиться. Чтобы получать удовольствие, необходимо расслабиться.
Как Эми и подозревала, это была ее вина: она опять делала что-то не так и снова оказалась неполноценной. Временами ее занимали странные фантазии: когда она брала нож, она думала о том, как втыкает его себе в грудь; когда она проходила мимо озера, задумывалась, много ли потребуется времени, чтобы утонуть; когда переходила железную дорогу, чувствовала желание броситься под поезд. Но самоубийство — смертный грех, и если подобные супружеские обязанности одобрены Богом, тогда в аду ей придется гораздо хуже.
Но Брунона постепенно начали раздражать шутки о том, что у него есть жена, которая не может забеременеть. Не сказать чтобы он легко мог поднять руку на женщину, и на людях он всегда вел себя прилично. Но когда они оставались наедине, он высмеивал все, что говорила или делала Эми. Поначалу его насмешки были с оттенком нежности, но постепенно они растеряли последние остатки тепла.
— Ты такая тупая, Эми, — мог сказать он, если из дрожащих рук у нее выпадал стакан, или что-то пригорало в духовке, или если она оплатила один счет дважды, потому что не понимала, как он ведет бухгалтерию в таверне. — Где твоя голова? — язвительно спрашивал он. Он постоянно отпускал шутки о ее мозгах, разуме, голове.
А она не знала, как поставить его на место, ведь ее всегда растили тихой и послушной. Брунон приходил уставший с фабрики, но при этом еще работал всю ночь в таверне, и на сон у него оставалось лишь пара часов после закрытия. Но ему часто хватало энергии на этот короткий, жестокий акт в постели.
А затем в один из дней Брунон пришел домой с широкой улыбкой на лице.
— Мы переезжаем в Нью-Йорк, — объявил он за ужином.
— Но мы уже в Нью-Йорке, — машинально ответила Эми, имея в виду штат.
— Ох, Эми, — фыркнул он, — какая же ты глупая! Я имел в виду город на Манхэттене.
— Почему мы должны уехать? — непонимающе спросила она, вся красная от стыда. — Мы же работаем здесь, в папиной таверне.
Брунон ненадолго замолк, отхлебывая пиво.
— Я ее продал, — наконец заявил он торжественно. — И взамен получил очень хорошие деньги. Но что еще лучше, я встретил человека, который хочет, чтобы мы с ним стали партнерами в Нью-Йорке. Мы с тобой будем гораздо богаче, чем в этом прогнившем городишке, и мне больше никогда не придется работать на фабрике. Я смогу помогать тебе днем, чтобы и тебе не пришлось больше так тяжело работать. Видишь, как здорово?
Эми не знала, что подумать или ответить. Ей стало на мгновение больно оттого, что он продал таверну, даже не спросив ее мнения. Отец так долго и с любовью натирал барную стойку из красного дерева, что ей казалось, будто его дух все еще живет в ней. Если она уедет отсюда, она больше не будет знать, кто она такая и кем может стать. Но в ней теплилась надежда, что если Брунону будет больше нравиться его новая работа, то, возможно, она сама тоже начнет ему больше нравиться.
Через неделю они собрали пожитки и сели на поезд до Нью-Йорка. Про себя Эми горячо молила Бога о просветлении: «Пожалуйста, пусть я не буду такой дурой всю свою жизнь. Помоги мне понять, что со мной происходит. Я ничего не понимаю, кроме того, что хочу умереть».
Когда она вошла в вагон поезда, ей показалось, что весь ее мир рушится. Но спустя совсем немного времени в месте под названием Гринвич-Виллидж она обнаружила, что Господь наконец ответил на ее молитвы.
